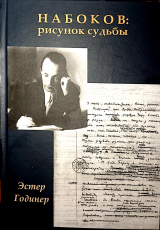
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Воображаемая беседа Фёдора с Кончеевым (а на самом деле – с самим собой) – это испещрённый аллюзиями и реминисценциями стремительный диалог посвящённых,13433 в котором отразился опыт многолетних размышлений Набокова об истории русской литературы и его места в ней. С помощью собеседника и критика Фёдор пунктирно отслеживает тот же маршрут, отбирая для своего «онтогенеза» нужное и отмечая в «филогенезе» успехи и неудачи, требующие осмысления и творческой переработки. Этому процессу сопутствует необходимая Фёдору поддержка и критика: «Итак, – поощряет его Кончеев, – я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов». В немедленном ответе Фёдора – радостное подтверждение догадки Кончеева: «Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы “мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни”». Хотя в кавычках, оказывается, приводится «учтивая цитата» из Кончеева, за что тот учтиво же Фёдора благодарит, – но это не мешает ему в лоб, бесцеремонно, спросить собеседника: а в самом ли деле он по-настоящему любит литературу.13441 В свою очередь, невозмутимо ответив («полагаю, что да») на этот, казалось бы, неуместный вопрос, Фёдор тоже, не без запальчивости, заявляет: «Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком». В ответ его визави изящно парирует эту категорическую установку, возражая Фёдору, «что не всё в дурном писателе дурно, а в добром не всё добро»,13452 приводя примеры и, таким образом, предостерегая оппонента от крайностей и способствуя обогащению его восприятия. Кончеев (он же, в данном случае, проявляющий себя не как молодой поэт, а как многоопытный, второй половины 1930-х писатель Сирин-Набоков) оценивает багаж русской литературы в контексте не только её собственной истории, но и истории мировой литературы: это литература всего-навсего «одного века, занимает – после самого снисходительного отбора – не более трёх – трёх с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола»,13463 – откуда и вышеприведённый вывод о необходимости бережного, экономного подхода, обязывающего ценить и те крупицы «доброго», которые есть у писателей «второго ряда» (приводятся примеры: Гончаров, Писемский, Лесков), – Фёдором, по молодости и неопытности, относимых к целиком «дурным».
Зрячесть, умение создавать зрительный образ – вот что Набоков больше всего ценил в литературе и без чего он не мыслил настоящего писателя. «В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, – если принять ваш подход»13474 – не без иронии, но понимающе комментирует Фёдора Кончеев. Почти столь же радикально, как к Достоевскому, настроен Фёдор к Тургеневу. «Или всё простим ему за серый отлив чёрных шелков, за русачью полежку иной его фразы?» – прохаживается по этому поводу Кончеев.13485 Итог состоявшегося обмена мнениями подтверждает тот тщательный отбор, который впоследствии стал основой литературного кредо Набокова, включавшего совсем немного имён в золотой и серебряный фонд русской литературы. Пушкин, Лев Толстой, Гоголь и Чехов – вот и весь «золотой фонд» – мнение, как можно понять, разделяемое всеми тремя: Фёдором, Кончеевым и их сочинителем, эмигрантским русским писателем Сириным. Далее сообща затронули и поэтический список: Тютчев, Некрасов, Фет и «всех пятерых, начинающихся на “Б”, – пять чувств новой русской поэзии»,13491 – последних Долинин расшифровывает в своём Комментарии: «…то есть пяти крупнейших поэтов Серебряного века: Бальмонта, Андрея Белого, Блока, Брюсова и Бунина».13502
«А теперь что будет? Стоит, по-вашему продолжать?» – на этот заключительный кончеевский вопрос ответ однозначен: «Ещё бы! До самого конца. Вот и сейчас я счастлив… Я опять буду всю ночь…», – «Покажите…» – и они вместе продолжают сочинять начатое на ходу Годуновым-Чердынцевым стихотворение. Несмотря на «позорную боль в ногах» (жмут новые, только что купленные туфли), стихотворение – о вечном, о том, как «вот этим, с чёрного парома … вот этим я ступлю на брег», и Кончеев подсказывает: «…ведь река-то, собственно, Стикс…», а паромщика зовут (в скобках) – Харон.13513
На самом же деле это был «вымышленный диалог по самоучителю вдохновения»13524 – жанр, приём, метод, можно называть это по-разному, но так или иначе в творчестве Набокова что-то подобное всегда присутствовало.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«Ещё летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зелёная, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем, над и перед далёким леском...»13535 – так начинается и в том же духе продолжается вторая глава. И только спустя три с половиной страницы читателю, наконец, объясняют, чтó это было. А было нечто, описанное так, как будто бы речь шла о только что виденном и пережитом: «…прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом углу), прямо из оранжерейного рая прошлого он пересел в берлинский трамвай».13546 Воспоминания, заметим, хоть и относящего героя на девять и более лет назад, но отнюдь не безумного, а напротив, невероятно пристальным взглядом отмечающего малейшие детали на каждой тропинке, ведущей к дому, – там, в имении, где прошли его, Фёдора, детство и юность, где он «отпечатал на краю дороги подошву: многозначительный след ноги, всё глядящий вверх, всё видящий исчезнувшего человека».13557
Теперь же он ехал на урок, через давно постылый ему, чужой город, где даже снег падает не так, как там, «прямо и тихо», – здесь он мокрый и летит косо, и «всё только что воображённое с такой картинной ясностью … бледнело, разъедалось, рассыпалось … и ещё через миг всё это без борьбы уступило Фёдора Константиновича его настоящему».13561 Этот резкий переход к прискорбной эмпирике настоящего, при всей противопоказанности наблюдающему её рассказчику, тем не менее, ничуть не уступая райским воспоминаниям, удостаивается той же дотошности и любовной образности описания, сопровождаемой ещё и обязательной самоиронией: чего стоит, например, внутренний монолог-филиппика «трамвайного» Фёдора, всласть отыгравшегося на «туземном пассажире», но затем восхитившегося саморазоблачением – обнаружением у «туземца» русской эмигрантской газеты «Руль». «Как умна, изящно лукава и, в сущности, добра жизнь!».13572
И даже безнадёжный ученик, к которому едет на урок Фёдор, – старый, усталый еврей, зачем-то пожелавший научиться «болтать по-французски», что было явно нереально, – и тот выписан грустной и изящной миниатюрой, тонкой кистью бережного художника. Но ведь это лишь эпизоды, невольная дань художника «чаще жизни», неизбежной её суете, а ему так хотелось «вернуться домой, к недочитанной книге, к внежитейской заботе, к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь, к сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года».13583 Оказалось, что это очень просто – пренебречь уроком, пересесть на другой трамвай, и вот, он уже «вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня».13594 Этот следующий раунд воспоминаний воспроизводит «необыкновенно выразительный дом», который, как корабль, «плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятья»,13605 а на ступенях веранды – все его обитатели, на блеклой, чудом сохранившейся фотографии, привезённой Фёдору матерью, прошлым Рождеством приезжавшей на две недели к нему из Парижа.
Тогда, в первый же вечер, она снова заговорила о том, к чему постоянно возвращалась почти девять лет, – «что всё больше верит в то, что отец Фёдора жив, что траур её нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае...». Фёдору же, хорошо видевшему, какой ценой даётся матери её стойкая вера, – она говорила об этом «невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чём-то таинственном и ужасном», – чем дальше, тем больше становилось от её слов «и хорошо, и страшно».13611 В совокупности всё это создаёт картину неимоверно затянувшегося, без каких бы то ни было шансов на реальность осуществления надежды, ожидания, – своего рода когнитивного диссонанса, ждущего всё-таки какого-то разрешения мучительной дилеммы, каковую повествователь как будто бы и пытается прояснить для себя, посвящая читателя в логику поиска искомого ответа, делясь с ним своими сомнениями и страхами и вызывая чувство острой сопричастности.
На поверхности, на доступной читателю дистанции видимости, Набоков совершает здесь как бы даже невероятный для него кульбит: кто не знает его отношения к понятию «здравый смысл» как к стереотипу массового сознания, отражающего не более чем обывательскую одномерность взгляда, то бишь несносную пошлость. Но как иначе, если не этим самым пресловутым здравым смыслом объяснить в данном случае попытку героя разорвать гордиев узел невыносимой двойственности переживаемой коллизии: «Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мёртвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может совершить не просто чудо, а чудо, лишённое вовсе (непременно так, – иначе не вынести) малейшего оттенка сверхъестественности?»13622 (курсив мой – Э.Г.). Ответ на этот вопрос даётся совершенно ясный, понятный всякому: в случае с отцом вероятность такого чуда, то есть чуда, соответствующего «земной природе» и «уживчивости с рассудком», с течением времени неумолимо убывает.13633 Иначе – цепляясь за призрачную надежду, «превозмогая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе», воображение будет способно породить лишь призрак, вместо счастья внушающий тошный страх. И Фёдор принимает решение: мечту о встрече с отцом, не согласующуюся с логикой посюсторонности, вынести за её скобки, за предел земной жизни – в потусторонность.13644
На этом любой другой (но не Набоков!), возможно, и поставил бы окончательную и похвально рациональную точку в решении поставленной проблемы, – но её нет, а есть следующий абзац, начинающийся оппонирующим рассуждением: «А с другой стороны…», в котором Фёдор снова отстаивает своё право, вопреки всему, хранить мечту о возвращении отца, даже и не веря в её реальное воплощение, но чувствуя её, тем не менее, неотъемлемой частью своей жизни, «таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей её выше уровня соседних жизней, так что было видно много далёкого и необыкновенного, как когда его, маленького, отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором».13651 Память об отце, его незримое присутствие будут постоянно сопровождать Фёдора, поднимая его восприятие над уровнем повседневности и помогая ему увидеть интересное за её «забором».
Чаще – деликатным, но достаточно прозрачным намёком, иногда же – наотмашь, откровенным прозрением собственного изобретения, – так или иначе, но Набоков не мог не возвращаться к теме, затронутой им в рассказе «Круг» (1934):13662 о вольной или невольной вине части русской разночинной интеллигенции в гибели прежней России, о судьбоносной расплате её за это и глухом барьере «круга», незримо стоящего между лучшими представителями либерального русского дворянства с его прочной системой ценностей, и исторически сравнительно новым социальным слоем разночинной интеллигенции, несущим следы болезненной маргинальности и подверженным извращениям и злокозненным влияниям носителей бациллы ложного мессии Н.Г. Чернышевского.
Когда мать, в тот, прошлогодний приезд, рассказывала Фёдору о муже Тани, его сестры, объясняя, почему «зять не пришёлся ей по вкусу» («…ну, понимаешь, он не совсем нашего круга, – как-то сжав челюсти и глядя вниз, выговорила она»13673), этот эпизод очень напоминает подобный же в рассказе «Круг»,13684 что только подтверждает значимость для автора этого понятия как исключительно важного в социальных и личностных судьбах русских людей. По сходной причине «не совсем удалось» и знакомство Елизаветы Павловны, матери Фёдора, с Александрой Яковлевной Чернышевской, – при всей доброжелательности и сочувствии с обеих сторон. Набоков из деликатности недоговаривает, но очевидно, что «скорбная ласковость» Чернышевской, с какой она встретила мать Фёдора, полагая, «что опыт горя давно и крепко связывает их»,13695 не нашла симметричного отклика у Елизаветы Павловны, подобную связь, похоже, не разделявшей. Недаром «Фёдор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзённого надеждой горя», – но Набоков не был бы Набоковым, если бы и в этом случае не продолжил поиск тайного смысла, контрапунктом связавшего два очень разных «опыта горя». И он, не прерывая фразы, сходу сообщает читателю, что в конце концов этот смысл нашёлся: «…и лишь гораздо позднее он понял всё изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание».13706 «Королларий, – даёт справку Долинин, – производное от латинского corollarium и английского corollary – дополнение, естественное следствие, которое вытекает из предшествующего и потому не требует доказательств».13711 То есть это некий логический вывод, заключение, результат, неизбежное следствие, вытекающее из определённых, заданных предпосылок. В чём состоял этот королларий – читателю не объясняется, но намёк, провоцирующий догадку (а значит, и признающий право на неё), ниточкой, в помощь читателю, протягивается: запрос «скорбной ласковости» и подтверждения общности «опыта горя» со стороны Чернышевской остались фактически невостребованными. Елизавету Павловну интересовало совсем другое: как Чернышевская «относится к стихам Фёдора и почему никто не пишет о них».13722 Её, при всём неизбывном «опыте горя», интересует будущее – у Чернышевских «опыт горя» будущее отнял. Обе семьи потеряли родину – среди прочего, при участии вождей, спекулировавших и на бредовых фантазиях знаменитого однофамильца Чернышевских; однако «опыт горя» у них получился разный: исчезнувший в одичавшей России глава семейства Годуновых-Чердынцевых оставил после себя бесценные научные труды и вдову с сыном, унаследовавшим от отца, в своей, литературной ипостаси, творческий дар, и несмотря на все перенесённые потери, сохранивший способность к самореализации.
Семье Чернышевских пришлось пожинать плоды разрушительных социальных и ментальных тенденций, восходящих к «новым людям» 1860-х, по «учебнику жизни» «Что делать?» освоивших извращённую систему ценностей. Впоследствии, в провоцирующих условиях эмиграции, это привело к гибели сбитого с толку Яши, и к безумию – его отца, в больнице изобретающего защитные средства от призраков самоубийц. Трагический тупик Чернышевских и неистребимая творческая жизнеспособность Годуновых-Чердынцевых, – такова, во всяком случае, возможная трактовка короллария.
Тогда же, за три дня до отъезда матери, возвращаясь с ней с литературного вечера, «Фёдор Константинович с тяжёлым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, ещё неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе».13733 Это новое уже давало о себе знать, оно уже шло ему навстречу: накануне отъезда Елизаветы Павловны, вечером, когда она штопала его бедные вещи, Фёдор читал «Анджело» и «Путешествие в Арзрум» и находил в некоторых страницах «особенное наслаждение», ранее, в юности, ему недоступное: «”Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой”, как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло».13741 И, как нельзя кстати, «в ту же минуту», мать, всегда безошибочно чувствовавшая сына, сказала: «Что я сейчас вспомнила!», – и тотчас последовали счастливые воспоминания об отце и бабочках («Что это было!»), такие в высшей степени уместные, так соотносящиеся с «кольнувшим» Фёдора. Поэтому, проводив мать, он уже был мучим мыслью, что не сказал ей чего-то самого главного. В смутном состоянии вернувшись домой, к чтению: «Жатва струилась, ожидая серпа», – он опять ощутил этот «божественный укол!»,13752 подсознательный предвестник этого самого «главного». Так посвящает нас повествователь в самые тайны зарождения нового творческого импульса, и только теперь мы начинаем понимать, к какому «сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года», сбегал в начале этой главы, десятью страницами раньше, необязательный учитель от безнадёжных учеников.
«Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона – и уже знал, чего именно этот звук от него требует», – о чём Фёдор и написал матери «про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм “Арзрума”, и она отвечала так, будто уже знала об этом».13763 Герой писателя Сирина «питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются лёгкие в объёме»13774 – весной 1927-го романного года, когда не совсем ещё истаяли надежды на возвращение в Россию. Самому же его сочинителю пришлось искать в Пушкине поддержку куда как в более лихие времена – в Германии, при Гитлере, и под стенания поэтов и критиков «парижской ноты», Пушкина отпевавших, и ему же, не по адресу, слепо мстивших за переносимые ими тяготы, в которых если кто и был повинен, то не он, а восприемники сомнительного наследия Чернышевского, чей след имелся и в мировоззрении хулителей Пушкина по рецептам адептов «Чисел».
Автор не снисходит до прямой полемики с ними – ей здесь не место, она бы только осквернила самоё атмосферу повествования, посвящённого заданной в ней двойной и сакральной теме: Пушкина и отца. Однако сам по себе приподнятый тон рассказчика – «от задуманного труда веяло счастьем», «у пушкинского читателя увеличиваются лёгкие в объёме», – наступательный его характер – «Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами “Пугачёва”, выученными наизусть», – передача «состояния чувств и «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца».13785 Эта краткая, в двух лаконичных фразах констатация завершает описание первой, «пушкинской» волны вдохновения: от начального симптома «что-то сильно и сладко кольнуло», за три страницы текста и полгода романного времени, нарастающего до апогея «в неясных видениях первосонья». И тут же, без перерыва, вдогонку, автор обрушивает на читателя новую мощную волну, на этот раз присовокупив к уже, казалось бы, предельному воодушевлению, ещё и «голос отца». Теперь, через полгода усиленного тренажа на пушкинском треке, Фёдор «без отдыха, с упоением ... по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешёл к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца».13791
Перед нами, таким образом, предстаёт своего рода отчёт о проделанной работе, и намечаются более или менее ясные её перспективы. Похоже, Фёдор не зря надеялся, что «от задуманного труда веяло счастьем». Он, как и автор, проявляет себя замечательным самоучкой, готовясь написать «самоучитель счастья», альтернативный «учебнику жизни» по Чернышевскому, счастья никому не принёсшего. Но не только читателю, ему самому об этом предназначении нынешнего труда пока ничего не известно. Ему ещё рано об этом знать – пусть пока наслаждается, одновременно обучаясь пушкинскому слову и восполняя воображением ту мечту об участии в отцовской экспедиции, которая так и не состоялась. Его же попечитель, писатель Сирин, позаботится о том, чтобы недописанная сыном биография его отца – выдающегося натуралиста, путешественника и энтомолога Константина Кирилловичв Годунова-Чердынцева, Пушкина любившего и пушкинским гением обогатившая писательский опыт младшего Годунова-Чердынцева, – станет ему опорой и защитой в противостоянии скверне выродившихся в духовное убожество, безнравственность и терроризм прекраснодушных мечтаний о всеобщем равенстве и счастье.
«Учёные книги … знакомые тома “Путешествия натуралиста” … лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск».13802 И Фёдор нашёл его, нужный ему «отблеск», – вернее, по крайней для себя необходимости, он его нафантазировал, сославшись на вымышленные «Очерки прошлого» выдуманного им мемуариста, некоего А.С. Сухощокова.13813 В этих (вымышленных) мемуарах «между прочим», обнаружились две-три страницы, в которых фигурирует в странной роли его, Фёдора, дед Кирилл Ильич. «Говорят, – писал Сухощоков, – что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает её, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия ещё долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи...», – и особенно волнуют Сухощокова, (а за его маской – Набокова) трагические мысли Пушкина о будущем: «Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность – была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить!».13821 И в качестве доказательства своего тезиса о жизнелюбии Пушкина Сухощоков приводит стихотворение, якобы собственноручно записанное Пушкиным в альбом его тётки: «О нет, мне жизнь не надоела, / Я жить хочу, я жизнь люблю. / Душа не вовсе охладела, / Утратя молодость свою. / Ещё судьба меня согреет, / Романом гения упьюсь, / Мицкевич пусть ещё созреет, / Кой-чем я сам ещё займусь».13832
Трактовки этих двух четверостиший значительно расходятся. Если Долинин видит в них всего лишь использованные Набоковым черновые наброски Пушкина, во втором четверостишии представляющие собой ещё и определённую стилизацию, то С. Сендерович, напротив, решительно настаивает на том, что это выраженная «мистификация, пастиш, включающий строки, напоминающие пушкинские и слепленные в тоне и настроении и даже ритме, противоположном стихотворению Пушкина “Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?” 1828 года (бойкий ямб пастиша в противоположность меланхолическому хорею Пушкина). Мистификация и по смыслу, и по интонационному строю скорее напоминает отповедь, которую дал Пушкину митрополит Филарет, усмотревший в его стихотворении плод неверия и безнравственной жизни. Филарет ответил поэту стихами: “Не напрасно, не случайно, Жизнь от Бога мне дана…”».13843
Так или иначе, но здесь воспроизводится попытка, по смыслу аналогичная той, о которой выше уже говорилось в связи со сценой во «Втором приложении к “Дару”», где Фёдору подростком якобы случилось услышать мнение отца о стихотворении «Дар напрасный, дар случайный…», – с той разницей, что на сей раз ни Фёдора, ни его отца автор предпочёл к этой явной передержке в оценке взглядов Пушкина на жизнь как на дар не/напрасный и не/случайный не приобщать, – а препоручил это вымышленному персонажу, на него ответственность за эту операцию и переложив. Что, вдобавок, дало и дополнительный простор для манёвра: Сухощоков не только приводит стихотворение, записанное якобы рукой Пушкина и опровергающее по смыслу общеизвестное «Дар напрасный…», – он ещё и рассказывает о мистификации, в своё время, шутки ради, устроенной его братом деду Фёдора, Кириллу Ильичу, который совсем молодым уехав в Америку, вернулся в Петербург только в 1858 году, и его решили разыграть, сказав, что Пушкин жив. Увидев в театре, в соседней ложе, пожилого человека, чем-то похожего на Пушкина, брат Сухощокова новоприбывшему путешественнику за Пушкина его и выдал, впрочем, не слишком его этой новостью заинтересовав. Однако для молодого литератора-дилетанта, каким был тогда будущий мемуарист, эта «шалость» обернулась чуть ли не наваждением: «…я не в силах был оторваться от соседней ложи... Что если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощажённый пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения… Седой Пушкин порывисто встал и, всё ещё улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи».13851
Таким образом, спрятавшись за маской молодого, чувствительного Сухощокова, Набоков позволил своему воображению отринуть смерть Пушкина как роковую, судьбой однозначно предначертанную: а может быть, не была она неминуемой, и рулетка случая, обернувшись удачей, могла бы его спасти? Эта навязчивая идея не была для писателя Сирина новой – он делился ею со слушателями ещё в докладе о Пушкине, прочитанном в Берлине 6 июня 1931 года: «И снова возвращается мысль к погибельной его судьбе, к быстротечности его жизни, и хочется предаться пустой грёзе, – что было бы, если бы… Что было бы, если бы и эта дуэль … окончилась благополучно? Можем ли мы представить себе Пушкина седым … старого Пушкина, дряхлого Пушкина. Что ждёт его на склоне лет, – мрачные тени бесталанных Писаревых и Чернышевских, или, быть может, прекрасная дружба с Толстым, с Тургеневым? Но есть что-то соблазнительное и кощунственное в таком гадании…».13862
Симптоматично, что сразу после слов Сухощокова «седой Пушкин … быстро вышел из ложи» – следует абзац, начинающийся фразой: «Сухощоков напрасно рисует моего деда пустоголовым удальцом».13873 Это Фёдор, – вместо с нетерпением ожидаемого от него читателем комментария по поводу только что им прочитанной удивительной фантазии мемуариста, – вместо этого он сходу ринулся опровергать Сухощокова, обвиняя его в порче репутации деда, и срочно озаботился обеспечить ему алиби, дабы не подумали, что Кирилл Ильич каким-то образом дискредитирован, оказавшись лёгкой добычей розыгрыша легкомысленной петербургской молодёжи. Обрисовав, в абзаце на целую страницу, дальнейшую, во всех отношениях достойную жизнь и карьеру деда, повествователь, таким образом, защитил честь семьи и представил жизнеописание своего предка достойным мостом в переходе к началу изложения биографии отца. Так Набоков нашёл способ, с одной стороны, донести до читателя накипевшее в нём о Пушкине, а с другой – дистанцироваться от упрёков в чрезмерном пристрастии к «пустым грёзам» и мистификациям на грани буффонады, переадресовав их вымышленному персонажу (и даже деда героя, приобщённого к этой истории, на всякий случай оградив от какой бы то ни было за неё ответственности).
«Набоков, – пишет Бойд, – хотел (и это было одним из самых заветных его желаний) отдать дань любви своему необыкновенному отцу, не вторгаясь при этом в собственную личную жизнь. Он нашёл следующее решение: пусть Фёдор напишет воспоминания о своём отце, таком же незаурядном и смелом человеке, как Владимир Дмитриевич, – кстати, Елена Ивановна позднее признается сыну, что Годунов на удивление точно уловил каждую чёрточку в характере её мужа, – но снискавшем известность не как государственный деятель и публицист, а как лепидоптеролог и исследователь Средней Азии».13881 Начав с развёрнутой энциклопедической справки: «Она ещё не поёт, но живой голос я в ней уже слышу»,13892 – Фёдор в день рождения отца, 8 июля, пишет письмо матери с просьбой написать «что-нибудь о нём и о себе», и приводит большой отрывок из её ответного письма.13903 Так мы узнаём, каково быть женой знаменитого учёного и путешественника: «…мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастие было одной из красок счастья».13914 Зина Мерц, на предпоследней странице романа, предвидит то же самое в её будущей жизни с Фёдором, сыном своего отца, будущим знаменитым писателем: «Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но в общем-то мне всё равно, иду на это».13925
В детстве Фёдор «переживал все путешествия отца, точно их сам совершал»; он вспоминает «блаженство наших прогулок … какой поистине волшебный мир открывался в его уроках!», – когда отец учил его видеть природу так, словно она «придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека».13936 Теперь же сам Фёдор-повествователь самозабвенно обрушивает на читателя поток энтомологической информации, нимало не заботясь, подхватит ли этот поток несведущего в лепидоптере читателя, удержит ли его на плаву или начнёт топить, побуждая тонущего раздражённо перелистывать ненужные ему страницы, – но нет, спонтанной, напирающей силой этого текста, перенасыщенного специальной, но почему-то невероятно увлекательной, ювелирно-тонкой игрой, – бессильного, беспомощного читателя этот поток невольно подхватывает и уносит, мгновенно заражая захватывающим интересом к чудесам окружающего нас мира и страницами удерживая его в плену казалось бы сугубо профессионального, энтомологического энтузиазма. Впрочем, здесь стоит припомнить Фёдору его же признание, что в юности он целые страницы пропускал иногда в «Арзруме», и только в последнее время именно в них научился находить особенное наслаждение.13941 Из этого следует, что – сознательно или нет, – но во всяком случае на практике, начинающий, молодой прозаик Фёдор Годунов-Чердынцев уже усвоил формулу своего кумира и учителя А.С. Пушкина: Творец должен быть верен только своей музе, а поймёт или не поймёт его тот или иной читатель – забота суетная, вечности непричастная.
Первое на виду, огромное «профессиональное» обаяние отца, при всей его яркой выраженности, отражает, однако, по мнению Фёдора, лишь часть его неповторимого образа: «Его поимки, наблюдения, звук голоса в учёных словах, всё это, думается мне, я сберегу. Но это так ещё мало. Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что, быть может, я всего более любил в нём: его живую мужественность, непреклонность и независимость его, холод и жар его личности, власть над всем, за что он ни брался».13952 Фёдор отмечает не только уникальность открытий отца и вне энтомологии, сделанных им «точно играючи», не только славу его «во всех концах природы», – но и то, как была ему свойственна «та особая вольная сноровка, которая появлялась у него в обращении с лошадью, с собакой, с ружьём, птицей или крестьянским мальчиком с вершковой занозой в спине, – к нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его таинственное занятие как знахарство».13963 Здесь приоткрываются, – и это только начало, – те свойства характера и личности Константина Кирилловича, которыми Фёдор и дальше будет пополнять его образ, и которые, в совокупности, он в конце концов сочтёт частью его непостижимой тайны, хотя в наше время это особого рода обаяние, хорошо ощущаемое людьми и вовлекающее их в сферу влияния и даже власти обладающего им человека, обычно определяют понятием «харизмы».








