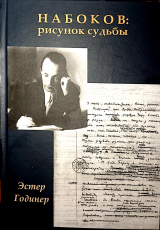
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
По дороге на встречу с Дарвином, глядя по сторонам, он опять был вынужден уверять себя: «Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Написав письмо матери, он дважды перечитал, «и почему-то сжалось сердце, и прошёл по спине холод».7274
Попытка Мартына объяснить Дарвину цель своего предприятия не удалась – автор и герой уверяют нас, что это уже не тот, прежний, кембриджский Дарвин, а взрослый, устроенный, довольный своей карьерой человек, с невестой и прекрасными деловыми перспективами на будущее. Однако добрый старый друг Дарвин всё же как будто бы искренне пытается понять Мартына: «…какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие… Что за ерунда… Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж… Какие дурацкие разговоры».7285
Читателю, по замыслу автора, по-видимому, полагается в данном случае быть на «романтической» стороне: «Ты всё не то говоришь, – сказал Мартын. – Я думал, ты всё сразу поймёшь». И Дарвин ведь действительно не дядя Генрих с его сугубо мещанским, обывательским кругозором, его как будто бы и упрекнуть не в чем: он просит Мартына или рассказать ему всё толком, или признаться, что шутит. Однако Мартын находится уже по ту сторону состояния, которое обычно называется здравым смыслом: «Всё в Мартыне было необычайно … какое-то новое, надменное выражение глаз, и странные тёмные речи».7291 И до дальнейшего объяснения он не снизошёл: «Я тебе всё сказал… Всё. И мне теперь пора».7302
Если Мартын так легко распознал нового Дарвина, то как мог Дарвин не увидеть разительных перемен в облике Мартына – этой глубокой отрешённости, выдающей человека, обуянного чем-то, что выносит его за скобки сколько-нибудь адекватного восприятия жизни. О каких шутках здесь можно говорить? Трудно поверить, что Дарвин, не раз доказывавший свою способность к чуткости и проницательности, а также решительности и быстроте действий, ничего не заметил и попросту «зевнул и отвернулся к стене».
Более того, в ответ на беспрецедентное и двукратное «прощай» Мартына он повёл себя до пародийности нелепо – автору требовалось во что бы то ни стало дать Мартыну время уйти, и он не пожалел для этого пожертвовать достоверностью реакции Дарвина. Всегда быстрый и сообразительный, он вдруг повёл себя как безнадёжно заторможенный тупица, – пока он не понял, как далеко зашли квази-романтические фантазии его друга. Поняв, он сделает всё, чтобы перехватить его след. Но будет поздно, так же как запоздалыми будут слёзы Сони, ради которой Мартын пошёл на этот, неожиданный и непонятный по словам её отца, «подвиг».7313
Подвиг ли? Следовать ли «тирании автора» (который, кстати, никогда и ничьей тирании не следовал, а, невзирая на авторитеты, позволял себе порой разносную критику во всю силу свойственной ему «вербальной агрессии») или прислушаться к протестному чувству, вызываемому навязанной автором логикой характера и поступков героя? Мечта детства Мартына – таинственный лес и в нём тропинка – выродилась в двадцать четыре незаконных часа на территории Зоорландии; и всё это только для того, чтобы потом рассказать об этом Соне, которая должна восхититься и перестать, наконец, дразнить его больное самолюбие, – и, напротив, может быть даже и полюбить, как Дездемона полюбила Отелло – за муки. Риск – смертельный – автор, по-видимому, считает оправданным тем, что, как он признаётся, «умышленно не присоединил таланта» к другим достоинствам своего героя, а без таланта не видать Мартыну и «утоления зуда бытия», жизнь не в жизнь, и лучше предпочесть ей «свой собственный маленький подвиг в сияющем, всеобъемлющем ореоле».7321
«Слава лучистого мученичества»7332 – ещё один эпитет, которым Набоков в том же Предисловии награждает поступок Мартына, очевидно стоивший ему жизни. Но на мученичество можно идти только самому, на мученичество нельзя посылать другого, даже если этот «другой» – всего лишь плод творческого воображения автора, «раб на галере», вместо него отправленный осуществить навязчивую и губительную идею. И какая слава в таком мученичестве? Напороться на пулю полуграмотного пограничника, для которого он – всего лишь цель на мушке? И всё из-за того, что его довела до маниакального состояния шизогенная Сонечка? Но тогда вся эта история превращается из героической в психиатрическую. И даже «раб на галере» может восстать – через восприятие иного читателя, усмотревшего в авторской воле жестокий самосуд.
Итак, попробуем подвести итоги.
Во-первых, исходный посыл автора, что само по себе отсутствие таланта (если таковое вообще доказуемо в отношении молодого человека с неуёмной фантазией и двадцати одного года отроду) является достаточным стимулом для задуманного предприятия ввиду невозможности иначе «утолить зуд бытия», – этот аргумент не может быть принят как состоятельный. Никак не похоже, чтобы «мечтательная жизнерадостность» и «блаженство духовного одиночества» Мартына были бы как-то особенно озабочены вольным ещё, по молодости, порханием без выраженного, определившегося профессионального призвания.
Именно поэтому, во-вторых (но по значимости – первостепенно), понадобилась Соня Зиланова, на протяжении трёх лет запускавшая своё жало в самое уязвимое, что было в Мартыне, – в его самолюбие. Полагая, что тренирует свою волю, он на самом деле стал жертвой чужой, безответственной и злокозненной, доведшей его до состояния, близкого к зомби.
В-третьих, чтобы тем вернее подтолкнуть героя к заданному финалу, автор постепенно отдаляет его от всех, кто составлял его ближайшее окружение, и оставляет в совершеннейшем одиночестве, на съедение вампирке Сонечке: мать выходит замуж за чуждого и неприятного Мартыну дядю Генриха, Дарвин и остальные приятели Мартына разъезжаются кто куда. Ему начинает казаться, что его вообще никто не любит и он никому не нужен, а это уже клинические признаки глубокой депрессии. У него нет никого, с кем бы он мог поделиться самым сокровенным – тем, чем он действительно живёт, от чего страдает и к чему стремится (здесь пригодилось стоическое материнское воспитание, доверительные отношения практически исключающее). Из тупика этой герметичности ему видится только один выход – в никуда. Дарвин застаёт Мартына в состоянии, уже необратимом. То, что он собирается сделать, – это не подвиг, это лишь призрак подвига, извращённое его подобие, порождение гордыни пустого горения и отчаяния, которое тщится придать псевдозначимость трагически бессмысленному, бездарному поступку несчастной жертвы шизогенного анамнеза. Не побуждение, а клиническое принуждение пришлось применить автору, чтобы загнать героя в зоорландский капкан.
И бедному, доброму, благородному, великодушному Дарвину приходится идти вестником этого послания через еловый лес – к матери Мартына.
P . S .
Через четыре года Набокову придётся писать роман о герое, также обладающему даром «блаженства духовного одиночества» и даже покушающемуся на писательство, но ему уже не надо будет делать никаких усилий, чтобы оказаться в Зоорландии и получить от автора «Приглашение на казнь». «Романтический век» не состоялся: «потерянное поколение» Первой мировой войны и его «послевоенная усталость», высмеянные Набоковым в «Подвиге», доказали себя не пустыми обывательскими клише или праздными выдумками мрачных историософов. Они были следствием более чем реальной посттравмы и повлекли за собой шлейф пацифизма, позволивший Гитлеру навести тень Зоорландии на всю Европу. Набокову, чтобы дальше жить и творить, пришлось освоить «другие берега» и перейти на английский. Но, к счастью для его русскоязычных читателей, обстоятельства и оптимизм удержали его по эту сторону океана до воплощения «Дара». Рискуя, не желая считаться с «дурой-историей», он до последнего защищал свою творческую лабораторию со своим, автономным освещением.
Р.Р.S.
Спустя тринадцать дет после написания «Подвига», в марте 1943 года, в письме своему американскому другу, известному литературному критику Эдмунду Уилсону, русско-американский писатель Набоков задним числом дал этому произведению совершенно уничтожающую, оскорбительно уничижительную оценку, цитировать которую мы воздержимся.7341 Оправданием «Подвига», тоже задним числом, может служить то состояние невыносимой ностальгии, когда надежды на возвращение уже не осталось и справиться с ней можно было разве только судорогой воображаемого экзорцизма, функцию которой и выполнил этот роман. Но он всё-таки перевёл его и опубликовал – не пропадать же добру.
«ОТЧАЯНИЕ»: СОФИСТУ ПРИШЛОСЬ ХУДО
Этот роман Набоков написал в рекордные сроки – едва ли не за полтора месяца (черновик: август – середина сентября 1932 года). И первые две главы (тридцать четыре страницы), «Сирин в ударе, собранный, артистичный», уже 14 ноября того же года читал в переполненном зале, в Париже.7351 «Все сошлись на том, – заключает Бойд, – что вечер был сиринским триумфом».7362 «Всё доходило… – пишет Набоков жене через день, по свежим следам, – публика была хороша, прямо чудесная. Такое большое, милое, восприимчивое, пульсирующее животное, которое крякало и похохатывало на нужных мне местах и опять послушно замирало».7373 «Доходит до меня, – добавил он в следующем письме, – даже эпитет, начинающийся на г, дальше е, потом н, так что раздуваюсь, как раздувался молодой Достоевский».7384
Набоков обольщался: в эйфории успеха он не расслышал другие – и совсем не комплиментарные – смешки в зале. Вскоре обнаружилось, что и читатели, и критики затрудняются понять, зачем вообще понадобился автору такой сюжет и такой герой. «Отчаяние» – роман-айсберг, и что действительно кроется за нелепой фабулой истории убийства, совершённого якобы «искусства» ради, можно увидеть, только нырнув в те глубины, где, в далеко не прозрачной воде, ведутся запутанные игры многоадресных пародий и громоздятся рифы из множества подразумеваемых автором аллюзий, реминисценций, отсылок и параллелей: от материалов дела о «двойниках» времён Монтеня до уголовной хроники берлинских газет, от философии того же Монтеня до Кьеркегора, от героев Пушкина, Гоголя и Достоевского до казусов эмигрантской и советской литературы.7395 Но и это ещё не всё: есть тёмная, придонная глубина, где обитает только он сам – автор, в доведённой до запредельного абсурда автопародии, выясняющий отношения и сводящий счёты с самим собой.
Разобраться в этой мешанине и найти в ней «нить Ариадны» (и есть ли она, и одна ли?) – над этим специалисты бьются до сих пор (что уж говорить о «простом» читателе, если таковой вообще способен выдерживать непосильную нагрузку набоковских погружений в тайны человеческой натуры).
«Не случайно, – отмечает Н. Мельников, – многие современники Набокова, его эмигрантские собратья по литературному труду, восприняли “Отчаяние” как откровенно фантастическую, целиком “выдуманную” историю». В сноске он ссылается на мемуары В. Яновского – одного из присутствовавших на нашумевшем чтении: «Нам “Отчаяние” не могло нравиться. Мы тогда не любили “выдумок”. Мы думали, что литература слишком серьёзное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься. Когда Сирин на вечере (в зале Лас Каз) читал первые главы “Отчаяния” … мы едва могли удержаться от смеха».7401 Что именно так рассмешило слушателей, из этой цитаты понять трудно, так как за многоточием осталась странно опущенной как раз самая важная часть фразы: «…о том, как герой во время прогулки с л у ч а й н о (разрядка в тексте Яновского – Э.Г.) наткнулся на своего “двойника” (что-то в этом роде)».7412 И в самом деле, в обыденной реальности шансы на такую встречу, очевидно, смехотворны, однако герой, находящийся во власти своего воображения, рисует себе другую «реальность»: совершенного сходства, идентичности, двойничества, за что он жестоко поплатится и что обозначено в заглавии романа.
Не только на слух, но и в первом прочтении уловить и освоить подлинное значение и символику этой встречи, ключевой в завязке романа, – здравый смысл неизбежно будет противиться этому. Однако автор напрягал своё воображение не пустой фантасмагории ради, а взял на себя крайне «серьёзное дело»: провести большие манёвры, генеральную уборку в своём творческом хозяйстве – со всеми его литературными, философскими и мировоззренческими проблемами, расчистить место и промыть горизонты для проверки компаса перед дальнейшей навигацией, как выяснилось вскоре – через биографию Чернышевского (с перерывом на «Приглашение на казнь») – к «Дару».
«Отчаяние», если в двух словах, – это роман-поиск о критериях, отличающих подлинного творца от его карикатурного подобия. Герой романа, по точному определению М. Маликовой, «важен был Набокову не для игры в кошки-мышки с ненадёжным повествователем, а для объективации собственных писательских проблем».7423 Похоже, что масштабов этой задачи никто из современников оценить не смог. Индикаторы этого – узкие ракурсы критики, затрагивающие лишь часть спектра высвеченных автором вопросов, на которые он искал ответы. Самое поразительное, что никто из тогдашних критиков, как будто по сговору умолчания, даже не упомянул о том, что при чтении романа бросалось в глаза с первого взгляда, а именно: что жанр «человеческого документа», так давно и настырно навязываемый страдальцами «парижской ноты» (особенно воинственными адептами «Чисел»), и столь же давно Сириным презираемый и отвергаемый, – наконец-то нашёл себе образцово-показательное применение в многострадальной повести героя романа, «гениального новичка» Германа Карловича (правда, подпорченной пародийными интонациями автора романа).
Г. Адамович признал «Отчаяние» «самым искусным созданием Сирина», увидев в нём «подлинно поэтическое произведение», «поэму жуткую и почти величественную» – «литература эта, бесспорно, первосортная, острая и смелая». В итоге, однако, автору был вынесен приговор: «Но нигде, никогда ещё не была так ясна опустошённость его творчества… Сирин становится, наконец, самим собой, т.е. человеком, полностью живущим в каком-то диком и странном мире одинокого, замкнутого воображения без выхода куда бы то ни было, без связи с чем бы то ни было». Похоже, красноречиво и пугающе – только адресом Адамович ошибся: последнее определение относится всё-таки не к автору, а к герою. Сирин, заключает Адамович, вопреки традиции русской литературы, вышел не из «Шинели» Гоголя, а из его же, но «безумной», холостой, холодной линии «Носа», подхваченной «Мелким бесом» Ф. Сологуба.7431
Даже опытные и расположенные к Набокову критики – В. Ходасевич, В. Вейдле – как будто ходили вокруг и около, не решаясь дать сколько-нибудь определённый ответ на вопрос: кто же он, герой «Отчаяния»? Они невольно сосредотачивались на том, что как нельзя более было близко и понятно им – на муках и сомнениях творчества, – и поддавались эмпатии к Герману Карловичу (чуть ли не как к коллеге) и/или отчасти всерьёз ассоциировали его с автором. Такой «наивный», «нелитературный» код чтения, характерный, как правило, для сторонников жанра «человеческого документа» (каковыми указанные критики не являлись), Маликова называет металитературной аллегорией, или, выделяя курсивом, – аллегорией художника.7442 Подобный подход не то, чтобы игнорировал одержимость героя идеей убийства «двойника» и саму сцену убийства, но, пользуясь общим символистским контекстом романа, как бы дематериализовал, затушёвывал, списывал на жанр притчи, иносказания.
Оправдание такого прочтения Маликова находит как раз в специфике описания сцены убийства, «поскольку этический элемент в ней снят её фрагментацией: подробное, мелочное описание бритья Германом Феликса, подстригания ему ногтей, переодевания, наделяет эти действия особым смыслом, который мы не можем понять, так как к нему нет ключа, но это необъяснимое углубление смысла превращает телесные жесты в текст. Таким образом, двойничество и убийство становятся аллегориями литературности»7453 (курсив Маликовой – Э.Г.).
На первый взгляд, чем-то похожим может показаться высказанное ещё в 1968 году мнение Карла Проффера: он тоже видит проблему в «ключах», не позволяющих ясно понять, состоялось ли на самом деле убийство, или это плод больного воображения героя. Однако Проффер специально оговаривает, что эта трактовка относится не к оригиналу, а к значительно ревизованной в авторском переводе его версии – «Despair», где Набоков, с помощью намеренной редакции образа, выставил своего протагониста на суд американского читателя почти клинически выраженным безумцем, живущим в мире своих аберраций. Соответственно и убийство, заключает Проффер, может показаться настолько «мистическим», что трудно быть вполне уверенным в его совершении; тем более, добавляет он, что на последней странице дневника героя датой значится 1 апреля, в сознании американского читателя – непременный День дурака. Набоков так преуспел, полагает Проффер, показать мир Германа как некий мираж, что понять, где проходят границы иллюзии, невозможно.7461 Всё повествование, в таком случае, при желании допускает искомое Маликовой понимание двойничества и убийства как металитературной аллегории.
Крайне сомнительно, однако, что аргументация Проффера, в какой-то степени убедительная в отношении американского читателя «Despair» (скорее всего, носителя здравомыслящей протестантской этики), применима для «Отчаяния» Сирина и его литературных и мировоззренческих ориентиров начала 30-х годов. Картина убийства описана с холодной достоверностью, достойной документального фильма, зримо, растянуто, как в замедленной съёмке, с подробнейшими деталями и с отвратительным, очевидно, намеренным, провокативным натурализмом. Автор явно ждёт от читателя впечатления реальности происходящего действа. И совершенно непонятно, каким образом «этический элемент» в этой сцене может быт «снят» тем, что Маликова называет «фрагментацией»: подробным описанием стрижки, бритья, переодевания и т.п., то есть циничной, рассчитанной до мелочей подготовки бездомного бродяги к тому, чтобы его труп максимально походил на его убийцу, господина обеспеченного и ухоженного. Какие ещё нужны «ключи», какое «необъяснимое углубление смысла» мог внести здесь автор, чтобы освободить убийцу от этической ответственности и превратить, по настоянию Маликовой, «телесные жесты в текст».7472 Приводимый в подтверждение этого, крайне надуманного тезиса, пример чёрного юмора Набокова из предисловия к «Despair» – о том, что сама сцена убийства может «доставить читателю немало весёлых минут», в том же предисловии соседствует с определением Германа как «душевнобольного негодяя», которого «никогда ад не отпустит … ни под какой залог».7483 На этом, по-видимому, вопрос об отсутствии этического элемента в сцене убийства можно закрыть.
То, что Ходасевич не может, не решается отказать герою в звании художника (для него он – «не просто убийца, а художник убийства… Драма Германа – драма художника, а не убийцы… Герману суждено худшее из сомнений, достающихся в удел художнику, сомнение в своей гениальности»), – вопрос его личного восприятия, но вряд ли им стоит воспользоваться как образцом адекватного и сулящего какие-то новые перспективы исследовательского «кода». Тем более, что и Ходасевич, в конце концов, не вполне последовательно, но всё же признаёт, что «ложный гений разоблачён как банальный убийца»,7491 – иначе пришлось бы предположить, что критик каким-то образом забыл о действительно худшем из возможных человеческих сомнений, неважно, художника или нет, – сомнении в запрете «проливать красненькое», как выразился в первых же строках своей документальной повести её герой.
Ходасевичу вторит В. Вейдле, задающий риторический вопрос о смысле романа: «…разве всё это не сводится к сложному иносказанию, за которым кроется не отчаяние корыстного убийцы, а отчаяние творца, неспособного поверить в предмет своего творчества?».7502 На Вейдле, в свою очередь, ссылается Мельников, изъявляя своё с ним согласие и присовокупляя сюда же солидарное с Вейле мнение Г. Струве: «Основоположная тема Набокова, тесно связанная с его эгоцентризмом, – тема творчества… Тема эта для Набокова – трагическая … ибо она связана с темой неполноценности».7513
Как уже выше упоминалось, в предисловии к американскому, 1966 года, изданию перевода «Отчаяния», Набоков дал своему герою краткое, недвусмысленное определение «душевнобольного негодяя», которого «никогда ад не отпустит … ни под какой залог».7524 В сноске к интервью, данном Набоковым в том же году А. Аппелю, приводится примечание, согласно которому в этом новом издании пересмотрен не только перевод, но отчасти и смысл самого романа.7535 Это было сделано, прежде всего, в целях большей литературной релевантности романа для американского читателя, но и, заодно, для достижения большей ясности его понимания.
Так или иначе, но вряд ли нам придётся усомниться, что Сирин 1932 года, так же как, в конечном итоге, и Набоков 1966-го, подразумевал в образе Германа Карловича, через все хитросплетения его пародийно-спекулятивной философии, не только «мелкого беса», профанирующего искусство,7541 но и в прямом, а не иносказательном смысле убийцу.
* * *
«Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью … не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врождённой склонности к непрерывному творчеству я обязан тем… Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом… Но, как говаривал мой бедный левша, философия – выдумка богачей. Долой».7552
Так начинается роман. Что можно понять из этих истерически захлёбывающихся стенаний сослагательного наклонения (если принять за данность, что «дорогой читатель», к которому сходу, с непрошенной доверительностью, «по-достоевски», обращается герой, не обязан тут же, как фокусник-эрудит или профессиональный филолог, вытаскивать из кармана памяти соответствующую аллюзию – в конце концов, литературное произведение должно быть понятно и из самого себя, – к тому же в пыли генеральной уборки автора на каждый чих не наздравствуешься. Книжки продаются для читателей и должны быть понятны даже мальчику из андерсеновской сказки, узревшему «новое платье короля»).
После этого невольного, тоже сходу и в сердцах, выяснения отношений – то ли с автором, то ли с рассказчиком, то ли с ними обоими, продолжаем – спрашиваем: чтó «не случилось бы»? И что это за нелепое, глумливое сравнение нарушителя закона «проливать красненькое» с поэтом, с артистом – слегка передёрнутое подражание лаврам Раскольникова? Непонятно ничего, кроме того, что сразу заявляющий о себе, залихватски самоуверенный рассказчик то ли написал, то ли ещё только собирается написать повесть о чём-то, что уже произошло. Таковы нарочито невразумительные первые строки романа, и они же, как окажется (но только при повторном чтении), часть перепрыгнувшего в его начало вполне вразумительного и прискорбного финала: неудавшейся повести и судьбы героя. Читателю же придётся одновременно осваивать и то, и другое – и роман, и повесть, – причём «в одном флаконе» и желательно «не взбалтывая», то есть пытаясь как-то отличать роман от повести, а автора от героя, хотя не очевидно, что во всех случаях это возможно, а в некоторых, в порядке автопародии, неотличимость и предусмотрена.
Современникам довольно легко было бы угадать в «Отчаянии» доведённую до абсурдного тупика пародию на ещё не вполне вышедшее из моды так называемое «жизнетворчество», символистско-философского происхождения феномен – явный, бросающийся в глаза, пристрелянный автором в романе объект критики, в таком виде решительно устраняемый им из своего арсенала, хотя сами по себе некоторые идеи символизма Набокову были отнюдь не чужды. По мнению О. Сконечной, «Набоков унаследовал от символизма идею двоемирия... В основе её лежит представление об индивидуальном творческом акте, преобразующем профанный мир в сакральную реальность, идея обожествления творческого “я”, придания миру вымысла статуса высшего бытия».7561 В сноске, однако, оговаривается, что «набоковские романы 20-х – 30-х годов менее соотносимы с теми текстами, в которых реализуются законченные абсолютные символистские модели».7572
Во всяком случае, пародийная модель, опробованная Набоковым в «Отчаянии» на своём герое – Германе Карловиче, – привела этот персонаж к полному краху, в котором его и застало начало романа (хотя читатель узнает об этом только в конце). Ведь всё уже случилось, и герою остаётся только с самого начала вспомнить и проследить: что, собственно, произошло. Читателю же предоставляется возможность знакомиться с этой историей, двигаясь вместе с рассказчиком в будущее, которое на самом деле уже прошлое, а по пути – заодно и присматриваться, пользуясь также подсказками и намёками автора, какие черты в характере и мировосприятии героя обусловили совсем не тот рисунок судьбы, на который он так самоуверенно надеялся.
Итак, совершенно растерянный и деморализованный уже на первой странице, находящийся в каком-то уединённом, неизвестном нам месте (через окно видно гору, похожую н Фудзияму) Герман Карлович, с трудом преодолевая поочерёдные приступы отчаяния и апатии, приступает, наконец, к своему повествованию. Сначала он попросту не знает, с чего начать. А едва начав, тут же признаётся, что «насчёт матери я соврал»: была она не «старинного княжеского рода», а «простая, грубая женщина в грязной кацавейке».7583 Нисколько не смутившись оскорблением её памяти, он, напротив, выставляет это напоказ как «образец одной из главных моих черт: лёгкой, вдохновенной лживости».7594
Заметим попутно, что хотя в предисловии к американскому изданию «Отчаяния» Набоков с обычным его лукавством утверждает, что «книга эта не поднимает нравственного органа человека»,7605 однако вряд ли он всерьёз рассчитывал, что кто-либо из читателей примет эту оговорку на веру.
Другое дело – герой: вот ему-то как раз, видимо, не приходит в голову, что он затрагивает «нравственный орган» читателя своей повести, изначально подрывая к себе доверие злокозненной ложью, каковую почитает, видимо, за похвальное творческое воображение (приходится догадываться, что у него это, может быть, – на манер героя «Записок из подполья»). С документально-исповедальным тщанием (уж не Адамовичем ли подсказанным, для следования жанру образцового «человеческого документа») герой сообщает, что «девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять…», он был по делу в Праге и, не застав нужного человека, отправился прогуляться по окрестностям. Целый час предстояло ему тогда чем-то себя занять, и он отправился на прогулку. И здесь нас ждёт первый сюрприз! Эта «от нечего делать» прогулка на целую страницу описана (от первого лица) так, что не оставляет сомнений – герой не зря хвастался своей писательской силой. Весь в автора! «Руку-то Сирина вы знаете? Мастерская! Бунин давно за флагом» – как воскликнул один из, заметим, недоброжелательных рецензентов «Отчаяния».7611
Бесхитростный, не слишком живописный пейзаж пражской окраины в восприятии героя предстаёт поэтически запечатлённой картиной, отмеченной к тому же точными характеристиками топографических особенностей местности и такими трогательными деталями, как дрожащие на ветру одуванчики, дырявый сапожок, млеющий у забора, и торчащие корни, и клочья гнилого мха.7622 Атмосфера этой как будто бы бездумной прогулки тем не менее проникнута ожиданием «неизвестного, но неизбежного содержания», ей сопутствует «невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня», и, наконец, «тайное вдохновение меня не обмануло, я нашёл то, чего бессознательно искал».7633 Похожее состояние Набоков описывает в эссе «Вдохновение»,7644 чем и довершается в рассказе о прогулке Германа Карловича несомненное сходство его с автором – поэтикой, конкретикой и проблесками вдохновения. Непонятным остаётся одно: как представитель автора с пристальным зрением, не уступающим его собственному, мог вдруг ослепнуть и принять какого-то спящего на земле бродягу за своего двойника?
Недоверчивые смешки в зале Лас Каз были обоснованы вдвойне: объективной и субъективной недостоверностью сцены встречи с «двойником». Но если объективная составляющая этой недостоверности (случай) может быть списана на счёт литературной условности давно изъезженного бродячего сюжета о двойниках, то субъективная как будто бы не оправданна совершенно – зрение героя слишком похоже на авторское, чтобы вдруг поддаться зряшной иллюзии двойничества.
В упомянутом уже интервью Аппелю 1966 года, на вопрос, «завладевают» ли им герои и «диктуют» ли они развитие событий в произведениях, как нередко случается признаваться многим писателям, мэтр Набоков решительно ответил: «Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Нет, замысел романа прочно держится в моём сознании, и каждый герой идёт по тому пути, который я для него придумал. В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один. Удаётся ли мне его воспроизвести с той степенью полноты и подлинности, с какой хотелось бы, – это другой вопрос. В некоторых моих старых вещах есть удручающие затруднения и пробелы».7651
Так может быть Герман Карлович «узнаёт» в Феликсе «двойника» просто потому, что таков был замысел изначального, по природному темпераменту, «совершеннейшего диктатора», допустившего «пробел»? И внезапное ослепление только что остро зрячего героя – результат «удручающего затруднения» автора, не сумевшего достаточно убедительно обосновать этот внезапный феномен? И камуфлируется это «затруднение» сильнодействующим приёмом – намеренным привнесением ощущения чуда: «Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана... Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно ... дрожали ноги… Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью».7662 Приведённые выдержки – чуть менее половины объёма этого пафосного абзаца.
Так может сложиться впечатление, что коварный автор искусственно свёл концы с концами: как громом поразил бедного героя сверхъестественным «чудом», и дальше, уже ослеплённого и покорного, повлёк по скорбному его пути. Но здесь нас ждёт второй сюрприз: Герман Карлович вовсе не ослеплён, и на чудо он настроен был сам – он ждал его, он искал его, и вот, оно случилось! Рефлексирующий герой предоставляет нам по этому поводу пример исчерпывающего самоанализа: уже обнаружив «чудо», он вспоминает, «какое же настроение было у меня в то утро, о чём я размышлял», – и сам себе отвечает: «То-то и оно, что ни о чём. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания».7673








