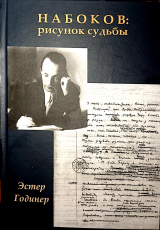
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
Покинув непристойный балаган, в который превратилось собрание, – не прежде, однако, нежели досконально его описав, – «Фёдор сердился на себя: ради этого дикого дивертисмента пожертвовать всегдашним, как звезда, свиданием с Зиной!».18834 Этой фразой, после долгого перерыва, автор возвращается к теме Зины. На значимость этой темы намекает незримое и лукавое его присутствие: соблазнив Фёдора немедленно позвонить Зине, он не только лишает его последнего гривенника на трамвай, но и странным образом соединяет не с ней, а с тем номером, который требовался некоему таинственному «анонимному русскому», постоянно попадавшему почему-то к Щёголевым. То есть, при манипулятивном участии этого самого «анонимного русского», за которым легко угадывается автор, герой поневоле отправляется восвояси «пешедралом», дабы по пути иметь время и возможность прочувствовать и понять, какие на него наплывают «привидения сиреней» («очередной анаграмматический след авторского присутствия в тексте»).18841 И по возвращении у Фёдора уже наготове не только вопрос: «Что дальше? Чего мы, собственно, ждём?» – но и ответ: «Всё равно лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? “Убери лиру, мне негде повернуться…” Нет, она этого никогда не скажет, – в том-то и штука».18852
Фёдор – первый из романных протагонистов Набокова, обладающий подлинным писательским даром и готовый всецело посвятить свою жизнь «лире», Зина – первый из женских образов, достойный стать спутницей такого человека. Долгая пешая прогулка героя пошла ему на пользу: «привидения сиреней» помогли ему окончательно понять, что именно Зина – та жена, которой под силу разделить с ним радости и тяготы его призвания. Остаётся, однако, ещё один вопрос, заданный Фёдором самому себе уже после того, как выяснилось, что Щёголевы через два месяца уезжают: если так просто решилась задача (начала совместной с Зиной жизни), казавшаяся такой сложной, – не было ли в самом её построении ошибки? Вопрос шахматиста и, как мы убедимся, отнюдь не праздный, но на его осознание ещё потребуется время. Теперь же, когда: «Они считали дни … при новом свете жизни (в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья с Зиной)»18863 – Фёдор начинает свою, предвещающую счастье, груневальдскую его прелюдию: «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, – и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: “Как быть Счастливым”? Или глубже, дотошнее: понять, ч т о скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зелёным гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований: 10 000 дней – от Неизвестного».18874
Этот новый Фёдор Константинович ничем не напоминает холодного, отрешённого в своём высокомерии Владимирова: сколько молодой лёгкости и радости в его ранних теперь вставаниях, как весел и свеж взгляд на самые, казалось бы, прозаические сцены городского утра, когда, как в сказочном мультфильме, водомётный автомобиль вдруг превращается в кита на колёсах, а портфель, сверкнув замком и обогнав своего владельца, бежит за трамваем.18885 Текст невероятно насыщен разнообразными приметами «молодого лета», которые тут же перерабатываются из «чащи жизни» и суетного её «сора» в упоение поэтическим творчеством: Фёдор Константинович, «как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов (?!), их вольной и разнообразной природой…»,18891 – и, как всегда, как в повествовании о путешествиях отца, Годунов-натуралист повергает читателя в стихию сплошного потока исключительной насыщенности впечатлений, целиком отдаваясь собственной в них потребности и нисколько не заботясь – а не слишком ли их описание избыточно, утомительно для стороннего, не авторского чтения.
Фёдор признаётся, что он «собственными средствами как бы приподнял» образ Груневальда: уходя в глушь леса, он находил там «первобытный рай», чувствовал себя «атлетом, тарзаном, адамом», он достигал состояния, близкого к блаженной прострации: «Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим, гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскалённо-прозрачным, наливаюсь пламенем и существую только, поскольку существует оно».18902
В известном смысле, Груневальд стал для Фёдора в этот период посильным воспроизведением чего-то, похожего на «отъезжее поле» отца, на его экспедиции, – это была фаза, необходимая ему перед обретением новой, с Зиной, жизни, внутренней подготовки к ней в условиях природного «чистилища», позволяющего стряхнуть с себя груз суетной обыденности, прежде чем обрести право на «райские кущи»: «Собственное же моё я, то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, – как-то разошлось и растворилось, силой света сначала опрозраченное, затем приобщённое ко всему мрению летнего леса».18913 Бродя по лесу и вокруг озера, Фёдор «переживал нечто родственное … духу отцовских странствий», и именно здесь ему «труднее всего было поверить, что, несмотря на волю, на зелень, на счастливый, солнечный мрак, отец всё-таки умер»,18924 – и, похоже, что это ощущение как-то помогало Фёдору в его интуитивной подготовке к новому, счастливому этапу его жизни.
Найденный им, после всех блужданий, «тайный затончик среди камышей» в этом контексте напрашивается на ассоциацию с ритуальной купелью, символизирующей обряд очищения и обретения душой нового, высокого предназначения: «Тёплая муть воды, в глазах искры солнца. Он плавал долго, полчаса, пять часов, сутки, неделю, другую. Наконец, двадцать восьмого июня, около трёх часов пополудни, он вышел на тот берег».18935 Забегая вперёд, возьмём на заметку: на следующий день, двадцать девятого июня, уедут Щёголевы – самое время подвести итоги и наметить некоторые перспективы. С кем это обсудить, как не с Кончеевым, который уже ждёт Фёдора – «на скамейке под дубом, с медленно чертящей тростью в задумчивых руках, сутулый молодой человек в чёрном костюме».18941
Кто бы ни были прототипы Кончеева,18952 этот, последний с ним разговор Фёдора больше всего похож на итоговый компендиум его собственной самокритики, следующий за дифирамбами, которыми почти только и ограничился Кончеев в ряду других рецензий, приведённых в начале пятой главы. Что Кончеев и объясняет здесь: «Между прочим, я не всё сказал, что мог бы… Вас так много бранили за недостатки несуществующие, что уже мне не хотелось придраться к недостаткам, для меня несомненным. К тому же в следующем вашем сочинении вы либо отделаетесь от них, либо они разовьются в сторону своеобразных качеств, как пятнышко на зародыше превращается в глаз. Вы ведь зоолог, кажется?».18963 Такое интимное понимание, даже и с «зоологическими» изводами, тонкостей механизма творчества малознакомого человека (каковым Фёдор предполагается для Кончеева с начала и до конца романа), попросту невозможно. Общая «зона комфорта», разделяемая ими, несмотря на все противоречия, побуждает предполагать, что Кончеев в этой, последней их встрече как никогда близок к порождающему его, посредством изощрённой саморефлексии, оригиналу. Прирождённый автодидакт, Набоков таким образом упорядочивает внутренние противоречия, возникающие у него в процессе творческого самоусовершенствования.
Отсюда и применённый автором приём: показав поначалу, в ряду других рецензий, только самый малый краешек кончеевской, автор уберёг основную, критическую её часть от читательского соблазна немедленного сравнительного анализа с другими версиями критики. Приём лукавый, но ведь обман, в представлении Набокова, – органическое свойство природы, а значит, и подлинного искусства, которому она, как он считал, подражает. Теперь же, в конце главы, обезопасив себя от наскоков топорной критики в её начале, наедине со своим квази-двойником, Фёдор спокойно может проверить, какие именно недостатки нашёл у него Кончеев и совпадают ли они с теми, о которых он знает сам.
И далее по тексту на поверку выясняется, что эти двое очень хорошо понимают друг друга, не слишком при этом заботясь, так ли уж поймёт их читатель, не случись ему быть профессиональным филологом; более того, сам тон и фразеология суждений напоминают скорее конспиративную беседу единомышленников, живущих в своём, малопонятном или даже недоступном для других мире. Первый упрёк Кончеева Фёдору, – что «слова провозят нужную мысль контрабандой» из-за лишнего к ним доверия и «под прикрытием темноты слога», что является недостатком – «зря, так как законный путь открыт». Следующим, вторым пунктом является упрёк в том, что у автора обнаруживается «некоторая неумелость в переработке источников», которая проявляется в нерешительности – «навязать ли былым делам и речам ваш стиль, или ещё обострить их собственный». Третьим пунктом критики являются искажения в использовании жанра пародии, четвёртым и пятым называется некая «механичность» переходов и склонность размениваться на мелочные уколы в адрес своих современников, – вот и весь список претензий Кончеева, по его мнению, «пустяшных», и которые, к тому же, «совершенно меркнут при блеске ваших достоинств».18971
Между тем, два из перечисленных пунктов совсем не «пустяшны», и если названы таковыми, то только потому, что мнение Кончеева в данном случае точно совпадает с мнением Годунова/Набокова. Злоупотребление пародией в биографии Чернышевского, которая, даже с точки зрения Кончеева, иногда «вдруг даёт непроизвольный перебой»,18982 в глазах эмигрантских «правнуков» вождя русского революционного движения являлось оскорбительным для его памяти. Что же касается «неумелости в переработке источников» и проблемы поисков стиля, наиболее подходящего, когда речь идёт о «былых делах и речах»,18993 то это – прямое следствие антиисторизма Набокова, «неумелого», среди прочего, также и в проблемах перевода понятийного кода источников шестидесятых годов ХIХ века на язык, который, с одной стороны, передавал бы специфические особенности «дел и речей» того времени, а с другой – был бы понятен современному читателю. При отрицании какой бы то ни было периодизации истории и сведении её к хаотическому набору случайностей, критерии такого перевода становятся плохо различимы и порождают недоразумения в понимании ключевых понятий данного исторического контекста. К тому же, в пародийном виде изобразив глубоко чуждые ему «дела и речи» вождя «шестидесятников», аристократ Годунов-Чердынцев продемонстрировал откровенное пренебрежение к восприятию его опуса своими собратьями по эмиграции, для которых несбывшиеся надежды русской разночинной интеллигенции оставили след фантомных болей, не допускающих осмеяния мечты о достойном представительстве в обществе, – даже если она носила утопический характер, выражалась косноязычными средствами и жестоко обманула их ожидания. Беспощадно взятый на мушку объект «упражнения в стрельбе» показался им слишком похожим на жертву разнузданного вербального издевательства со стороны бывшего «барчука», мстящего за утраченную им родину, – и, по общему для всех впечатлению редакции «Современных записок», это отозвалось автору деформацией исторической правды и изменой художественному вкусу.
Но героя Сирина, как известно, эта позиция не смутила («предпочитаю затылки»), и Кончеев без колебаний декларирует свой вывод: «Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени».19001 В этом суждении специалисты находят реминисценции, связанные с известной трактовкой пушкиниста М.О. Гершензона, на которую ссылался Ходасевич в своей незаконченной биографии Пушкина, – о том, что в последние свои годы разочарованный и усталый поэт утратил иллюзии относительно своего времени и современных ему читателей.19012 Как бы то ни было, но, сказанная, в данном случае, применительно к книге Фёдора о Чернышевском, эта установка Кончеева в будущем отзовётся Набокову весьма неоднозначно: «упражнение в стрельбе», удовлетворив не только творческие, художественные, но и компенсаторно-психологические потребности автора, тем не менее, «во времени» (а с тех пор прошло уже без малого сто лет) оставило Чернышевского непотопляемым: он столь же живуч и горазд менять ипостаси, сколь неизбежно и перманентно возрождаемы в России поставленные им вопросы.
В воображаемом диалоге Фёдора с Кончеевым постоянно, с внутренним напряжением, заявляют о себе два, противоположные по складу, творческие начала: рефлексирующее, «сальерианское» Годунова-Чердынцева, и, как бы недосягаемое для него, «моцартианское», «чистой воды поэта» Кончеева.19023 Глубоко польщённый восторженной оценкой его книги, Фёдор, однако, не преминул отметить, что о главных своих недостатках он осведомлён лучше, чем Кончеев, а что касается достоинств, то, слегка кокетничает он: «…вы бесстыдно подыгрывали мне».19034 Томимый сознанием недосягаемости спонтанного вдохновения своего визави, шахматными композициями докучающий своей музе, аристократ Годунов-Чердынцев как бы в отместку предлагает моцартианскому гению из рязанских простолюдинов поговорить о его стихах, прекрасно отдавая себе отчёт, что Кончееву это противопоказано: «Нет, пожалуйста, не надо, – со страхом сказал Кончеев... – я органически не выношу их обсуждения».19045
Для Кончеева способность сочинять стихи и одновременно «о них осмысленно думать» – несовместимо; аналитическая рефлексия и чужое мнение не должны иметь никакого отношения к его творческому процессу. И он платит своему оппоненту той же монетой, в свою очередь задевая его за живое: «Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, – и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью».19051 Кончеев ошибся: «рассудочный» Набоков до самых своих последних лет писал стихи, доли таланта Кончеева в себе отнюдь не изжив. Абсолютная антиномия так и не состоялась – два начала умудрились ужиться во взаимополезном симбиозе, что, как оказалось, обетованием уже присутствует в этом разговоре: «…ибо, значит, есть союзы в мире, которые не зависят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, “веяний века”, ни от каких духовных организаций или сообществ поэтов, где дюжина крепко сплочённых бездарностей общими усилиями “горит”».19062
Умилённого согласия на эту заявку, однако, не последовало, – напротив, Кончеев мгновенно отреагировал выпадом парирующей шпаги, с благородным, «на всякий случай», предупреждением: «…чтобы вы не обольщались насчёт нашего сходства: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора “Двойника” и “Бесов”, которого вы склонны третировать… Мне не нравится в вас многое, – петербургский стиль, галльская закваска, ваше нео-вольтерианство и слабость к Флоберу, – и меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно-спортивная нагота. Но вот, с этими оговорками, правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то – не здесь, но в другой плоскости… – где-то на задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крепнет довольно божественная между нами связь».19073
«Примерно такую же отповедь, – замечает Федотов, – вероятно, и сам Набоков мог получить от обожаемого им Ходасевича»,19084 то есть предполагается. что в литературных вкусах разница между ними была приблизительно такой же. Что же касается Флобера, то для Набокова «Мадам Бовари» – это смолоду и на всю жизнь «самый гениальный роман во всемирной литературе, – в смысле совершенной гармонии между содержанием и формой», и из всех «сказок» (а великие романы он называл «великими сказками») – «самая романтическая. Стилистически это проза, которая делает то, чего мы обычно ожидаем от поэзии».19095 Подобную «алхимию», наделяющую прозу обаянием поэзии, поклонник Флобера считал идеалом, в отличие от другого своего кумира, Пушкина, ставившего между ними чёткие границы.
В писательскую дружбу, однако, Набоков не верил никогда – слишком это штучное дело, у каждого своё… И вот: едва достигнув заоблачного пика «божественной между нами связи», они оба, Кончеев и Фёдор, – вдруг срываются до самого низкого разбора подозрений и признаний в мотивах их союза: Кончеев не исключает, что расположение к нему Фёдора – лишь следствие благодарности ему за лестную рецензию, Фёдор же признаётся, что и сам подозревал себя в этом, тем более, что раньше завидовал славе Кончеева. «Слава? – перебил Кончеев…» – и его устами, в те поры ещё Сирин, а не Набоков со всемирной славой, горестно сетует: «Не смешите. Кто знает мои стихи? Сто, полтораста, от силы двести интеллигентных изгнанников, из которых, опять же, девяносто процентов не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдёт, пока тунгуз и калмык начнут друг у друга вырывать моё “Сообщение” под завистливым оком финна».19101
И сколько же выстраданного подтекста в этой «тираде», кроме очевидной иронической аллюзии на иронические же строки «Памятника» Пушкина,19112 скептической усмешкой ответившего на пафос Державина. Это в первой главе, молодым поэтом, Фёдор с отчаянной откровенностью, не скрывая чувств, взывал к судьбе, моля её дать ему какой-нибудь знак, что мир будет вспоминать о нём «до последней, темнейшей своей зимы». Теперь же, повзрослев, он пользуется молодостью Кончеева, спровоцировав его на эмоциональный срыв, в котором за язвительной бравадой легко угадывается крик души. Себе же Фёдор такой рокировкой выгораживает покровительственную и щадящую самолюбие роль старшего – умудрённого, философски настроенного утешителя: «Но есть утешительное ощущение, – задумчиво сказал Фёдор Константинович. – Можно ведь занимать под наследство. Разве не забавно вообразить, что когда-нибудь, вот сюда, на этот брег, под этот дуб, придёт и сядет заезжий мечтатель, и в свою очередь вообразит, что мы с вами тут когда-то сидели».19123 Это – приглашение, назначение свидания будущему идеальному читателю, прямой ему вызов – неужели никого не найдётся, кто им воспользуется, кто не упустит шанса приобщиться к будущей мировой славе великого писателя?
И сам же себя Годунов-Чердынцев, но устами Кончеева – дабы, на всякий случай, не показаться смешным мегаломаном, – опровергает: «А историк сухо скажет ему, что мы никогда вместе не гуляли, едва были знакомы, а если и встречались, то говорили о злободневных пустяках».19134 Подстелив такой скептической соломки, не стыдно и дальше продолжать в том же духе, раскручивая оптимистическую мечту даже и до потусторонне-философских эмпирей: «И всё-таки попробуйте! Попробуйте почувствовать этот чужой, будущий, ретроспективный трепет… Все волоски на душе становятся дыбом! Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени».19141 Осмелев, Фёдор начинает распоряжаться понятием времени так, чтобы оно не смело деморализовать его сокровенной веры в благосклонную к нему потусторонность, так или иначе обещающую ему в будущем успех, славу, счастье, и, в том или ином виде, некую вневременную, за гранью жизни, Вечность.
Оперируя, на свой лад, мистическими идеями, заимствованными у современных ему философов,19152 Набоков, едва ли не с залихватской развязностью, долженствующей демонстрировать презрительное отношение его героя к порождённым страхом и невежеством унизительно ограниченным домыслам о природе времени, самой фразеологией и тоном рассуждений противопоставляет себя общераспространённым обывательским заблуждениям: «…очень мило, – иронизирует он – когда речь заходит о том, что земля через триллион лет остынет, и всё исчезнет, если заблаговременно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. Или ерунда с вечностью: столь много отпущено времени вселенной, что цифра её гибели уже должна была выйти... Как это глупо! Наше превратное чувство времени как некоего роста есть следствие нашей конечности... Наиболее для меня заманчивое мнение – что времени нет, что всё есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты, – такая же безнадёжно конечная гипотеза, как и все остальные. “Поймёшь, когда будешь большой” – вот всё-таки самые мудрые слова, которые я знаю»19163 (курсив мой – Э.Г.). Сокровенное знание – достояние потусторонности, здесь, в земном, смертном обличии, человеку недоступное, и его придётся отложить на «там» – когда станешь «большим», – то есть бесплотным «всевидящим оком», а пока – веря в свой талант, почему бы не надеяться на лучшее?
«Опять, значит, воображение», – очнулся Фёдор, услышав фразу о погоде по-немецки и увидя рядом с собой на скамье не Кончеева, а похожего на него немца. Даже на примере этого образа Набоков остался верен своей презумпции, что настоящий, доверительный разговор между творческими людьми невозможен, что носитель подлинного дара – всегда одиночка, и такой, воображаемый разговор – «это и есть осуществление, и лучшего не нужно».19174 Но может быть, Фёдор ищет хоть какую-то связь между своим воображением и реальностью, и этот «кончеевидный», сутулый молодой немец – студент, философ, музыкант или, наконец, поэт? И почему он показал на облако, напророчил дождь? Кто скрывается за его кончеевидным обличьем – уж не сам ли, отнюдь не сутулый, а напротив, «сноб и атлет» писатель Сирин? В его «сказке» такие игры вполне уместны, и читатель, заодно или поврозь с героем, так или иначе, но обречён мучиться чуть ли не параноидальными домыслами о судьбоносных приметах происходящего. И эти «знаки и символы» – в «чаще леса», как в «чаще жизни» – дают о себе знать.
Фёдор, поленившись вплавь переправиться на другой берег за оставленными там вещами, пошёл в обход, пешком, «пёстрым лесом к своему логовищу», и по дороге его «подозвало» дерево: «покажу что-то интересное».19181 Вообще, пользуясь излюбленным арсеналом средств: с одной стороны, донельзя дотошным, до мельчайших деталей точным и «зримо» воспринимаемым описанием окружающего природного ландшафта, а с другой – наделяя эти детали несвойственными им в природе качествами, автор достигает эффекта присутствия в волшебном, непредсказуемом мире, где сосны сознательно «опасливы», удерживая оползающий берег, а загорающие люди, напротив, изображают «три голых трупа», и даже «земля тропы», которая «свежо липла к пяткам», кажется субъектом активного, по своей воле, действия.19192
Старое дерево не обмануло: лёжа под ним, Фёдор удостоился зрелища, которое показалось ему специально поставленным неведомым режиссёром «сценическим действием»: а были это всего-навсего пять евангелических сестёр, «скорым шагом» и с какой-то немудрёной песенкой, «смесь гимназического и ангельского», прошедшие мимо, на ходу собирая плохо видимые Фёдору скромные цветы; и «призрак цветка» приобщался к «призрачному пучку идиллическим жестом», и идущая впереди «вдруг … полувсплеснула руками на особенно небесной ноте». Но один стебель, ловимый чьими-то пальцами, «лишь качнувшись, остался блестеть на солнце … где это уже раз так было – что качнулось?».19203 Доискиваясь источника этой ассоциации в памяти Фёдора, Долинин соглашается с С. Блэкуеллом, что вероятнее всего, это сцена из второй главы, когда, уединившись на любимой лужайке и горюя после прощания с отцом, уехавшим в последнюю экспедицию, Фёдор увидел, как с ромашки слетела бабочка махаон, а «цветок, покинутый им, выпрямился и закачался».19214 Бабочки всегда напоминали Фёдору об отце, может быть, и сейчас качнувшийся цветок – знак свыше, намекающий на незримое присутствие отца, оберегающего сына, дающего ему поддержку накануне вступления в новую, трудную, но счастливую фазу жизни и творчества. Может быть, по этому поводу и пригласило старое дерево Фёдора в свою удобную ложу на специально устроенное в его честь представление: великолепный дивертисмент с монашками и их песенкой, отдающей музыкой небесных сфер, с оставленным ему на память несорванным цветком, и вдобавок – с озорной воображаемой перспективой переодевания исполнительниц после антракта в газовые пачки.19221
Первая фраза следующего абзаца – «Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух» – ясно даёт понять, что спектакль закончен, софиты погасли, и Фёдору Константиновичу ничего не остаётся, как направиться в чащу, где он оставил свои вещи. Здесь его, однако, поджидает другая, также адресованная ему сцена – но на сей раз с ролью не зрителя, а вынужденного участника, объекта чьей-то манипуляции в затеянной с ним игре (Кончеевым, впрочем, предсказанной, – ведь заметил же он между прочим, что оставленные где-то вещи могут и украсть). И в самом деле: из ямки под кустом, где Фёдор спрятал одежду, украли всё: рубашку, штаны, плед, «ушли» двадцать марок, «ушёл карандашик, платок и связка ключей»; оставлена только, «чтобы пошутить над своей жертвой», одна туфля, с вложенной в неё, на клочке газеты, благодарственной карандашной надписью по-немецки. Туфли, вероятно, были похитителю не по мерке, да к тому же дырявые.19232
Что эта анонимная кража состоялась с ведома и согласия автора, сомневаться не приходится. Вопрос о конкретном исполнителе в данном случае нерелевантен: очевидно, что вся ответственность за этот экстравагантный эксперимент должна возлагаться только и исключительно на заказчика-автора. «Кажется, – предполагает Долинин, – что тот неизвестный вор, который украл у Годунова-Чердынцева обувь, одежду и ключи, оставив благодарственную записку, и тот Неизвестный, которого Фёдор хочет благодарить за дар жизни и слова, – это одно и то же лицо: приближаясь к концу своей книги, автор как бы отбирает у её героя личину, а вместе с ней и временно дарованные ему ключи от романа его, Фёдора, жизни, заставляя задумать роман собственный».19243 С этой трактовкой оставалось бы только согласиться, она, в основе своей, совершенно оправданна: писатель Сирин, «антропоморфное божество» по отношению к своему герою, воспитав и выпестав его, теперь, суля и желая ему самостоятельного успеха и счастья, вправе дать ему понять, что до сих пор он был у него на поруках, персонажем, протагонистом¸ и самостоятельный путь, в новой ипостаси – настоящего писателя – ему ещё только предстоит, а пока – предоставленные ему временные регалии и сценический костюм – будьте добры, верните подлинному владельцу.
Всё это понятно, кроме одной, вызывающей недоумение детали: ну, ладно, ключи – это некая символика передачи полномочий, но зачем понадобилось лишать Фёдора того минимума «одолженных» ему автором вещей, который необходим, чтобы, не нарушая принятых в Берлине, большом городе, приличий, хотя бы добраться до дома. Загвоздка интриги, таким образом, её больной нерв коренится в вопросе: зачем, лишив одежды, Набоков решил подвергнуть своего героя анекдотическому, но и вызывающе скандальному, публичному испытанию. Не дурная ли это «шутка» – выставить Фёдора, потомственного аристократа, в таком виде на суд прохожих – городских зевак, обывателей, пошляков… Читателю придётся набраться терпения, прежде чем он, по ходу повествования, постепенно поймёт и проникнется теми очень глубокими и выстраданными мотивами, которые побудили автора навязать Фёдору с виду нелепое, ставящее его в дурацкое положение, приключение. За пародийно-иронической и даже порой вызывающе озорной завесой этого вставного рассказа проступает поистине героический пафос противостояния художника-эмигранта неизмеримо как будто бы превосходящим его человеческие силы обстоятельствам: он, «голый», уязвимый для любых покушений «чащи жизни» апатрид, каждый день проверяется на стойкость, на способность противостоять нищете, бесправию, чуждому окружению, пошлой среде, обывательским предрассудкам, – он может защитить себя только чувством собственного достоинства, внутренней независимостью и одержимостью творчеством.
Для проверки на прочность и закалку Фёдору предлагается, как бы шутки ради, но на самом деле – посредством диагностического эксперимента – этаким босяком и лишенцем на час – проделать небольшой марафон, вернуться в квартиру Щёголевых. Задача: достигнуть финиша, не оробев и морально себя не уронив, а напротив, приняв ситуацию как вызов, полезный для опыта будущей счастливой, но вряд ли лёгкой жизни. Умение оставаться самим собой, сохранять чувство собственного достоинства в любых, даже самых «оголяющих», делающих человека беспомощным, обстоятельствах, – вот за эти качества, врождённые и воспитанные родителями, за них, действительно, стоит благодарить Всевышнего. И, как мы увидим, Фёдор, с завидным самообладанием, с непреходящей работой воображения и юмора, то возносясь к потустороннему, то ныряя в земное и сиюминутное, с честью выдерживает испытание.
С самого начала, с первой минуты, сама реакция Фёдора на этот малоприятный сюрприз – всего и совсем пропажу – кажется неадекватно спокойной, почти безмятежной или даже до странности отрешённой: он, по инерции слегка «кругом и около» побродив и поискав, затем, как какой-нибудь первозданный огнепоклонник, чувствуя исходящую от солнца «такую жгучую, блаженную силу», «забыв досаду, прилёг на мох» и стал наблюдать за разного рода небесными перипетиями, происходившими между светилом, синевой неба и «белью» облаков, попеременно мысленно возвращаясь к ожидающим его житейским и романтическо-эротическим перспективам вот-вот предстоящего будущего.19251 Далее, на выходе из леса в город, Фёдор определяет своё состояние как «лёгкость сновидения», что не мешает его наблюдательности точно фиксировать реакцию случайных свидетелей на его неуместно пляжный вид: грубость пожилого прохожего, что-то сказавшего ему вслед, – «но тут же, в виде благого возмещения убытка», слепой нищий обратился к нему «с просьбой о малой милости», что показалось Фёдору странным – «ведь он должен был слышать, что я бос», замечены были и два школьника, окликнувших его с трамвая.19262
Но главный экзамен, который прошёл голый Фёдор и которому посвящены почти полторы страницы текста прямой речи, – с каждой фразой, заключённой в кавычки и напечатанной с красной строки, – это его разговор с молодым полицейским. Для буквальной, протокольной достоверности этот нелепый диалог с неправдоподобно тупым блюстителем порядка Набоков приводит слово в слово, досконально отмечая сопровождающие его репризы, интонации, мимику, жесты и прочие, тончайшие для знатока-ценителя семантики детали, а также комментарии присутствующих при этом свидетелей. Фёдор при этом «даёт показания» кратко, терпеливо, по делу, объясняя и так очевидное – чтобы после кражи вернуться домой, ему нужно взять такси. Когда же выяснилось, что для полицейского дежурная установка «ходить в таком виде нельзя», пятикратно им тупо повторенная, – некий абсолют, обстоятельства во внимание не принимающий, – Фёдор подыграл ему, в шутку, озорным предложением: «Я сниму трусики и изображу статую».19273








