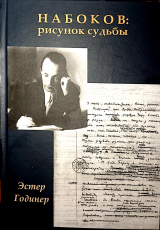
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
Интересно, что здесь Набоков почти цитатно повторяет мнение одного из персонажей «Подвига» – романа, написанного им в 1930 г., – не слишком симпатичного профессора русской словесности и истории в Кембридже, Арчибальда Муна, полагавшего, что России, как и Вавилона, уже нет: «Он усматривал в октябрьском перевороте некий отчётливый конец».1137 Нельзя сказать определённо, разделял ли этот взгляд автор романа в период его создания, но в автобиографии это очевидно. И так же очевидно, что двадцатилетнему Набокову, только что поступившему в Кембридж, до таких выводов было ещё очень далеко. Для него, как оказалось, Кембридж «существует только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию».1141
Но какая бы «длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей» ни закружила Набокова в новой, незнакомой для него обстановке, и как ни странно ему было думать о себе как об «экзотическом существе, переодетом английским футболистом», и какую бы опись «маскарадных впечатлений» ни приходилось составлять»,1152 – во всей этой круговерти уже был тот ориентир, та единственная, но необходимая точка опоры и точка отсчёта, которая позволила Набокову не заблудиться в «чаще жизни», а распознать свой путь, свой узор. Волшебный фонарь ностальгии принялся так менять светотени, чтобы они не упускали из виду главную цель – во чтобы то ни стало удержать в фокусе Россию.
«Красочное младенчество, – вспоминал Набоков, – которому именно Англия, её язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность»,1163 отступило куда-то, в почти нерелевантную даль: «И вообще всё это английское, – размышляет герой “Подвига”, – довольно в сущности случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки».1174 В эссе «Кембридж» Набоков с какой-то даже отчаянной страстью, залихватски, поистине «по-русски» восклицает, что вот «…кажется, всю кровь отдал бы, чтобы снова увидеть какое-нибудь болотце под Петербургом».1185 Вторя ему, Мартын в «Подвиге» «дивясь, отмечал своё несомненное русское нутро».1196
Это, порождённое ностальгией (прошедшей через испытание депрессией – «часами сидел у камина, и слёзы навёртывались на глаза»)1207 переосмысление самоидентификации вызвало цепную реакцию переоценок, имевших долгосрочные последствия для жизни и творчества Набокова. Кембридж оказался первой и немаловажной узловой станцией, на которой ему пришлось выбирать маршрут дальнего следования.
Прежде всего, как и герой «Подвига» – Мартын, – Набоков «то и дело чуял кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая лёгкая, счастливая штука, какой он её мнит».1218 Шокированный непониманием произошедшего в России даже со стороны тех своих знакомых английских студентов, которых он считал «культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми», но которые «начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России»,1221 – он, слывший «иностранцем» в Тенишевском училище за то, что в разгар Первой мировой войны писал любовные элегии, теперь «много и мучительно спорил … о России».1232 По собственной инициативе выучив наизусть лекцию, написанную по-английски отцом, он, в качестве оппонента докладчику, принял участие в университетской дискуссии на тему «Об одобрении политики союзников в России». Текст лекции отнюдь не одобрял заигрываний британских властей с большевиками и призывал их оказать помощь Деникину и Колчаку. Не имея опыта участия в публичной политической дискуссии, Набоков-сын, изложив заученное, выдохся и замолк: «И это была моя первая и последняя политическая речь».1243 Категоричность этого заявления не вполне соответствует действительности. Хотя сам жанр (политической речи) как таковой, действительно, исключительно редко практиковался в литературном творчестве Набокова, однако суть темы, её проблематика – новая, большевистская Россия, – возникнув в Кембридже, спустя десятилетие в Кембридж же и вернулась – зловещей Зоорландией в «Подвиге», найдя затем продолжение в Германии, заимевшей к этому времени свою, нацистскую Зоорландию, вдохновившую Набокова на целый ряд произведений, в которых подобного типа общество легко угадывается. Как отмечал Г. Струве, Набоков «отразил терзания политически напряжённых 30-х гг. в большей степени, нежели другие писатели-эмигранты».1254
В Америке две Зоорландии Набокова объединились в одну эклектическую в романе «Под знаком незаконнорожденных», изданном в 1947 г., на пике холодной войны. Просоветские настроения леволиберальных американцев во время Второй мировой войны и официальная установка на политкорректность по отношению к СССР, союзнику по антигитлеровской коалиции, возмущали Набокова настолько, что он открыто шёл на «нарушение принятых норм», заявляя, что между Германией Гитлера и Советским Союзом Сталина существует глубинное, органическое сходство. Об этом, несмотря на возражения со стороны руководства Уэлсли, колледжа, куда он незадолго до того (и не без труда) устроился на работу, Набоков предупреждал ещё в 1941 г.1265 В 1943 г., намеренно эпатируя просоветский журнал «Новоселье», он посылает туда стихотворение, которое, как ни странно, всё-таки напечатали:
КАКИМ БЫ ПОЛОТНОМ
Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства – нет, о, нет,
ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой,
увольте, я ещё поэт.
Кембридж, Масс.
1944 г.1271
В «Других берегах» Набоков счёл необходимым специально обратить внимание русскоязычного читателя на то, что он и в Америке полагал своим долгом обличать преступную роль большевиков в трагедии, произошедшей в России: «В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивлённому читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, как Ленин и его помощники захватили власть».1282 Таково, в самых общих чертах, многолетнее эхо того неудачного дебюта кембриджского политического оратора, политические споры вскоре забросившего, да и впоследствии предпочитавшего позиционировать себя как человека якобы аполитичного. Но и в творчестве, и в «узоре жизни» этот след более, чем очевиден – след деятельности человека, ненавидевшего насилие и отстаивавшего свободу.
При всём при том, задним числом можно только порадоваться, что тогда, молодым, в Кембридже, он «очень скоро … бросил политику и весь отдался литературе… Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырём углам моего мира».1293 Место трёх ипостасей писателя, как их впоследствии определял для студентов преподававший в Корнелльском университете Набоков, – рассказчика, учителя и волшебника, – занял, как никогда прежде и почти вытеснив всё остальное – ученик: «…страх забыть или засорить единственное, что я успел выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью … я мастерил и лакировал мёртвые русские стихи… Но боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны…»1304 Купив случайно, на книжном лотке в Кембридже, четырёхтомный словарь Даля, он читал его ежевечерне.
Анахоретом, однако, отнюдь не став, обаятельный и весёлый студент Владимир Набоков имел «множество других … интересов, как, например, энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом…».1311 И постепенно так перестраивались, преображались и притирались друг к другу разные приоритеты, что первоначальная анархия начала складываться в новую устойчивую иерархию, своего рода «хорошо темперированный клавир». Врождённый композиционный талант и целеустремлённость, вкупе с радостным восприятием жизни, вознаградили Набокова достижением «состояния гармонии»: Кембридж теперь уже не казался обрамлением и стражем ностальгии, а обнаружилась в нём «тонкая сущность … приволье времени и простор веков», и частица английского, заложенная с детства, оказалась живой, и он «почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым».1322 Но произошло это, опять-таки, только после того, как «кропотливая реставрация моей, может быть, искусственной, но восхитительной России была, наконец, закончена, то есть я уже знал, что закрепил её навсегда».1333
Спустя годы, в воспоминаниях, заключительный аккорд, подводящий итог кембриджскому периоду, звучит совсем уже невозмутимо эпически: в конце концов, и до революции он «рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: всё было очень просто и правдоподобно, и в общем многое сбылось».1344 Чтобы, оглядываясь на прошлое, заявить такой высокомерно заоблачный и намеренно сублимативный, обобщённый взгляд, Набокову понадобилось больше тридцати лет. Выпускнику же Кембриджа было не до подобных снисходительно-философических рассуждений. «Гармония», с трудом достигнутая в щадящей, камерной атмосфере в общем-то идиллического Кембриджа – Кембриджа «of sweet memories»,1355 масштабно вряд ли годилась для будущих континентальных запросов, ожидавших его в Берлине, – даже при относительно спокойном, эволюционном течении «чащи жизни». Но… готовиться к выпускным экзаменам ему пришлось, поставив перед собой фотографию погибшего отца (матери писал, что это ему помогает).1366
ДРАМА ЖИЗНИ И ЖАНР ДРАМЫ
В судьбу они верили оба – отец и сын. Владимир Дмитриевич, человек абсолютной личной чести, из тех, кого называют «рыцарь без страха и упрёка», знал, что охотились за ним давно: с того, ещё 1903 года, когда, после кишинёвского погрома, он написал статью «Кровавая кишинёвская баня», из-за которой попал в чёрные списки черносотенцев. После 1905 года и особенно Февральской революции 1917-го, к ним присоединились большевики-ленинцы (выражение «враг народа» было придумано Лениным специально для представителей кадетской партии, одним из самых видных основателей и членов которой являлся В.Д. Набоков). После Октябрьского переворота, вспоминал В.В. Набоков, «избежав всяческие опасности на севере, отец … присоединился к нам в Крыму», но и здесь «новенькие Советы» и представлявшие их «человекообразные», «опытные пулемётчики и палачи», вероятно, «в конце концов, до него бы добрались».1371 Однако тогда, по-видимому, «несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были ещё слиты в этюд на доске».1382
Убийство В.Д. Набокова принято считать случайным: метили не в него – в Милюкова. Однако совсем не случайно, что в начавшейся панике он первым, спокойно и быстро, подошёл и скрутил стрелявшего. Но их оказалось двое – на одного, а он – один на всех и за всех. Подоспевшие – подоспели, но – за ним, вслед, пусть на секунды, на минуту, но позже. Он всегда был первым, никогда ни за кого не прячась, и вот – настигло.
«Мне подчас так тяжело, что чуть не схожу с ума, – а нужно скрывать. Есть вещи, есть чувства, которых никто никогда не узнает», – писал Набоков матери, переживая смерть отца.1393 Понятно, что не всегда она ему удавалась – такая установка на стоицизм. Тогдашняя невеста Набокова, Светлана Зиверт, 62 года спустя утверждала, что она «согласилась стать его женой отчасти потому,.. что никогда раньше не видела его столь печальным и подавленным».1404 Он же, с беспощадной наблюдательностью описывая в дневнике произошедшее 28 марта «как что-то вне жизни» (курсив в дневнике), «почему-то вспомнил, как днём, провожая Светлану, я начертил пальцем на затуманенном стекле вагонного окошка слово “счастье”, – и как буква каждая вытянулась книзу светлой чертой, влажной извилиной. Да, расплылось моё счастье».1415
Осмелимся предположить, что заранее поставленное, заведомо невыполнимое и не имевшее никакой особой необходимости условие заключения помолвки – нахождение «постоянного места», наводит на подозрение об изначально заложенной в ней вероятной фиктивности. Жених достаточно давно и хорошо был известен в доме Зивертов, чтобы предлагать ему работу в банке, совершенно несовместимую с характером его личности.
Ещё из Кембриджа, сдав выпускные экзамены, он написал матери, что чувствует «лёгкие шажки» возвращающейся к нему музы.1421 Его стихи в Берлине печатались, жизнь в Германии была ещё дешева, в случае надобности он подрабатывал репетиторством, ему помогали друзья отца – И.В. Гессен, С. Чёрный, иногда устраивались литературные чтения, в которых он принимал участие. На пике издательской лихорадки того времени вышли два перевода и два сборника его стихов: «Николка Персик» и «Гроздь» в 1922 г., и «Горний путь» и «Аня в стране чудес» в начале 1923 г. На этом фоне озабоченность Зивертов «постоянным местом» для заряженного творческой энергией и захваченного вихрем литературной жизни молодого поэта, в городе, переполненном свежим притоком русско-эмигрантской, в основном интеллигентной публики, такое отношение и разрыв помолвки 9 января 1923 г. кажутся до нелепости неуместными. Скорее всего, это было попросту проявлением глубоко чуждой Набокову ментальности семейства Зивертов, и можно сказать, что как бы сама судьба предупредительно забраковала этот брак.
Поначалу избывая шок новой утраты потоком стихосложения, Набоков производит затем поворот к новому для него жанру – драме («Смерть» – март, «Дедушка» – июнь, «Полюс» – июль 1923 г.). Происходит это на драматическом, судьбоносном повороте его жизни. Г. Барабтарло (и сам, кажется, не без удивления) наблюдательно заметил: «Со всем своим чрезвычайным, несравненным, напористым воображением Набоков в известном смысле на удивление эмпирический (курсив мой – Э.Г.) писатель».1432 И в самом деле, жизненная драма вызвала к жизни и соответствующий жанр. Растерянность, уязвлённое самолюбие, утрата чувства защищённости любовью и пониманием, к чему с детства привык в своей семье и чего ждал от новой, тревожное ощущение непознанности и непредсказуемости мира и людей – со всем этим надо было как-то разобраться.
В интервью с Бойдом Вера нашла «превосходной» найденную им тогда идею: наняться сезонным рабочим на лето – подальше от Берлина, на юге Франции.1443 На самом же деле, это было бегство, сродни тем побегам, которые у него случались в детстве, – от всего чужого и чуждого, от проявленного к нему непонимания, от своевольного с ним обращения – куда угодно, пусть в неизведанную, но манящую даль. В конце концов он решил поехать по заведомо благожелательному адресу: на юг Франции, где управляющим в имении работал бывший глава Крымского правительства (агроном по профессии) Соломон Крым, друг покойного отца, любивший стихи его сына.
ВЕРА
Но «дня за два» до отъезда, 8 мая 1923 года, состоялась его встреча с таинственной незнакомкой. Именно так, «дня за два» – не точнее – дважды определяется Бойдом датировка этой знаменательной встречи: в первом томе его биографии Набокова и в предисловии к «Письмам к Вере».1451 Если это так, то для Веры 8 мая могло обернуться последним шансом познакомиться со своим будущим мужем. При всей своей дискретности, он был, по-видимому, в таком состоянии, что всем вокруг твердил – он «никогда не простит» (Зивертам – и не простил!), уедет далеко и надолго, может быть, навсегда, – и это выглядело вполне правдоподобно, поскольку из Берлина, жизнь в котором стремительно дорожала, уже наблюдался заметный отток эмигрантов.
И она решилась. Они встретились 8 мая, вечером, на мосту через канал. Она явилась в чёрной маске с волчьим профилем. На излёте швейцарских лет Набоков признался сестре, что инициатива знакомства принадлежала ей, Вере.1462 Версия о бале, запущенная самим Набоковым и кочующая из издания в издание, заведомо недостоверна: бал состоялся 9 мая, о чём было объявление в «Руле».1473 Банальный вариант знакомства на благотворительном балу, скорее всего, понадобился Набокову, чтобы удовлетворить и тем самым погасить любое нежелательное к этому любопытство и защитить Веру от имевших хождение пересудов, что она его, якобы, «домогалась».1484 Первое стихотворение, посвящённое Вере, – сообщает Бойд, – «Набоков написал всего через несколько часов после их знакомства».1495 К сожалению, кроме этой фразы, никакой другой информации об этом стихотворении он не приводит.
Первая весть с юга Франции – письмо Набокова Светлане Зиверт от 25 мая (1923 г.): Светлана и её семья, – пишет Набоков, – «связаны в моей памяти с величайшим испытанным мной счастьем, которое я едва ли испытаю впредь»; её образ преследует его повсюду, он готов отправиться хоть в Южную Африку, «и если отыщу на планете место, где не встречу ни тебя, ни твоей тени, то там и останусь жить навсегда».1506
Однако уже через неделю, 1 июня, он пишет стихотворение «Встреча» и посылает его в «Руль», где оно публикуется 24 июня.1517 Стихотворение это – ясновидческой проницательности, с точным диагнозом шлейфа прошлого («недоплаканной горести»), «замутившего» звёздный час настоящего, но в целом оно устремлено в будущее, завершаясь строкой «но если ты – моя судьба». Похоже, что неделя между 25 мая и 1 июня оказалась кризисной:
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня
…………………………………………….
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?
……………………………….
Ещё душе скитаться надо,
но если ты – моя судьба…1521
Тем временем, в Берлине некая В.С. (с теми же инициалами, что и у Владимира Сирина, взявшим себе этот псевдоним ещё в январе 1921 г.) начинает публиковать в «Руле» переводы с болгарского. Первый перевод (6 июня) – притча болгарского писателя Н. Райнова из «Книги загадок» его «Богомиловых сказаний». Затем ещё четыре публикации, тоже из Райнова.1532 Поняв, что опубликованная 24 июня «Встреча» адресована ей, Вера отвечает на неё, как полагает Бойд, по меньшей мере тремя письмами.1543 Не получив на них отклика, она передаёт в «Руль» перевод стихотворения Эдгара По с красноречивым названием «Молчание», которое публикуется 29 июля, в неожиданном соседстве на той же странице с «Песней» В. Сирина, начинающейся со строк: «Верь: вернутся на родину все, / вера ясная, крепкая…», – рефреном повторяющимися в финале.1554
Письмо Вере он, оказывается, уже написал (ок. 26 июля – в «Письмах к Вере» оно опубликовано первым),1565 оно просто ещё не дошло, а на август она уезжала из Берлина, куда он 19 августа как раз и вернулся. Разминулись? Неясно. Наконец, последний из этой серии перевод Веры – притчи По «Тень» – появляется в «Руле» уже в сентябре.1576 На этом общение между Набоковым и Верой через «Руль», по-видимому, себя исчерпало, и началась прямая переписка.
Первое (и единственное) письмо Вере, написанное Набоковым из Франции, перед возвращением в Берлин, начинается без обращения и как бы оправдывающимся тоном – предложением, спотыкающимся на «ну» и «что ли»: «Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня – ну, понимали, что ли, – так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это шутка, маскарадный обман… А затем…», – а затем, хоть ему и «трудно говорить», мгновенный переход на предельно доверительный тон: «Хорошая ты… И хороши, как светлые ночи, все твои письма…». Он объясняет, что письма её нашёл только по возвращению из Марселя, работал там в порту. И решил подождать, не отвечать, «пока ты мне не напишешь ещё. Маленькая хитрость…». И вдруг рывок, почти на котурны, а за ним – поток лирики: «Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить – об оттенке облака, о пеньи мысли», и о том, что «подсолнух улыбнулся мне всеми своими семечками».1581 Это ли не счастье?
Марсель, работа в порту, «харчил там с русскими матросами», «мухи кружились над пятнами борща и вина…», и одновременно «думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю наизусть название черепных костей… Странно было».1592 Действительно, странно – что-то вроде раздвоения личности. Но хоть и очень тянет его ещё и в Африку, и в Азию: «…мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай», – это уже отзвуки, отдалённый, уходящий гром прошедшей грозы. Импульс бегства выдохся. Он вспоминает, что маме «очень уж одиноко приходится» и, кроме того, есть ещё «тайна – или, вернее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить». Эти «две вещи заставляют меня вернуться на время в Берлин». Дважды эмфатически повторенная «тайна» – это Вера: «И если тебя не будет там, я приеду к тебе – найду… До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь».1603 Марсельский опыт обойдётся рассказом «Порт» – не более. А вот приписка – «Я здесь очень много написал. Между прочим, две драмы, “Дедушка” и “Полюс”» – имела логическое продолжение. Предстояло написать ещё одну, завершающую драму этого периода – «Трагедию господина Морна».
«Спираль – одухотворение круга» – так начинается тринадцатая глава воспоминаний Набокова. Что, «в сущности, – продолжает он, – выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии… Цветная спираль в стеклянном шарике – вот модель моей жизни».1614 Если применить эту модель к основным фазам личной (но и связанной с творческой) жизни Набокова, то в ней первым тезисом, очевидно, проступает его первая, юношеская любовь – Валентина Шульгина, оставившая по себе долгий и неизгладимый (несмотря на старания от него избавиться) след. Место антитезиса занимает Светлана Зиверт, впоследствии напоминавшая о себе редкими, но явными признаками фантомной боли – не простил, уязвлённое самолюбие. И, наконец, Вера – синтез, и новый тезис – как оказалось, способный противостоять искусу следующего антитезиса, т.е., в конце концов, неподвластный ему, вечный.
В интервью Бойду Вера говорила, что она «прекрасно отдавала себе отчёт» в том, насколько Набоков талантлив, ещё до знакомства с ним. Его стихи она вырезала из газет и журналов с ноября 1921 г.1621 Ко времени знакомства с Набоковым Вере Слоним был 21 год, но она была не по годам зрелым и ответственным человеком, и имела пусть заочное, но близкое к действительности представление о его личности и характере. Её любовь обещала быть исключительно проницательной. «В конце лета, – сообщает Бойд, – Набоков нашёл Веру Евсеевну в Берлине – она сняла маску, а вместе с ней отбросила все свои опасения».1632 Последнее, увы, не подтверждается. Вере было чего опасаться: осиротевшая семья Набоковых собиралась в Прагу, где Елене Ивановне, вдове видного общественно-политического деятеля, обещали от чехословацкого правительства скромную, но пожизненную пенсию.
Владимиру, старшему из пятерых детей, любимцу матери, естественно было бы уехать вместе со всеми. Разлука? Более чем вероятно. К иллюзиям Вера не была расположена, скорее наоборот – жизненный опыт её семьи подсказывал, что еврейская судьба обязывает всегда быть готовыми к испытаниям. В какой она была тревоге – показывает письмо Набокова от 8 ноября 1923 г., из Берлина в Берлин, с его адреса на её. Оно начинается без обращения, как было иногда свойственно ему в моменты особого душевного напряжения: «Как мне объяснить тебе, моё счастье, моё золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой – со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить, что слóва не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесёшь ты его… И я знаю: не умею я сказать тебе ничего… Я клянусь… – я клянусь всем, что мне дорого, во что я верю, – я клянусь, что так (подчёркнуто в тексте письма – Э.Г.), как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить… И я больше всего хочу, чтобы ты была счастлива, и мне кажется, что я бы мог тебе счастье это дать… Слушай, моё счастье, – ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? ... ты мне невыносимо нужна… Судьба захотела исправить свою ошибку – она как бы попросила у меня прощения за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, моё солнце?».1643
И это только выдержки из двух страниц печатного текста, которые занимает это письмо, пока добирается до ключевого вопроса, ради которого оно и написано. Казалось бы (даже при очень сокращённом цитировании), совершенно ясно, что вопрос, заданный в конце второй страницы, заслуживает уже быть воспринятым как чисто риторический. Но нет – Набоков и на него отвечает: «Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я должен (подчёркнуто в тексте письма – Э.Г.) был бы уехать. А так – просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода “будь что будет”. Безвольное и волевое. Прости мне – но я живу вторым. И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чём я думать боюсь, – такое это было бы счастье…».1651
Да, нелегко далось Набокову переломить Верино «будь что будет»:
Да, старомодная медлительность речей,
стальная простота…Тем сердце горячей:
сталь, накалённая полётом...
Эти строки, написанные поперёк, посреди текста – «хвостик», якобы оставшийся на листке, где «я как-то … начал писать стихи тебе … и спотыкнулся. А другой бумаги нет».1662
Очевидный намёк на «поперечный» характер Веры.
ВЕРА… И «МОРН»
Набокову пришлось сопровождать семью в Прагу, чтобы позаботиться и убедиться, что всё относительно приемлемо устроилось; при этом, однако, «успев удивить домашних», – как вспоминала младшая из сестёр, Елена, – своим намерением вернуться в Берлин.1671 Он ужаснулся условиям, в которых они оказались, и 30 декабря пишет Вере, что при первой возможности постарается уговорить мать вернуться в Берлин. Несмотря на все хлопоты, которыми ему приходится заниматься, он не прекращает работу над пятиактной стихотворной драмой, начатой несколько месяцев назад, – «Трагедией господина Морна».
По мнению Барабтарло, встреча с Верой «явственно и загадочно» повлияла на «многие взгляды Набокова и его художественную систему».1682 Его письма из Праги – своего рода челнок, беспрестанно снующий между Верой и «Морном» и с обоими одновременно выясняющий отношения.
31 декабря 1923 г.: «Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе … хочу кончить моего Морна». Он находит в Вере идеального читателя: есть только два человека, которым он читает «с наслаждением», – она и мама, он видит в Вере «эту твою чудесную понятливость, словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли… Знаешь, я никому так не доверял (курсив в тексте – Э.Г.), как тебе».1693 8 января 1924 г.: «Ты знаешь, мы ужасно похожи друг на друга… Ты – моя маска… Морн растёт, как пожар в ветряную ночь».1704 10 января: Набоков ждёт от Веры письма – «…ан нет. Очень мне грустно стало… Я сочинил небольшой монолог…», – и он приводит монолог Дандилио, персонажа, устами которого он передаёт центральные идеи своих метафизических поисков – с выводом, что «мир божественен, и потому всё – счастье … я тебя очень люблю, моё счастье … сочиняю, не переставая… Ты меня не “разлюбила”?»1715 12 января: «Вчера я видел тебя во сне, будто я играю на рояли, а ты переворачиваешь мне ноты…».1726 14 января: «Я так обижен на тебя …Правда, почему ты не пишешь мне? ...мне кажется, что голова моя – кегельбан. А тут ещё ты – молчишь… Впрочем, ты – моё счастье».1737 16 января: «Спасибо, моя любовь, за твои два изумительных письма…Трагедия же не сегодня-завтра дойдёт до такой точки, после которой её можно будет кончать где угодно… И теперь занимает меня только – ты, – никаких Морнов мне не нужно!»1741 17 января: «Любовь моя, я возвращаюсь в среду… Мне осталось полторы сцены… Я никогда не думал, что буду грезить о Берлине, как о рае … земном… Мне почему-то кажется, что мы с тобой скоро будем очень счастливы… Сейчас опять засяду за Морна. Боже, как хочется тебе почитать… Неистово и бесконечно люблю тебя… Люблю».1752
И, наконец, последнее (от 24 января) – всего за три дня до возвращения в Берлин – письмо, но ему не терпится сообщить Вере, что «Морн» посвящается ей: «Толстая моя черновая тетрадь пойдёт к тебе – с посвящением в стихах. Косвенно, какими-то извилистыми путями … эту вещь внушила мне ты; без тебя я бы этак не двинул… Я всё твёрже убеждаюсь в том, что the only thing that matters в жизни, есть искусство».1763
«Трагедию господина Морна» Г. Барабтарло определяет как явление «неожиданного шедевра», в котором «Набоков обнаруживает не по возрасту мощное мастерство, и где же? не в прозе, но в драме, да ещё и в стихотворной!».1774 По его мнению, «эта драма в стихах, с развёрнутым прозаическим описанием, есть узловая станция на пути от ранней поэзии Сирина к последовавшей тотчас серии его рассказов и затем романов. Отсутствие такой транзитной станции очень ощущалось, так как трудно было объяснить столь скорый и резкий скачок качества его писаний после 1923 года».1785
Биограф Веры Стейси Шифф, сопоставляя переводы, опубликованные Верой летом 1923 г. в «Руле», замечает: «Если и роднит что-то По с Райновым, так это восхищение запредельной жизнью, царством реальных теней, которое простирается за нашим иллюзорным существованием».1796 Таким образом, уже тогда Вера «косвенно … извилистыми путями» отправила Набокову весть, что он не одинок в своих метафизических поисках, что ей они тоже близки. Через год, в письме от 17 августа 1924 г., вспоминая о посещении с Верой могилы отца, Набоков пишет ей: «Когда мы с тобой в последний раз были на кладбище, я так пронзительно и ясно почувствовал: ты всё знаешь, ты знаешь, что будет после смерти, – знаешь совсем просто и покойно, – как знает птица, что спорхнув с ветки, она полетит, а не упадёт… И потому я так счастлив с тобой… И вот ещё: мы с тобой совсем особенные; таких чудес, как знаем мы, никто не знает, и никто так (курсив в тексте – Э.Г.) не любит, как мы».1807
Вера, «в известном смысле», и оказалась той «узловой станцией», на которой определился дальнейший маршрут жизни и творчества Набокова. В ней он, наконец, обрёл не только «необманную» любовь, но и достойного его интеллектуального и духовного уровня диалогического партнёра – прямую речь прямой Веры. На тесную и жёсткую для него платформу под вывеской «Драма» Набокова вынесло после обильных стихотворных излияний по поводу «недоплаканной горести», – оставшихся безответными. Он и изначально чувствовал в Светлане «дымку чуждости», но надеялся (в стихотворении «Ты»), что хотя:
Далече до конца,
но будет, будет час, когда я, торжествуя,
нас разделявшую откину кисею,
сверкнёт твоя душа, и Счастьем назову я
работу лучшую, чистейшую мою.1811
Но спустя немногим более года, 7 марта 1923 года, он сетует:
Бережно нёс я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки. Не знаю,








