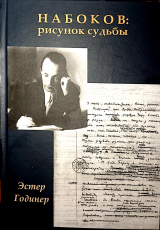
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
Заметим: у Добролюбова приблизительно тот же комплекс противоречивых черт маргинальной личности, что и у Чернышевского, сходным образом проявляющий себя как потенциал, побуждающий к протестным социальным действиям: семинарское образование, затем – высшее светское (у Добролюбова – Педагогический институт), бедность, честность, скромность, застенчивость, неуклюжесть, близорукие глаза, которые у Чернышевского описаны как «кроткие, пытливые» и в них «ангельская ясность», а у его младшего на восемь лет единомышленника в маленьких близоруких глазах видится «бессильная пытливость» (курсив мой – Э.Г.). «Дружба соединила этих двух людей вензельной связью», – заключает автор, и это действительно так, лучшей символики не подобрать.16771 Они познакомились в 1856 году, а в следующем, 1857-м, когда Добролюбову был всего двадцать один год, именно по его инициативе, как сообщает Долинин, «Современник» начал выходить с сатирическим приложением «Свисток», для которого новым сотрудником писались «пародии и стихи на злобу дня, обычно в форме комических перепевов известнейших произведений русской лирики. Подобный перепев лермонтовского “Выхожу один я на дорогу…” <…> вышучивал знаменитого врача и педагога Н.И. Пирогова (1810-1881), попечителя Киевского учебного округа, за то, что он занял компромиссную позицию по вопросу телесных наказаний в школах».16782 Непонятно, однако, чем эта бескомпромиссная позиция Добролюбова по вопросу о телесных наказаниях в школах могла так не понравиться специально и намеренно пренебрежительно сославшемуся на этот эпизод автору, – что, всего лишь несовершенством её художественного выражения? Или: небрежно брошенное, но безапелляционное обвинение, что Добролюбов был «топорно груб и топорно наивен», не подтверждённое доказательствами: «…тут не место распространяться о литературной деятельности младшего»,16793 – имеется в виду младшего сподвижника Чернышевского. А где тогда «место»? Точно так же, походя, и с аристократическим небрежением, не снисходя до каких бы то ни было объяснений, некто, заявивший себя биографом, очередной раз срочно припадает к спасительному Страннолюбскому, «по выражению» которого, «от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берётся в кавычки: студент привёз “литературу”».16804 Даже если это было бы окончательно и бесповоротно именно и только так, – что вряд ли доказуемо. – то хотя бы ради извлечения уроков из этого прискорбного опыта следовало бы не отмахиваться от него, а отследить анамнез и характер его пороков, дабы упредить их повторение в будущем.
Неприятное и неопрятное впечатление оставляют эти страницы текста, и особенно – с красной строки: «Гораздо занимательнее (sic! курсив мой – Э.Г.) тупой и тяжеловесной критики Добролюбова (вся эта плеяда радикальных литераторов писала, в сущности, н о г а м и) (разрядка в тексте – Э.Г.) та легкомысленная сторона его жизни, та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила Чернышевскому материалом для изображения “любовных интриг” Левицкого (в “Прологе”). Добролюбов был чрезвычайно влюбчив».16815 Набоков, всегда готовый щитом дискретности ограждать от публичности свою личную жизнь, не постеснялся пуститься в обсуждение приключений беззащитного и несчастного в своей любвеобильности Добролюбова, страдавшего, видимо, в этом отношении, пограничным расстройством личности.
Вернувшись к Чернышевскому, биограф описывает его визит в Лондон к Герцену в июне 1859 года, впечатляющий кардинальными изменениями, произошедшими к этому времени в характере личности и деятельности героя, превратившегося в агрессивного, наступательно настроенного претендента на роль вождя, обуянного лелеемой им идеей революции. Этот фокус соединяет в одно все его последующие планы, и литература в них – простор для утопических фантазий, средство социального воспитания, вынужденная сублимация реальной деятельности, т.е. всё, что угодно, но никак не самоцель. Как сообщает автор, конкретной целью этого визита было «“ломать Герцена” (как впоследствии выразился), т.е. дать ему нагоняй за нападки в “Колоколе” на того же Добролюбова»16821 – такова теперь «силовая» терминология, определяющая деятельность бывшего кроткого, слабого «второго Спасителя». В 1888 году, за год до смерти, Чернышевский, в письме к издателю К.Т. Солдатенкову продолжал упрямо настаивать: «Я ломаю каждого, кому вздумаю помять рёбра; я медведь. Я ломал людей, ломавших всё и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать выговор за нападение на Добролюбова, и – он вертелся передо мной, как школьник)».16832
Далее: биографом особо отмечается, что «именем Добролюбова, особенно потом, в связи с его смертью, Чернышевский орудовал весьма умело “в порядке революционной тактики”»,16843 – то есть тот юноша, который когда-то сетовал в дневнике на свою «слабь, глупь», теперь вполне уверенно и цинично, как опытный политик, играет в своих целях на памяти о своём покойном друге. Филиппики против Герцена, осмелившегося критиковать не только Добролюбова, но и в целом «Современник» как журнал, занявший «Very Dangerous!!!» («Очень опасную!!!»)16854 – с тремя восклицательными знаками – позицию в демократическом движении, не помешали радикальному «властителю дум» впоследствии, когда в 1862 году журнал закрыли, вести с тем же, непростительно либеральным Герценом настойчивые, требовательные переговоры об его издании за границей.
Наконец, в дополнение к выраженной ассертивности вождя будущей революции и вполне освоенным им цинизму и неразборчивости в средствах для достижения поставленных целей, характер Чернышевского пополнился ещё одним симптоматичным свойством, обусловленным реакцией на цензуру: параноидальным пристрастием к конспирации. Автор, эту подоплёку в данном случае явно недооценивающий, наивно дивится тому, как это «он, всю жизнь занимавшийся Англией, питавший душу Диккенсом и разум “Таймсом” … так мало следа оставил в писаниях» об этой поездке, почему «этот вояж окружён такой дымкой, и он потом никогда о нём не говорил, а если уж очень приставали, отвечал кратко: “Да что там много рассказывать, – туман был, качало, ну что ещё может быть?”».16861 Автор, как бы ставя себя на место своего героя, впервые оказавшегося в Англии, воображал, «как бы он должен был захлебнуться, как много набрать впечатлений, как настойчиво потом сворачивать на это воспоминание!».16872 Сирин, в «Даре» гордившийся тем, что этот его протагонист, в отличие от всех предыдущих, наконец-то обрёл способность видеть любого человека так, как если бы он сам выдул его из прозрачного стекла, – на сей раз подвёл своего Фёдора вдвойне. Чернышевский «не захлебнулся» впечатлениями об Англии и не имел никакого резона писать он них, и не только из соображений прямо-таки бросающейся в глаза мании конспирации: «(все думали, что он в Саратове)», – специально, в скобках, отмечается в тексте, но и просто из-за отсутствия интереса к таким впечатлениям. Он по природе своей, изначально, не был, в отличие от Набокова, литератором по призванию: пальцы в чернилах служили революционному делу, заботами о всеобъемлющей любознательности подлинного художника и высокой эстетике нимало не обременяясь.
По уточнённым данным, Чернышевский прибыл в Лондон не 26, как сообщает автор, а 24 июня (по старому стилю) 1859 года; виделся он с Герценом дважды – в день приезда и 27 июня. Долинин подтверждает, что «мимолётной свидетельницей» одной из встреч (второй) была гражданская жена Герцена Н.А. Тучкова-Огарёва, на которую гость произвёл впечатление, напоминающее читателю о прежнем, молодом Чернышевском: «…с лицом некрасивым, но “озарённым удивительным выражением самоотверженности и покорности судь-бе”», – впрочем, повествователь сомневается в столь преждевременном предчувствии ею ещё не состоявшейся судьбы.16883
Как бы то ни было, но с этого времени конспирация, несомненно, становится правилом жизни Чернышевского: осенью 1861 года, ежедневно навещая умиравшего Добролюбова, он затем «шёл по своим, удивительно скрытым от слежки, заговорщицким делам».16894 Кто и какие писал прокламации, неизвестно было даже печатавшему их Костомарову. Ещё в июле за основу «подземного» общества была принята система пятёрок, впоследствии вошедших в «Землю и Волю». Однако, хотя Чернышевский и был признан всеми исследователями инициатором и идейным вдохновителем этого тайного общества (а по современным критериям, самой настоящей террористической организации), «вопрос о его практическом участии в нём, – как резюмирует Долинин, – до сих пор остаётся дискуссионным».16901 «Но повторяем: он был безупречно осторожен», – настаивает биограф,16912 – и это наводит на мысль, что подвергать наибольшему риску ареста не себя, а более «рядовых», значит, и политически «менее ценных» участников революционного дела становилось для Чернышевского морально оправданной, повседневной практикой вождя скорой, как он верил, революции, – что плохо совместимо с былым образом мечтателя о жертвенной судьбе «второго Христа». Так Чернышевский, которого Годунов-Чердынцев считал во всём и всегда завзятым неудачником, открыл для себя алгоритм вождя-оборотня: превращения одиночки, готового по-христиански жертвовать собой ради «общего блага», – в конспиративного провокатора, манипулирующего своими тайными агентами и через их посредничество посылающего на тот же самый жертвенник некий, собирательно понимаемый «народ».
Пик эмоциональной и организационной мобилизации Чернышевского биограф усматривает как раз в это время: «Революция ожидалась в 63 году, и в списке будущего конституционного министерства он значился премьер-министром. Как он берёг в себе этот драгоценный жар!».16923 Нельзя не восхититься, как мастерски, с каким собственным «жаром», с какой неповторимой выразительностью Набоков передаёт словесно почти неуловимые оттенки того состояния личности, когда харизма вождя страстно вожделеет приближения своего «звёздного часа». Его герой «теперь наслаждался разреженным воздухом опасности, окружавшим его. Эту значительность в тайной жизни страны он приобрёл неизбежно, с согласия своего века, семейное сходство с которым он сам в себе ощущал. Теперь, казалось, ему необходим лишь день, лишь час исторического везения, мгновенного, страстного союза случая с судьбой, чтобы взвиться».16934
И куда только делся пресловутый, прокламируемый им самим и послушными ему исследователями набоковский «антиисторизм» – с таким-то абсолютным историческим чутьём и безошибочным, в яблочко, вербальным его пригвождением. Точнейший, почти медицински точный диагноз завершает этот повествовательный период: «Таинственное “что-то”, о котором, вопреки своему “марксизму”, говорит Стеклов и которое в Сибири угасло (хотя и “учёность”, и “логика”, и даже “непримиримость” остались), несомненно б ы л о (разрядка в тексте – Э.Г.) в Чернышевском и проявилось с необыкновенной силой перед самой каторгой. Стеклов объясняет это угасание самым простым и убедительным образом, вне всякой связи с марксизмом: «Физически Чернышевский пережил вилюйскую ссылку, но духовно он вышел из неё искалеченным, с надорванными силами и душевным надломом».16941 Да и сам Чернышевский, «быть может, предчувствуя», как отмечает автор, ещё во времена «Современника» нашёл в книге географа Сельского о Якутской области замечание, что «всё это», то есть совокупность местных условий жизни, «утомляет и гениальное терпение».16952
Сибирь, с её просторами и безлюдьем, всегда верно служила России безотказным средством избавления от всякой оппозиционной скверны, раз за разом гасившим очаги социального недовольства, – пока не аукнулись ей умудрившиеся вернуться оттуда вожди мирового пролетариата Ленин и Сталин. Чернышевского они не забыли и преуспели не только в мечтах, но и в геополитической реальности, после революции сначала сослав в Сибирь, а затем и расстреляв там последнего царя со всей его семьёй, впоследствии же – превратив всё Зауралье в неисчерпаемый резерв для концлагерей и ссылок. Такой оказалась расплата российской истории за географический гигантизм и унаследованную со времён татаро-монгольского ига неспособность к усвоению западноевропейских систем ценностей, достаточных для проведения реформ, опирающихся на социальный компромисс, пусть несовершенный, но создающий возможность достойного человеческого общежития.
О каком компромиссе могла идти речь, если проявление «таинственного» (харизматического) «что-то» Чернышевского виделось властям как совершенно нестерпимое: «Притягивающее и опасное, оно-то и пугало правительство пуще всяких прокламаций. “Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов, – взволнованно говорилось в доносах, – избавьте нас от Чернышевского”».16963 Подобное мнение ходило не только в реакционных кругах – оно разделялось и Герценом. Однако, поскольку «в России цензурное ведомство возникло раньше литературы», как раскавыченным афоризмом от историка Н.А. Энгельгардта (сына активного участника революционного движения начала 1860-х годов) сообщается в тексте,16974 то острое социальное недовольство в российском обществе не могло перейти в легитимное русло обсуждения и поиска возможных решений назревших проблем. Вместо этого цензурные запреты провоцировали жанр злой вербальной эквилибристики, лишь обострявший накал страстей: «Деятельность Чернышевского в “Современнике” превратилась в сладострастное издевательство над цензурой»,16981 и впрямь становившееся едва ли не самоцелью с последующими анекдотическими вывертами по обе стороны враждующих лагерей, заодно развращавшими и читателя этими забавами.
Сама общественная атмосфера этих лет приобретала характер пародии, в которой, как в кривом зеркале, люди отражались не лицами, а искажёнными их социальными ролями гримасами. Если исходить из известного тезиса Набокова о том, что жизнь подражает искусству, то это были подражания даже не Гоголю, а попросту Салтыкову-Щедрину: чего стоили, например, «за хороший оклад» и по распоряжению Главного Управления цензуры, розыски «злонамеренных сочинений», скрывающихся за нотными знаками музыкальных пьес; или, в порядке «кропотливого шутовства», намёки Чернышевского на запрещённого Фейербаха с помощью вывернутой наизнанку «системы Гегеля».16992 Эти и многие другие его «специальные приёмы» впоследствии были разоблачены и в письменном виде представлены Третьему отделению Костомаровым.
Основанный Чернышевским под видом «Шах-клуба» в начале 1862 года литературно– политический кружок свидетельствовал о прискорбном состоянии умов и настроений в писательско-разночинной среде: «Серно-Соловьёвич … в уединённом углу заводил с кем-нибудь беседу. Было довольно пусто. Пьющая братия – Помяловский, Курочкин, Кроль – горланила в буфете. Первый, впрочем, кое-что проповедовал и своё: идею общинного литературного труда, – организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего общественного быта, как-то: нищие, мелочные лавки, фонарщики, пожарные, – и все добытые сведения помещать в особом журнале. Чернышевский его высмеял, и пошёл вздорный слух, что Помяловский “бил ему морду”».17003 Последнее, если верить письменному обращению к Чернышевскому «едва ли трезвого» Помяловского, было сплетней; фонарщиков, ради гоголевских подтекстов, добавил в список Набоков.
«Повальному пьянству в 1860-х годах, – отмечается далее в “Комментарии” Долинина, – были подвержены многие из литераторов демократического направления». Пьянство, по рассказам свидетелей и участников тогдашней «пьющей братии», осмысливалось как протестная «идея», «культ», как демонстрация презрения к «толпе», «не чувствующей угрызений того “гражданского червяка”, который сосёт сердце избранников». Среди любителей пьяных застолий называются и член ЦК «Земли и Воли», и состав редакции сатирического журнала «Искра»,17014 – то есть типичные представители борцов за благо «народа», его же, как безразличную к их самоотверженной деятельности «толпу», презиравшие. Нельзя не заметить, что чем-то эта нездоровая атмосфера напоминает знакомые Сирину бичующие время, судьбу и самих себя камлания поэтов и критиков «парижской ноты».
2 марта 1862 года Чернышевскому, впервые со дня защиты диссертации, предоставилась возможность проявить себя в огромном зале, при стечении многочисленной и самой разнообразной публики: по воспоминаниям одного из присутствовавших, «от представителей литературы и профессуры до юных студентов и офицеров, от важных сановников до чиновников канцелярии».17021 И что же? Самый большой успех у публики вызвало выступление профессора Петербургского университета, историка и общественного деятеля П.В. Павлова, который, завершая свою торжественную речь в честь тысячелетия России, сказал (если цитировать текст Набокова, следующего Стеклову), «что если правительство остановится на первом шаге (освобождение крестьян), “то оно остановится на краю пропасти, – имеяй уши слышати, да слышит” (его услышали, он был немедленно выслан)». В Ветлугу – уточняет Долинин.17032
Что же касается Чернышевского, то, по описанию биографа, «встреченный крупными рукоплесканиями», он публику совершенно разочаровал – не оратор, не трибун: «…некоторое время стоял, мигая и улыбаясь», не так причёсан, не так одет. Говорил то ли слишком скромно, то ли слишком развязно.17043 В мемуарах хорошо знавшего Чернышевского Н.Я. Николадзе отмечалось: «Ретивейшим из его поклонников показалось, что нам его просто подменили», им не верилось, что это был тот самый Чернышевский, который «так бесцеремонно крушит в печати первоклассных писателей».17054 «Его тон, – продолжает в том же духе автор, – “неглиже с отвагой”, как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намёков публику покоробили; он не имел никакого успеха, между тем как Павлова чуть не качали».17065
Можно было бы, на этот раз, и чистосердечно посочувствовать Николаю Гавриловичу, если бы дело было лишь в неумении, неподготовленности, отсутствии привычки к выступлению на публике, – однако подобной невинности здесь нет, а есть обдуманное поведение, мотивированное обострённым чувством самосохранения и стремлением стушеваться, отступить на задний план, спрятаться за чью-то спину. Ему вполне хватило самообладания, чтобы он, «обращаясь с публикой запанибрата, стал чрезвычайно подробно объяснять, что Добролюбовым он де не руководил».17071 Тот же «Николадзе замечает, – и отмечает, вслед за ним и автор, – что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского; сам-то он – впоследствии, в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, – пронзительно жалел о вялости, о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай (раз всё равно был обречён на гибель!) … и не сказал железной и жгучей речи».17082 Второго такого случая ему не представилось. Всего через четыре месяца он окажется под арестом.
Непосредственную предысторию ареста Чернышевского Набоков захватывающе описывает в нарочито фантастических тонах – как симптомы вмешательства неких сатанинских сил, вызвавших серию пожаров, достигших апогея 28 мая 1862 года, в Духов день, и спаливших весь Апраксин Двор, подожжённый, как предполагалось, «мазуриками», то есть попросту уголовными элементами, в помощи «чертовщины» для своих действий как будто бы не нуждающимися, но, тем не менее, событийно с ней как-то якобы связанными. И вот – «на этом оранжево-чёрном фоне» – автора посещает «видение: бегом, держась за шляпу, несётся Достоевский: куда?».17093 В следующем абзаце: «Прибежал к сердцу ч е р н о т ы, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять п р и о с т а н о в и т ь всё это. Тут занятны два момента: вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен ещё в 1849 году петрашевцами»17104 (разрядка в тексте – Э.Г.).
Версия Достоевского об этой встрече существенно отличается от воспоминаний о ней Чернышевского, – и не только фактами, но и атмосферой. Согласно «Дневнику писателя» Достоевского, он посетил Чернышевского спустя несколько дней после пожаров и говорил не о них, а о возмутившей его, обращённой к молодёжи прокламации. Он просил Чернышевского употребить все своё влияние, чтобы остановить тех, кто стоит за ней, видимо, опасаясь каких-то противоправных действий, но не со стороны рыночных уголовников, а революционно настроенной молодёжи. Чернышевский же описывал внезапно посетившего его Достоевского как находившегося в состоянии «умственного расстройства», а встречу с ним – как «потешный анекдот»: по его словам, Достоевский якобы просил его именно как человека, хорошо знакомого с поджигателями Толкучего рынка, воспрепятствовать повторению подобных поджогов.
«Набоков, однако, – как свидетельствует Долинин, – следует версии Чернышевского, изложенной в его заметке “Мои свидания с Ф.М. Достоевским” (1888)».17115 Нет сомнений, что версия Чернышевского, согласно которой его влиянию приписывалась мощная мистическая сила, а Достоевский представал всего лишь жалким и нелепым просителем, биографу показалась предпочтительной, так как она отражала атмосферу общего ажиотажа, всё более концентрировавшегося на самой, якобы сатанинской, фигуре Чернышевского, что отвлекало внимание от стоявших за ней реальных социальных проблем, требовавших проведения настоятельных и кардинальных реформ.
Поэтому так и осмысливался суеверными агентами – «не без мистического ужаса» – громкий смех, который слышали соседи из открытых окон квартиры Чернышевского «ночью в разгаре бедствия», – а смеялись, как оказалось, молодым и глупым смехом, сбежавшиеся к своему кумиру разудалые, революционно настроенные студенты. «Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох».17121 Наконец, 7 июля, в своём доме, в Саратове, после ряда трагикомических приключений, похожих на дурного вкуса фарс, Чернышевский был арестован. «“Итак, – восклицает Страннолюбский в начале лучшей главы своей несравненной биографии, – Чернышевский взят!” Весть об аресте облетает город ночью».17132
И Страннолюбский, альтер-эго Годунова-Чердынцева, которому дозволяется большая свобода суждений, нежели скрывающемуся за ним псевдо-оригиналу, в свою очередь прикрывающему Сирина-Набокова, с явным удовольствием пользуется этой свободой и «выпукло описывает сложную работу», благодаря которой властям, оказавшимся в «в курьёзнейшем положении», не имея прямых улик и действуя «подставными величинами», удалось найти некое решение задачи, почти совпадавшее с решением подлинным».17143
Пародируя Чернышевского, любившего «дельно» соединять «это с тем, а то с этим», Страннолюбский моделирует схему треугольника, посредством которого эта задача решалась. Одним катетом Чернышевский (обозначенный точкой Ч.) соединяется с бывшим его тайным агентом Костомаровым, ставшим «подставной величиной» в роли доносчика (и обозначенным, соответственно, буквой К.). Всеволод (а не Владислав, как ошибочно указано здесь в тексте)17154 Костомаров – бывший корнет уланского полка и поэт-переводчик (1839-1865), был арестован в августе 1861 года «по делу о тайном печатании нелегальных произведений», и вскоре начал рьяно сотрудничать с Третьим отделением. Фактически всё обвинение Чернышевского строилось на его ложных показаниях и сфабрикованных им документах».17161 Приговор, вынесенный ему лично Александром II и объявленный в Сенате 2 января 1863 года, разжаловал его в рядовые и после шестимесячного срока пребывания в заключении обязывал служить в армии на Кавказе, однако, учитывая его активное участие в деле Чернышевского, приговор не привели в исполнение.17172
Другой катет от Костомарова прямиком вёл к Писареву, в одной из своих критических статей о качестве поэтических переводов Костомарова прозрачно намекавшего на другой его вид деятельности – доносительство.17183 Кроме того, у арестованного властями студента была найдена неопубликованная статья Писарева, в которой он резко осуждал репрессии властей и предрекал крушение династии Романовых: «То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остаётся только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».17194 К моменту ареста Чернышевского Писарев уже четыре дня сидел в Петропавловской крепости. Соединяя гипотенузой ЧП (чрезвычайное происшествие?) катеты ЧК и КП, Набоков таким образом давал понять, что беззаконные действия царских властей – ведь «юридически не за что было зацепиться» – он уподобляет действиям властей советских: её чекистов и компартии. Эта простая модель, в отличие от неудачных, отказывающихся функционировать, рукотворных изобретений Чернышевского, сработает вполне успешно.
Освоение камерного быта и рутинного режима, странное отсутствие роения назойливых посетителей, – всё это поначалу требовало привыкания и отвлекало от общего осознания своей новой ситуации, в чём-то даже благоприятствовавшей обращению к полезным занятиям: например, переводам с немецкого и английского фундаментальных исторических трудов. Однако: «…тишина неизвестности вскоре стала его раздражать… Это было то русское недоброе уединение, из которого возникала русская мечта о доброй толпе»17205 – той «доброй толпе», которая, как заметил в своё время Пушкин, способна учинить «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Толпы под рукой у героя не было, а было затянувшееся одиночество и мучительная неопределённость ситуации, побудившие его, а вместе с ним и автора, вдруг вернуться к «теме слёз»: предельная напряжённость, грозящая взрывом протеста, требовала разрядки, катарсиса. «Перед нами, – фиксирует биограф, – знаменитое письмо Чернышевского к жене от 5 декабря 62 года [ошибка! – от 5 октября 1862 года – Э.Г. ]17216: жёлтый алмаз среди праха его многочисленных трудов … и давно не испытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас».17221
Далее же повествователь разражается вдохновенным панегириком, какого от Годунова-Чердынцева в адрес презираемого им недотёпы и косноязычного самозванца – уж никак не ожидалось! Кто бы мог подумать, что такую, поистине шекспировского пафоса характеристику Николай Гаврилович Чернышевский удостоится получить от язвительного аристократа Набокова. Трудно удержаться и не процитировать целиком почти целую страницу «от Страннолюбского»: с такой неожиданной, фонтанирующей щедростью, так великодушно и так красноречиво отдаётся в ней дань сопереживания и сочувствия страдальцу за идею «блага народа» – как бы её ни понимать. «Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, всё то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть … рвануть узду и, может быть, обагрить кровью губу России, – всё это теперь нашло болезненный исход в его переписке».17232
Как проницательно (и не чураясь согласиться с марксистом Стекловым), увидел Страннолюбский в этом письме к жене «начало недолгого расцвета Чернышевского», представлявшего собой отнюдь не реализацию на практике дела его жизни, а отважный протестный вызов, отчаянную сублимацию – «болезненный исход в его переписке». Именно это поневоле стало «венцом и целью всей его … жизненной диалектики … эта торжествующая ярость аргументов, эта цепями бряцающая мегаломания». «“Люди будут вспоминать нас с благодарностью”, – писал он Ольге Сократовне, – и оказался прав: именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшемуся простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов».17243
То, что Набоков называет мегаломанией, проявляется и в двух других провозвестиях, высказанных Чернышевским в том же письме к жене, но опущенных в тексте Набокова: «Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена всё ещё будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами».17254 Из тюремной камеры он не усомнился пророчить себе долгую посмертную славу: «Со времени Аристотеля не было делано ещё никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель».17265 Приведя из этого долгосрочного прогноза лишь три последние слова, автор, для демонстрации «темы слёз», цитирует следующую фразу письма, из которой ясно, что сокровенные свои устремления Чернышевский адресует только своей жене, прося её хранить их в секрете. Вот тут-то, у сгиба страниц, и остались следы слёз, по дотошным наблюдениям Годунова-Чердынцева («которые имеют под собой достаточно серьёзные основания», как предполагают специалисты), капнувших на бумагу до, а не после начертания этих строк, как полагал Стеклов.17271
Второе письмо, датированное 7 декабря 1862 года, то есть не через два дня после первого, как ошибочно указывается в тексте, а спустя два месяца,17282 преисполнено уже не мечтами о благодарной памяти потомков, а поразительной верой арестанта в свою неуязвимость и нетерпеливым ожиданием того, как он, благодаря этой самой неуязвимости, начнёт «ломать» своих судей. Ради отслеживания логики рассуждений Чернышевского, биограф выделяет в них восемь последовательных пунктов, первый из которых исходит, в сущности, из презумпции невиновности: «Я тебе говорил по поводу слухов о возможном аресте, что я не запутан ни в какое дело и что правительству придётся извиняться, если меня арестуют».17293 И далее, пункт за пунктом, уверенно прогнозируется, что поскольку слежка, вопреки ожиданиям, оказалась небрежной, проводилась «не как следует», – иначе бы знали, что «подозрения напрасны», – правительство оказалось компрометированным; отсюда следует, что, по выявлению невиновности Чернышевского, ему буден дан ответ и принесены извинения: пункт 8 – «Этого ответа я и жду».17304 Начальник Третьего отделения Потапов назвал письмо Чернышевского «довольно любопытным», однако к снятой с письма копии подшил свою карандашную записку: «Но он ошибается: извиняться никому не придётся».17315
Трудно сказать, чему приходится дивиться больше в письме Чернышевского: его сверхнаивным ожиданиям, несовместимым с элементарными представлениями о пенитенциарной системе Российской империи, особенно по части наказаний, практикуемых для носителей зловредного политического инакомыслия; или – что не менее удивительно – давней, с 1848 года, и странной своим упорством неспособности Чернышевского понять, что именно те законы западного либерализма, которые он считал слишком «отвлечёнными» и не пекущимися о «благе народа», – «право свободной речи» и «конституционное устройство», – что только они и обеспечивают пусть несовершенную, но реальную правовую защиту граждан от произвола властей. Ради достижения «блага народа», считал Чернышевский, от этих обманчивых и пустых формальностей, от свободы, «разрешённой на бумаге», можно и отказаться. Вот ему и откажут в свободе, – разумеется, ради «общего блага», – разве что понимаемого властями предержащими несколько иначе, нежели Николай Гаврилович.








