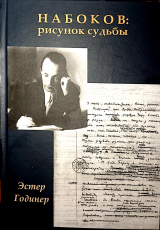
Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"
Автор книги: Эстер Годинер
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
Ещё никто и никогда не проявлял к Лужину столько тепла и человеческой симпатии. Очень усталый, очень одинокий, он так нуждался в поддержке: «Он тяжело дышал, ослабел, чуть не плакал, когда добрался до гостиницы». И, с ходу ворвавшись к ней, в нелепых выражениях, «продолжая вышесказанное», объявил, что она будет его супругой. Рыдал, обняв паровое отопление. Она успокаивала, утешала: «Ей тогда же стало ясно, что этого человека, нравится ли он тебе или нет, уже невозможно вытолкнуть из жизни, что уселся он твёрдо, плотно, по-видимому, надолго».4991 И прекрасно понимая, что Лужин – «человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем»,5002 и его присутствие в лубочной, псевдорусской обстановке её дома и общение с её родителями может обернуться «чудовищной катастрофой», она, тем не менее, не могла противостоять, в сущности – себе самой, своей тяге, своей эмпатии, которая была её призванием, требующим реализации.
На сей раз, уезжая в Берлин на решающий для него турнир, Лужин поверил, что она приедет, не покинет его, как это было в поисках «залы»: «…она обещала, обещала… Так держать её у себя на коленях было ничто перед уверенностью, что она последует за ним, не исчезнет, как некоторые сны».5013 Однако сразу за этим оптимистическим выводом он вновь мысленно возвращается к последнему разговору с ней, он даже как бы слышит её «голос, который всё продолжал звенеть в ушах, длинными линиями пересекал его существо, занимая все главные пункты».5024 Нельзя не понять – из этих слуховых почти галлюцинаций, – какое место она заняла в жизни Лужина. И он ещё вспомнил, как она, сидя у него на коленях, «старалась осторожным пальцем поднять его веки, и от лёгкого нажима на глазное яблоко прыгал странный чёрный свет, прыгал, словно его чёрный конь...», и дальше, воображая предстоящую ему партию с Турати, Лужин, оценивая шансы черных, которые, как будто бы, «на их стороне», отмечает: «Была, правда, некоторая слабость на ферзевом фланге, скорее не слабость, а лёгкое сомнение, не есть ли всё это фантазия, фейерверк, и выдержит ли он, выдержит ли сердце, или голос в ушах всё-таки обманывает и не будет ему сопутствовать».5035 «Голос в ушах» – это, опять-таки, её голос, и он внушает Лужину, как будто бы, всего-навсего, лишь «лёгкое сомнение», которое, однако, если оправдается, то будет чревато такой «слабостью на ферзевом фланге», что он не выдержит, не выдержит его сердце, потому что окажется, что «голос в ушах» его окончательно обманул, он не способен ему «сопутствовать», и все его надежды на неё, обладательницу «голоса в ушах», – пустая фантазия, фейерверк.
Так иносказательно, мешая в воображении образы зрительного, слухового и шахматного восприятия, Лужин, проблеском ясновидения, угадывал свою судьбу и «её» в ней роль. Он ведь, на шахматной доске своей жизни, чувствовал себя «чёрным королём» и ждал, что она, его невеста, будет ему скоро «королевой», надёжной опорой на ферзевом фланге. Когда-то, десятилетним, только-только начав, с помощью «милой тёти», знакомиться с шахматными фигурами, он с удовольствием отметил: «Королева самая движущаяся … и пальцем поправил фигуру, которая стояла не совсем посреди квадрата».5041 Теперь же его «лёгкое сомнение» – а «королева» ли его невеста, – увы, стало очень быстро оправдываться.
Дав Лужину только фамилию (которую он, однако, успел увековечить некоторыми своими «бессмертными» партиями), а «ей» – не дав даже имени, автор подчёркивает непреодолимую между ними дистанцию, неадекватность и, в конечном счёте, обречённость их союза. Уже на следующий день, в первый день турнира, в плотном кольце зрителей, и без того мешавших, мучивших Лужина («любопытство, напор, хруст суставов, чужое дыхание и, главное, шёпот... Краем глаза он видел ноги столпившихся...»), «его почему-то особенно раздражала … пара дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре, непонятно, зачем они пришли… Сизые, заострённые туфли … лучше бы цокали по панели – подальше, подальше отсюда ... он искоса посматривал на эти «неподвижные ноги...». Потом оказалось, что это ноги его невесты.5052 «Королева» должна быть «самая движущаяся», а у неё «неподвижные ноги». У неё серые чулки, такие же серые, как когда-то халат его отца, сентиментальные, поучительные повести которого она в детстве любила, а Лужин стыдился.
Нет, он очень радовался, что она была свидетельницей его первой победы, но при этом «жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных людей, чтобы поскорей её погладить». Ему очень хотелось побыть с ней наедине, в её комнате, почувствовать её тепло, ласку, поддержку. но она на его просьбы только делала большие глаза и подкладывала ему варенья. Заявляла, что она ещё не решила, выйдет ли она за него замуж. И уверяла, что у него такой усталый вид, потому что ему вредно так много играть. И назавтра он «хмуро, с виноватой усмешечкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит её уйти. Я рад, я очень рад постфактум, – умоляющим тоном пояснил Лужин, – но пока… пока это как-то мешательно».5063
Таким образом, создалась ситуация, при которой он не хотел её присутствия во время игры, она же – не находила и даже избегала возможности побыть с ним наедине «постфактум», у себя дома. Её роковой ошибкой было то, что, оставляя Лужина в своём доме на людях, она не понимала, до какой степени он врождённо неспособен к обычному общению, и невольно вынуждала его «повыше поднять веки» – смотреть и как-то реагировать на окружающих. Веки, отмечает автор, у него были тяжёлые, глаза узкие и «как бы запылённые чем-то», но в них было «что-то безумное и привлекательное».5071 Последнее она принимала за признак гениальности, в которую «верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой ... и что … в нём заиграют какие-то ещё неведомые силы, он расцветёт, проснётся, проявит свой дар в других областях жизни».5082 Она не понимала, что его дар ограничен только шахматами, что нельзя его принуждать «поднимать веки» и пытаться раскрыть «запылённые» глаза на окружающую действительность.
Так же, как и его отец, она не в состоянии была своим недалёким зрением различить, что «безумное и привлекательное» в Лужине – это свечение его «острова гениальности», на котором он только и может обретаться, от которого он неотделим, и перевести его на общий для всех материк обитания невозможно; и единственное, чем можно и нужно ему помочь – оберегая его, житейски беспомощного, от обычной и привычной для других суеты жизни, стать ему неотлучным поводырем, связным, мостом, перекинутым через пропасть его болезненного отрешения.
Сопутствие Лужину было необходимо – но только её, личное, наедине, которое бы давало отдых от шахмат и наполняло бы радостью разделённого чувства и душевным покоем. Вместо этого, появляясь в её доме, он оказывался окружённым ненужными ему людьми, с которыми он не умел, не знал, как общаться. И этот дом, в котором «бойко подавалась цветистая Россия» и в котором он поначалу «ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши, – никогда в жизни ему не было так легко и уютно»,5093 постепенно стал заполняться тем самым «странным чёрным светом», который появился у него перед глазами, когда она, сидя у него на коленях, в день накануне отъезда в Берлин, «старалась осторожным пальцем повыше поднять его веки».
Её мать подвергала Лужина унизительным допросам, бесцеремонно высказывала на его счёт бестактные, пошлые суждения, так что он, бессознательно и привычно преобразуя свои ощущения в шахматную символику и пытаясь защититься, как-то «невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля (себя) из-под угрозы световой пешки (её)».5104 Из-за паноптикума гостей, постоянно толпившихся в доме, Лужин никак не мог пробиться к невесте, и ему уже «мерещилось, что они же, эти бесчисленные, безликие гости, плотно и жарко окружают его в часы турнира».5111
И прежняя радость пошла чёрными пятнами: спал он плохо, чёрными квадратами боли болела голова, начались провалы в памяти – он забывал адрес «заветного дома», где начали, то тут, то там, появляться эти пятна. «Но что было ещё хуже, – он после каждого турнирного сеанса всё с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений, так что и днём намечалось неприятное раздвоение».5122 Он уже с трудом различал, где сон, а где явь, где шахматы, а где реальная жизнь. Так что когда невеста пришла навестить его, он не очень поверил, что это реальность. Его «не совсем утвердившееся, не совсем верное счастье» не выдержало испытания таким режимом: ему начало казаться, что невеста и всё, что с ней связано, – всего лишь сон. И опять сидя вечером среди гостей, он так ей и сказал: «В хорошем сне мы живём, – … Я ведь всё понял».5133
Стремясь избавиться от нежелательной действительности, Лужин превратил её в желательный сон – «что кругом, по-видимому, Россия», и идея этого возвращения Лужину очень понравилась остроумным повторением в игре шахматной задачи. Поняв, наконец, что всё, кроме шахмат, всего лишь «очаровательный сон … и уже не было надобности о нём беспокоиться», он целиком сосредоточился на шахматах. «Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора...»; сыгранные им партии отличала «поразительная ясность мысли, беспощадная логика … прозрачность и лёгкость лужинской мысли».5144
В день встречи с Турати Лужин странным образом «проснулся, полностью одетый, даже в пальто», он опаздывал, и за ним прислали «маленького человечка», он удивился, что за дверью его гостиничного номера коридор, а не сразу – зал для игры, но в целом чувствовал «полноту жизни, покой, ясность, уверенность», и громко всех оповестил: «Ну и победа будет».5155
Увы, во время игры – «когда, казалось, ещё одно неимоверное усилие, и он найдёт тайный ход победы», – жизнь, физическая жизнь, которую он уже привык считать, как что-то «вне его существа», напомнила о себе: «…жгучая боль, – и он громко вскрикнул, тряся рукой, ужаленной огнём спички». Этот неожиданный и короткий болевой шок оказался достаточным, чтобы на фоне общего тяжёлого переутомления произошёл острый панический приступ: «…в огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное, он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался, и невольно взглянул опять на доску, и мысль его поникла от ещё никогда не испытанной усталости».5161 После объявленного перерыва преследующие Лужина тени, призраки, извилистые, призрачные шахматные образы гнали его «куда-нибудь вылезти, – хотя бы в небытие».5172 Наконец, когда с помощью одной из теней он вышел из страшного зала, а потом какой-то голос вкрадчиво шепнул ему: «Идите домой», он понял: «Домой… Вот, значит, где ключ комбинации».5183
Д.Б. Джонсон полагает, что причиной произошедшего с Лужиным срыва послужило то, что «Лужин отсылает свою невесту домой перед игрой с Турати на турнире; этот ход совершенно отрезает его от реальности, представляемой в романе его невестой/женой». По его мнению, на шахматной доске это означало бы «заманить в ловушку и нейтрализовать ферзя противника, лишив таким образом короля его самого сильного защитника»5194 (курсив в тексте – Э.Г.). Но, во-первых, не противник, а сам Лужин отсылает свою невесту с турнира, потому что его раздражают её «неподвижные», ничего не понимающие в шахматах ноги; и, во-вторых, – и это главное, – она ему нужна не во время, а после игры и как раз для связи с реальностью. Другое дело, что этой связи не получается и после игры – из-за родителей, гостей и, в первую очередь, самой невесты – фактически пешки на «ферзевом фланге», жалостливой, но не сознающей своей ответственности и королевой быть не способной. Именно по этой причине, по подсказке «голоса» («Домой!»), Лужин в панике кидается искать не дом невесты, вместе с ней и всем антуражем ставший для него лишь сном, а тот единственный дом, в котором он когда-то уже пытался спастись – на мызе, где он опять спрячется на чердаке и «будет питаться из больших и малых стеклянных банок».5205
Увидя лежащего у порога её дома Лужина, «она так вся исполнилась мучительной, нежной жалости, что, казалось, не будь в ней этой жалости, не было бы и жизни… И всё это произошло по её вине – недосмотрела, недосмотрела. Надо было всё время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть...» – трогательная жалость, чувство вины, но совершенное непонимание личности Лужина и, соответственно, неправильный вывод. «Шахматы, картонную коробку, полную записей и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет: это ему было теперь не нужно».5216 Напротив – ему это нужно было больше всего в жизни. Прогноз Турати, что в неоконченной партии «чёрные, несомненно, проигрывали, вследствие слабости пешки на эф-четыре»,5227 окажется правильным: этой слабой пешкой на шахматной доске жизни Лужина была «она» – его невеста.
Вместе со «знаменитым психиатром», похожим на мужика с мельницы, стащившим когда-то десятилетнего Лужина со спасительного чердака, она будет «лечить» его от шахмат. Обещалось, в таком случае, «полное прояснение» (отношение Набокова к подобным школам в психиатрии хорошо известно и в данном случае до язвительности очевидно). Совместными усилиями им удалось вернуть Лужина в жизнь «не с той стороны, откуда он вышел», – на этой стороне его первым встретило «удивительное счастье», его невеста. И на первых порах это действительно способствовало его выздоровлению. Но когда в его памяти вдруг появился Турати и стала восстанавливаться картина всей его шахматной карьеры, эти «зашевелившиеся было шахматные фигуры» старательно заталкивались невестой обратно в ящик забвения: «Я вас перестану любить, – говорила невеста, – если вы будете вспоминать о шахматах...».5231 Ей помогал доктор, который говорил о том, «что кругом свободный и светлый мир, что игра в шахматы – холодная забава, которая сушит и развращает мысль... Ужас, страдание, уныние... – вот что порождает эта изнурительная игра».5242 Лужина убеждали, что он и сам это хорошо знает, что он должен испытывать отвращение к шахматам, и он, «таинственным образом тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь», в конце концов соглашался. И невеста, убеждавшая Лужина, что он здоров и «очень милый», «почему-то думала» при этом «о читанной в детстве книжке»5253 (отца Лужина), а его книжки всегда кончались душещипательным, но счастливым концом. В этом «почему-то думала» узнаётся излюбленный, ещё со времён «Машеньки», приём автора, подсказывающий читателю смысл ассоциаций персонажа: невеста Лужина, так же, как и его отец, склонна к пошлым, сентиментальным фантазиям, прекраснодушным, но далёким от жизни иллюзиям.
Расспросы психиатра и общение с невестой побуждали Лужина мысленно возвращаться в его дошахматное детство. И он вспоминал (феноменальная память и обострённое чувство времени часто сопутствуют синдрому саванта), однако эти воспоминания «невозможно было выразить в словах – просто не было взрослых слов для его детских впечатлений». «Взрослых слов» у Лужина не было, потому что его речь страдала типичными для аутизма дефектами, но зато у него была подсознательная потребность «буквой и цифрой», то есть в шахматных понятиях, как-то оформлять свои мысли.5264 Что он, тем не менее, неожиданно обнаружил – что детство «оказывалось ныне удивительно безопасным местом», и в нём даже «бродили уже вполне терпимые, смягчённые дымкой расстояния образы его родителей».5271 И Лужин удивлялся, почему образ когда-то раздражавшей его толстой французской гувернантки «теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди», и «куда же, собственно говоря, всё это девается, что сталось с его детством, куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки? Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в санаторском саду».5282
С самого начала бегства Лужина после неоконченной партии – «домой», в усадьбу его детства – и в последующем успехе культивирования, врачом и невестой, его воспоминаний о детстве, Набоков с поразительной достоверностью воспроизводит склонность страдающих аутизмом к навязчивым, повторяющимся действиям. Детство Лужина не было счастливым, оно было преисполнено тревог и страхов, и острого дискомфорта в контактах с родителями, но оно прожито, освоено, в нём уже не будет ничего нового, неожиданного, пугающего, его образы смягчены «дымкой расстояния», и если в него вернуться, оно оградит от опасностей будущего. В этом бегстве «домой» Лужин, в приступе панического состояния, усмотрел спасение – «ключ комбинации».
Теперь же была поставлена задача изъять из его памяти период его жизни, который привёл к травме: годы, потраченные на шахматы, – убеждали его доктор и невеста, – это потерянные годы, «тёмная пора духовной слепоты, опасное заблуждение», о них следует забыть. «Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова». И если исключить эти годы, то «свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Она выражала собой всё то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний его детства, – словно пятна света, рассеянные по тропинкам сада на мызе, срослись теперь в одно тёплое, цельное сияние».5293 Здесь автор, опять-таки, в очередной раз обнаруживает редкое для его времени знание особенностей психики носителей синдрома аутизма: несмотря на повышенную эмоциональную чувствительность и почти непреодолимые трудности социального общения, люди такого склада вовсе не стремятся к одиночеству и очень ценят те нечастые, соответствующие их ранимой избирательности случаи, когда контакты получаются, и особенно привязываются к тем, кто о них непосредственно заботится. Лужин, чуткий к таланту эмпатии своей невесты, и со времён «милой тёти» не встретивший никого, кто бы отнёсся к нему с теплом и пониманием, готов был во всём ей довериться.
Она же «бросила свою кругленькую серую шляпу на диван» и заявила матери, что да, скоро сыграем свадьбу. Так началось повторное детство Лужина, в котором невеста очень старалась помочь ему найти себя, но – вне шахмат. Она верила в какие-то другие, пока скрытые его таланты, и самоотверженно пустилась в поиск, не понимая, что это поиск несуществующего, губительный поиск химер, ведущий в тупик. Она начала с того, что по его просьбе купила любимые им в детстве книги – Жюль Верна и Шерлока Холмса, но они не произвели на него прежнего впечатления; ему нравилось кое-что из классиков, читал он и другие книжки, которые она ему приносила. И хотя ей казалось, что он «не задумывается над книгой», она, тем не менее, «чувствовала в нём призрак какой-то просвещённости, недостающей ей самой… Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им».5301 Она чувствовала в Лужине некое превосходство над собой – он был, пусть Solux Rex, но всё же «король».
Уже при первом чтении подробнейшее, явно и странно педалированное описание Набоковым снятой для молодых квартиры настораживает, внушает тревогу – в нём проступают некоторые признаки отчего дома Лужина, вплоть до прямого напоминания о зряшных мечтах его отца: «…в простенке висела гравюра: вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец, в сером халате, со свечой в руке, замер, приоткрыв дверь».5312 Невесте почему-то не очень понравилась обстановка квартиры, и вообще показалось, что «всё это только временное, придётся, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами» – в известном смысле, это повторение прошлого, когда-то родители уже увозили Лужина «развлекать». Будущее «приобретает особую туманность», Лужин периодически переживает «ощущение странной пустоты», ему снится сон о поникшем над тарелкой супа Турати.5323 На нескольких страницах Набоков нагнетает ожидание разрешения этой «странной пустоты», какого-то из неё выхода или хотя бы намёка на него. Выхода ещё нет, но намёк даётся, в конце одиннадцатой главы, когда новобрачная смотрит через окно вниз, с высоты пятого этажа: «В тёмной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может, лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решётки. И вдруг всё погасло, и была только чёрная пропасть».5334 Сквозь «особую туманность» будущего увиделось предвестие конца.
Развлекать Лужина «ей» – теперь жене – казалось нетрудно (атлас, пишущая машинка, граммофон, разговоры о предстоящих путешествиях): «Единственной её заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над тёмной водой, чтоб он мог спокойно дышать».5341 Иллюзорность, хрупкость инфантильной идиллии его состояния обрекали её усилия на неминуемый провал. Любой, даже незначительный инцидент мог оказаться триггером, провоцирующим новый кризис. Так, даже мельком увиденные в фильме шахматы побудили Лужина отводить глаза, чтобы скрыть от жены нарушение запрета не думать о них, – иначе она грозилась его разлюбить, тем самым подрывая к себе доверие и толкая его на скрытность. Терапевтический эффект поддержки в таких случаях теряет свою силу – без полного доверия контроль над состоянием подопечного невозможен.
И уж тем более непростительной была идея повести Лужина на бал, да ещё предоставить его там самому себе, постоянно куда-то отлучаясь. Он тут же «хватился жены, но сразу нашёл её... Под руку, под руку... Мы должны войти под руку… Жена его исчезла, и он, ища её глазами, направился обратно, в первый зал… Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться… Мимо всё проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз...».5352 Жена, оставив Лужина в круговерти бала одного, ввергла его таким образом в жесточайшую фрустрацию, чреватую приступом паники и бегством. Случайная встреча с бывшим однокашником, когда-то мучившим его, довершила дело: «Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая».5363 Этим эпизодом Джонсон как раз мог бы проиллюстрировать свою идею, что отвлекаемая пустыми соблазнами королева невольно подставляет своего короля. Но прискорбнее всего было то, что принудительно лишённый шахмат в жизни, Лужин окончательно преображает жизнь в шахматы, и вместо того, чтобы, успешно или нет, искать защиту против Турати на шахматной доске, пытается угадать происки тайных сил, играющих его судьбой. В случайной встрече с одноклассником Петрищевым Лужин усматривает «тайный смысл», некую комбинацию, в которой проявляется «только продолжение чего-то, и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала».5374
Полное переключение Лужина на «шахматное» понимание своей жизни происходит без того, чтобы это заметила его жена, и он остаётся наедине со своей проблемой сознательно и скрытно. Фактически она вдвойне теряет его доверие, вынуждая замыкаться в себе, – и потому, что запрещает говорить о шахматах, и потому, что небрежничает, распыляя свой дар эмпатии на кого ни попадя. Ей всех жалко: в случайных впечатлениях уличной прогулки с Лужиным она оглядывается на ребёнка, слегка шлёпнутого родительской рукой, гладит таксу в заплатанном синем пальтишке, жалеет «несчастненького» Алфёрова, то и дело донимает Лужина сентиментальными сентенциями, памятуя его покойного отца и упорно не замечая, что Лужину это неприятно. Одним словом, у неё не только неподвижные серые ноги, ничего не понимающие в шахматах, у неё маленькая кругленькая серая шляпка и серые ботики, неспособные сосредоточиться на внимании к Лужину-человеку.
Последним роковым испытанием, экзаменом, который жена Лужина полностью провалила, становится пустяковый инцидент, который любой, минимально заслуживающей свой титул, королеве легче лёгкого было бы избежать. Пожалев «очень несчастную женщину», а на самом деле – донельзя наглую, нахрапистую, вульгарную жену какого-то чиновника из Совдепии, она посвящает её охоте за тряпками и выслушиванию пародийно смехотворных клише советской пропаганды столько времени и внимания, что Лужин остаётся практически вне поля её зрения. Очень точную шахматную трактовку этого эпизода даёт Джонсон, и уместно её привести: «…затянувшийся визит советской дамы (тёти-суррогата с сыном, похожим на маленького Лужина) отвлекает внимание госпожи Лужиной от мужа как раз в то время, когда он увяз в безнадёжной борьбе со своим шахматным демоном. Так же, как в случае жертвы обеих ладей, ферзь отправляется на соблазнительную охоту за химерами (охоту за ладьями), которая заканчивается шахом и матом его королю, госпожа Лужина завлекается подальше от сцены основного действия, где её муж борется за свой рассудок и свою жизнь… Его призрачный противник – судьба, и проиграть партию – значит потерять рассудок».5381
Случайно услышав разговор жены с приезжей дамой, Лужин переживает нечто вроде озарения – ему кажется, что он понял смысл преследующей его тайны, рокового повторения всех этапов его жизни: «Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощрённо, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тётя), но ещё не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно».5392 Это параноидальное состояние побуждает Лужина искать защиту против этих повторений, и хотя он ещё не знает, в чём, собственно, их цель, но они его так пугают, «что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть...».5403 В его ощущениях, надо признать, была доля истины: ведь вырвав из жизни Лужина её шахматную составляющую, врач и жена как бы грубо сшили в его памяти поиски себя в дошахматном детстве с постшахматными инфантильными занятиями того же назначения, не приносившими ему подлинного удовлетворения. Интуитивно, он снова, как в детстве, искал того же – шахмат, и вместе с тем подсознание подсказывало ему, что в конце поисков-повторов его ждёт что-то страшное. Это ожидание катаклизма порождалось ещё не памятью, но уже тенью памяти, отбрасываемой тем роковым финалом, которым внезапно прервалась шахматная карьера Лужина – прерванной партией с Турати. Недаром ему приснился Турати, со спины наклонившимся как бы над шахматами, а оказалось, если заглянуть, над тарелкой с супом, – это его, Лужина, обрекли наклоняться только над тарелкой супа, вести растительный образ жизни.
Пытаясь занять сына визитёрши Митьку, отвратительную пародию на Лужина в детстве (при всём при том бывшего умным и на свой лад обаятельным ребёнком), Лужин обнаруживает, наконец, в кармане старого пиджака подаренные ему когда-то миниатюрные складные шахматы. Интересно, что в первом его побуждении проявилось предельно концентрированное, сжатое до нескольких секунд повторение опыта его первоначального знакомства с шахматами – он, «разинув рот от удовольствия», расставил «сперва просто ряд пешек на второй линии». Но – продолжает автор в той же фразе – «потом передумал и … расставил то положение в его партии с Турати, на котором её прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала … всё исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острого, насыщенного необыкновенными возможностями».5411 Так, самое большее за минуту, были опрокинуты все длительные усилия стереть саму память о шахматах в сознании Лужина. Сжатая до предела пружина, моментально выпрямившись, грозила теперь смести всё на своём пути. Когда Митька, страшный его двойник, ползал по ковру, поправляя лампу, Лужину стало ясно – он точно так же когда-то ползал, наблюдая, как расставляются для него шахматы. Лужин испугался, захлопнул сафьяновую книжечку с шахматами, искал, куда бы её спрятать, как бы от неё отделаться, «но это тоже оказалось нелегко; так и осталась она у него за подкладкой, и только через несколько месяцев, когда всякая опасность давно, давно миновала, только тогда сафьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было её происхождение».5422 Лужин не мог отделаться от своего дара, но, по несчастью, запрятанный за подкладку, этот дар погубил его обладателя.
Периодическим повторением пророчеств, предвещающих финал, а затем возвращением к повторным же бесплодным попыткам жены вытащить Лужина из колеи обречённости, Набоков постепенно нагнетает чувство усталости – и не только у персонажей, но и у читателя, всех готовя к конечному эффекту изнурения. Усталая жена, заметившая, что Лужин снова стал хмур, отводит от неё глаза и как будто что-то от неё скрывает (явные признаки отчуждения, «аффективной блокады»), продолжает, тем не менее, искать «пищу бездействующим талантам Лужина», которых у него нет. Из затеянного женой совместного чтения газет Лужин тайком извлекает, в шахматном отделе, информацию, питающую его фантазии о судьбоносном против него заговоре. Поняв, что газеты Лужина не занимают, жена решает развлечь его обществом «интересных, свободомыслящих людей» – худшее, что можно было придумать для человека, который чурался любого скопления людей: «И что было Лужину до всего этого? Единственное, что по-настоящему занимало его, была сложная, лукавая игра, в которую он – непонятно как – был замешан. Беспомощно и хмуро он выискивал приметы шахматного повторения, продолжая недоумевать, куда оно клонится».5431
Был, однако, среди гостей «один, в бледных фланелевых штанах, всё норовил устроиться на письменном столе, отстраняя для удобства коробку с красками и кучку нераспечатанных газет … уже третий раз просил у замечтавшегося Лужина “папиросу, папиросочку”. Был он начинающий поэт, читал свои стихи с пафосом, с подпеванием, слегка вздрагивая головой и глядя в пространство. Вообще же держал он голову высоко, отчего был очень заметен крупный, подвижный кадык. Папиросы он так и не получил, ибо Лужин задумчиво перешёл в гостиную, и, глядя с благоговением на его толстый затылок, поэт думал о том, какой это чудесный шахматист, и предвкушал время, когда с отдохнувшим, поправившимся Лужиным можно будет поговорить о шахматах, до которых был большой охотник, а потом увидел в пройму двери жену Лужина и некоторое время решал про себя вопрос, стоит ли за ней поволочиться».5442 Это очевидный автопортрет молодого Набокова, убирающего с письменного стола Лужина ненужные ему краски и газеты и, быть может, размышлявшего о возможной обратимости рокового стремления симпатичного ему героя и даже о счастливом для него конце всей этой истории. Когда гости расходились, и один из них, актёр, вдруг вспомнил, что телефон Лужиных спрашивал у него один человек (как выяснится, Валентинов), «на этом месте его оттеснил поэт, и Лужина так и не узнала, о каком человеке хотел сказать актёр».5453








