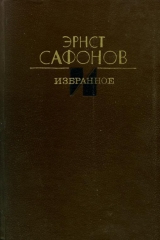
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 40 страниц)
ЗАЗИМОК
На краю пустого, истыканного овечьими копытами выгона, в километре или малость ближе от Карманных Выселок, стоит приземистая, с плетневой загородкой кошара. А дальше глянешь – там прихлюпнутые, темные от недавних дождей скирды на полях да тонкие кустики по склонам неглубоких овражков. И небо синее, но не веселой синевы оно, а по-осеннему тяжелое.
Овцы пасутся где-то за скирдами, пригонят их к вечеру, и сейчас у тихой кошары на перевернутой колоде сидят двое – Маруся Колокольцева, женщина здешняя, из Карманных Выселок, и пришлая для этих мест хроменькая Настюта. Они и за сторожей ночных, и за скотников – навоз выгребать, и вообще определило их правление колхоза сюда – вот и пребывают здесь.
– Расчеши-ка мне волосы, – просит Маруся, отодвигается на край колоды, ложится лицом в Настютины колени. – Страсть люблю, когда мне волосы чешут. А вышло из моды-то – в голове искаться, волосы чесать, как раньше, а? Соберутся бабы в кружок, сядут и одна у другой копаются…
– Хорошие они у тебя, – осторожно расплетая Марусину косу, говорит Настюта.
– Волосы-то? Да уж не твои… Седина пошла – редеть стали. В молодости, бывалыча, распущу – всю подушку закрывали. Муженек-то покойный – тот ругался даже. В ноздри, дескать, лезут, спать не дают…
Маруся смеется, большие ее плечи, обтянутые ватником, дрожат, и Настюте трудно управиться с гребешком. И еще зябко Настюте. Поджимает она ноги – одну здоровую, полную, другую тонкую, сухую, шевелит затекшими пальцами в грубых неразношенных ботинках. Вместо солнца на небе яркое оплывшее пятно, недвижное и холодное.
– А ты, Настютка, замужем была иль как?
– Была, – не сразу отвечает Настюта.
– Он што… – Маруся, наверно, хотела спросить: «Тоже хромой, инвалид был?» – но, запнувшись, спрашивает неопределенное: – И как он?
– Убили.
Маруся вздыхает, приподымается, забирает гребешок в свои крепкие обветренные пальцы.
– Дай-кось тебя почешу. Не хошь? Ишь какая. Ну не хоти, не хоти… Придумали эту войну на горе бабам. А ты знаешь, почему ее придумали? Странник один зимой приходил, по святой книге читал. Ежели войн не будет, читал он, народу шибко скопится, хлеба всем не хватит…
– Вранье это. Всем в России и работы и хлеба хватит.
– Конешно, брехал, пустозвон. Федька Косой, как услыхал этот брех, чуть до смерти странника не зашиб. В нужнике у сельпа тот отсиживался, а в потемках выскочил – видали только… А ты што ж, до войны со своим-то сошлась?
– В войну.
– И детишек не было?
– Не успели. Убили его.
Оплывшее, негреющее солнце смещается по небосклону, а реденькая цепочка улетающих в теплую сторону гусей забирается все выше – они уже над этим вялым солнцем, устало и неясно падают на землю их голоса… Слышно, как в деревне, у плотины, женщины колотят вальками белье и репродуктор у сельсовета хрипит о чем-то – нельзя разобрать о чем.
– Одинокая баба – что вон тот… – Маруся кивает на обломанный ивовый куст у дороги – с остатками бурых листьев, лохмушками овечьей шерсти, трепыхающимися на ветру. – Всяк, кто мимо проходит, почесаться о тебя норовит. Почешется, плюнет и дале… Э-эх!
Потом, когда и Маруся зазябла на сыром ветру, они идут в кошару и там, склонившись над корытом, мнут пальцами хлюпающую глину, перемешанную с кизяками, – мнут, пока не делается она липкой, пригодной для обмазки стен. Мекает изредка жалобно хворая овца в закутке, по кошаре, особенно понизу, гуляют сквозняки.
Марусины руки в корыте движутся сердито, из-под них выбиваются густые мутные фонтанчики, и вскоре поясницы женщин затекают, уже невмочь быть в гнутом состоянии – и обе приваливаются на кучу жухлых кукурузных листьев. Тут Настюта, которая, видно, долго думала – говорить об этом иль нет, – признается:
– Я ведь как, Марусь, сюда приехала… Не так ведь. Владимир из ваших мест, тутошний.
– Мужик-то твой? Из Выселок наших? – У Маруси в черных, моложавых глазах интерес, щеки ее розовеют от услышанного. – Кто ж эт такой? Погоди, погоди… Твоя-т фамилия не нашенская. Чеверда. У нас сроду таких фамилий не бывало. Чеверда!
– Району он Талызинского, вашего. Села, правда, не знаю. Не нужно мне было тогда село. И фамилия у него своя. Уфимцев.
– Уфимцев?.. Не-е, у нас нет таких, хотя по району всему, ясно дело, всяки встренутся. А родные-то его, знаешь кого?
– Не знаю.
– Ну? А найти-то, поискать нельзя рази? – Маруся в волнении подвигается к Настюте совсем близко, локтем ее подталкивает. – Скоко вон после войны находят друг дружку. Брат там сестру иль мать сына… Враз!
Настюта ежится, обирает с юбки и чулок ошметки глины, молчит.
– Так нельзя, – рассуждает Маруся, и злит ее молчание Настюты, и пеняет она ей: – Поглядеть – ты, ей-богу, вроде прибитой. Сидит себе, сиди-и-ит. А чего насидишь-то? Теплое место под задницей? Ты ищи!
Доносится до кошары мерный тяжелый гул, и вот уже пастухов по голосам узнать можно – идут овцы. Женщины как бы очнулись: тары-бары, а нате вам – сумерки, и сами они, оказывается, в темноте сидели; над Выселками, над избяными крышами, невысоко висит, как огромный подсолнух, матово-желтое облако – от электрических огней. Маруся и Настюта отбрасывают в стороны слеги, и шумно, обдавая теплым дыханием, овцы вливаются в загон.
А через какое-то время, пользуясь, что пастухи еще не разбрелись по домам, попросив на случай самого молодого и сговорчивого из них – Васяню побыть в кошаре до их возвращения, женщины идут к поселку. Дорога томительная: после недавних дождей песок вспух – никакой твердости под ногами, да еще исполосовали дорогу тележные и машинные колеса. Марусе, шибкой на ходьбу, то и дело приходится останавливать себя: вырывается вперед, а Настюте где ж угнаться… Маруся убеждает:
– Ты не некай, когда я говорю. Я пустое, Настютка, не затею. Он мне племянник, в райкоме небось служит. В военкомат обратиться иль куда, он определит.
– Я уж и не знаю, – тяжело переводя дыхание, отвечает поспешающая за Марусей Настюта. – И боязно, сказать не могу, как боязно… И подумаешь, а и не одной мне Владимир дорог.
– Во-во.
– И разбередила ты мне сердце, Маруся. И больно мне, и светлее мне как-то, Маруся. Больше все ж ласковых людей…
– Отдохнем. Устала небось.
– Ничего.
В поселке по огородам, через плетни они выбираются к тому месту, где меж торговых ларьков и складов на плешивой, измызганной ногами площадке одиноко стоит высокий столб с хрипящим громкоговорителем. Здесь выдвинулся поперек прочих строений аккуратный кирпичный домик сельсовета.
В дверь стучали в четыре кулака, и когда глухой сторож, очухавшись от сна, открыл им, Марусе пришлось долго крутить ручку телефона, а потом и ругаться с телефонисткой райцентра, чтобы та разыскала нужный номер.
– Митрий, слышь-ка, – кричала Маруся в трубку, – ай оглох ты? Чего? Не Митрий Василич? Анечка! Здравствуй, ягодка… Я, я, звоню! Кашель-то прошел у тебя? Ну то-то. Папку тогда позови. Чего?.. Ты, Митрий? Чего сиплый-то такой? Ничего?..
И в это время, и после, когда Маруся перешла к делу – стала просить найти «нужного человека», а вернее, не его самого, поскольку он убит на войне, – родных его, которые могут быть, – все это время Настюта, подавшись вперед, судорожно зажав ладонью край стола, вслушивалась в клокотанье, доносившееся из трубки. Трубка могла ответить – «да», могла – «нет», и чудилось Настюте, что не чужой, густой и отрывистый голос дрожит в этой черной телефонной трубке, – там билась вот-вот готовая вырваться на свет ее судьба, та самая, к которой одна долго и слезно стремилась и которую никак не могла ухватить…
– Фамилия? – надрывалась Маруся. – Уфимцевы. Чего? Рождения?
– Тысяча девятьсот двадцать второго, – прошептала Настюта.
– Тыща, Митрий, двадцать второго. Матросом он был… Чего? Ах ты, господи, перервали… Ну уж и сука эта телефонистка, небось кобеляки одни в голове!.. Ничего, выслушал, записал, Настютка. Отыщет. Митька, он отыщет!
Возвращались той же дорогой, подзамочили ноги, и шли пока – бежал за ними по небу белый с синей тенью месяц и неподалеку в степи странно выла собака. Они обрадовались, что в сторожке у кошары горел свет, – это Васяня, выкрутив насколько можно фитиль, жег для них лампу.
Он и после еще сидел у них, Васяня, – ел картошку, отваренную на плите, весело хрустели на его зубах малосольные огурцы, и, поглядывая из-под густого чуба на женщин, он смеялся коричневыми, как спелые желуди, глазами. А когда ушел, они легли, каждая на свой топчан, но Настюте было невозможно заснуть – слишком о многом мечталось ей, и прежний белый месяц через ситцевую занавеску лез в окошко, ветер гудел за стеной. Потом в окошко застучали, потом еще и еще – осторожно, настойчиво, и Васянин голос позвал: «Маруся, выдь-ка, сказать надо…» Маруся вздохнула, перевернулась на другой бок. Опять Васяня постучал – настойчиво и смелее.
Спустила Маруся ноги с топчана, нашарила в темноте ватник, сапоги, и в дверь, которую она, выходя, на миг приоткрыла, шмыгнула сырая прохлада. «Какая женщина, – с завистью подумала Настюта, – бабий век, говорят, сорок лет, а этой на пятый десяток давно – тело не прощипнешь, налитое». Вчера в ночь Васяня – парень молодой, только из солдат – кидал в стекло камешками… Маруся вернется, когда серый свет растечется по сторожке, опять, наверно, будет долго, словно в раздумье, стоять у своей холодной постели, выбирать из распущенных на плечи волос сухие травинки, оглаживать руками поясницу, улыбаться чему-то своему – затаенному, ей одной известному.
«Сколько же у ней любовей было? И как же это бывает, когда вот так, просто делается?..» – смотрит Настюта раскрытыми глазами в темноту, Марусю с Васяней как бы видит – идут они, обнявшись, идут, идут… Быстро так – идут, идут…
Но скрипит дверь, и Маруся, уже изнутри – из сторожки – защелкнув задвижку, оставив у порога резиновые сапоги, шлепает босиком к своему топчану.
– Настютка, холодна-а, страсть! Пусти к себе погреться…
Настюта не отвечает.
– Не хошь? А то пусти. А хошь, Васяньку кликну. Он ляжет. Ей-богу!
Маруся смеется, привизгивая, и, стянув одежду, шумно, с хрустом потягивается. Настюту злит Марусин смех, почему-то злит ее ранний приход, хочется отозваться на все это обидными словами. Сдерживая себя, она только спрашивает:
– Пришла, Маруся?
– Ага. На двор сбегала.
– Ложись.
– О муже небось думки-то?
– Ноги гудят…
– К непогоде, знать. Змеиный яд действует от ревматизму. Наказала б кому в аптеке купить. Чего? Спишь? Ну спи.
Неспокойно ворочается под одеялом Маруся, снаружи тяжелый, со вздохами и всхлипываниями ветер обхаживает сторожку, а Настюта, сама того не замечая, улыбается в темноту, ее сухие губы уже беззвучно шепчут слова – она разговаривает.
– Отчего же, Володя, она горбатенькая, твоя сестра?
– Маленькая с печки упала.
– Ее жалеть надо, Володя.
– Мы ее все любим.
– А кто же твои родители, Володя?
– Колхозники.
– А у меня отец весовщиком при станции был… Ой, Володя, так нельзя. Я сердиться буду. Мы и знакомы-то с тобой сколько…
– Зато теперь на всю жизнь.
– Володя!..
Она, видимо, забывшись, сказала вслух, громко, потому что Маруся со своего места заспанно спросила:
– Чегой-то ты, а? Стучат?
– Ничего, спи, – испуганно успокоила Настюта.
– Я ду… – зевает Маруся, – думала Ва… Васька, черт!..
Опять затаившись, Настюта неслышно говорит в темноту, и та отзывается ей незабытым голосом Володи. А голос у Володи тихий, чуть хрипловатый и очень молодой.
– Ты, правда, Володя, каждую травинку по имени знаешь?
– Нет, не каждую.
– А это что?
– Кошачья лапка. Из семейства крапивных.
– Крапиве родственница? Ух ты!
– А вон… нет, не ту рвешь… ага, эта… Льнянка.
– Лучше льняночка… Я вот, Володя, всего шесть зим в школу ходила.
– Не твоя вина, да и не упущено еще – учиться никогда не поздно. Не случись война, я бы сейчас студентом биофака был. Ничего, мы их, фашистов, придушим. Знаешь, как рад, что в морскую часть попал… Настя?
– Володя. Володя! Во-ло-дя!
Дорогое имя, ее безголосый крик в ночь – все гаснет в горячем стремительном вихре мелькающих вагонов, в тупом (как клинья забивают) перестуке колес о раскаленные рельсы… Мчатся составы, мчатся – всю жизнь им лететь через ее бессонные ночи. Гудки, ревущие, тревожные, ошалелый глаз паровоза, дым, черная тень – она, сжавшись под одеялом, принимает на себя этот грохочущий состав, другой, третий… Летят, летят, летят…
На примороженную грязь выпал первый снег, степь стала дикого цвета – черная с сизым отливом, раздвинулась шире, и пастухи спорили с бригадиром – выгонять овец или не выгонять. Маруся и Настюта коченеющими руками домазывали стены кошары, а хворая овца, которую Настюта жалеючи все это время кормила из рук, околела. Приехал ветврач и до выяснения наложил карантин.
Маруся в какую-то неделю посунулась лицом и за работой, дуя на стынущие пальцы, ругалась нехорошими мужицкими словами; Настюта, слыша их, вздрагивала и ежилась. Попросила:
– Не надо, Марусь.
– Святая, – сказала Маруся и в сердцах так шлепнула о плетень пригоршню глины, что брызги полетели им обеим в глаза.
В обед, дожидаясь, пока закипит на плите чайник, они сушили одежду, сапоги, и от плывущих по небу темно-фиолетовых снежных туч в сторожке было сумеречно. Взятые с улицы дрова занялись в плите не сразу, но, разгоревшись, зашумели, пламя было веселым, чистым, и, стреляя, летели на середину земляного пола негаснущие искры-угольки.
– Направился, – кивнула в окошко Маруся, закусила дрогнувшие губы. – К Верке Синюхиной ходит.
Настюта тоже поглядела на улицу. К поселку по скользкой дороге шел Васяня – шел, выставив вперед плечо, хоронясь от ветра, глубоко засунув руки в карманы солдатского бушлата.
Маруся задернула занавеску, подняла с пола вылетевший из плиты горящий уголек, перекатывала его с ладони на ладонь и говорила с мстительной радостью:
– Пускай. У меня хоть муж был здоровый, умный, уважали его, а у Верки небось дурной какой-то, хворый был, и его лечили, и ее лечили… Залечили! Шофера, на уборку-то из города приезжали, табуном, бывало, к ней, стекла побили… И еще побьют!
– Молодой он, Васяня, – начала было и тут же осеклась Настюта.
– А ты помнишь, какие они, молодые-то?! – уже глаза у Маруси в сетке проступивших морщин, и вся она – тронь попробуй! Усмехнулась: – Тоже мне!
Настюта поверх занавески, в просвет окна, смотрела вдаль: негусто падала наземь серая крупка, на столбе, расслабив крылья, застыла унылая ворона, Васяни уже не было видно, а по дороге от Карманных Выселок мышиной масти лошаденка тащила телегу.
– Настютка, слышь, как же я теперь? Ну сядь, сядь со мной рядом…
– Что я посоветую, Марусь?
И они сидят – Настюта прямо, недвижно, а Маруся припав горячей щекой к ее плечу. Фырчит на плите чайник, выбрасывает из носика сердитые клубы пара – они сидят…
– Водки бы выпить.
– Зачем это, Марусь…
– Стылость кругом. Мурашками обросла.
Слышен скрип тележных колес, он все явственней, ближе, и вот уже кто-то остановился у сторожки, кто-то за дверью бьет веником по сапогам…
Они вошли – впереди розовощекий, с коротко подстриженными усами старик, непомерно широкий – оттого что по погоде надеты на нем ватник и полушубок, а поверх них еще брезентовый плащ; за стариком протиснулась в дверь замерзшая, с напряженно-скорбным лицом бабка, закутанная шалью, в длиннополом плюшевом пальто. Поздоровались, заняли лавку у двери, и старик, расправив пальцем усы, сказал, обращаясь к Марусе:
– Нам, милая, Анастасию Чеверду.
– Это я, – бледнея, тихо ответила Настюта. Она догадалась, что за гости к ней, – сердце замерло, трудно дышать; она поджимает под топчан ноги, еще думает: «Юбка с кофтой у меня рабочие, оборванные…» – и слабнет она под стариковым взглядом.
– Та-ак, – растерянно говорит старик, – значит, ты – Анастасия. А мы, как тут объяснить… Уфимцевы, значит.
– Я и не знаю… рада я очень.
Вскочила с места Маруся, суетится – выставляет на стол сахар, хлеб.
– Чайку с дороги-то, горяченького…
Разливает чай по кружкам – чай стынет, никто не пьет.
Опять старик обращается к Марусе – может, чтобы та рассудила его слова:
– Владимир молодой погиб, на фронте пяти месяцев не был. Двадцать с лишним лет прошло, а тут слух, указывают нам – жена… Бывает такое?
– А чего у меня-то спрашивать! – обрывает Маруся. – Иль она не перед вами сидит? Спрашивайте!
– Сумленье, – старик, пригнув голову, растирает подошвой натекшую с сапог лужицу. – Ежели, возможно, документы подтверждают, мы будем рады… Он сын наш, и права, значит, на него наши… А так что ж, если подтвержденье какое, мы завсегда будем рады, и дом, ежели нужен, – пожалуйста… Дите, может, есть?
Настюта молчит.
– Наш он, Владимир, сын. От нас его взяли, убили. В сорок втором… Город называется Керчь…
Бабка всхлипывает, обирает с глаз слезы черным согнутым пальцем. А Настюте – ей невмочь больше слушать старика, хочется выбежать наружу, забиться куда-нибудь, чтобы рыданий ее не услышали, чтобы не расспрашивали ни о чем… Керчь… Город называется Керчь… «Знаешь, как рад, что в морскую часть попал!» Поезда через станцию – на фронт, с фронта… Грязные, окровавленные бинты падают на шпалы, в серый песок… «Настя, – это на третий день, – я засну, а ты покарауль, Настя, чтобы мой эшелон не ушел…» Город называется Керчь… Только бы выдержать – уезжали бы они, уезжали…
Она выпрямляется (только бы выдержать!), говорит:
– Ошибка вышла. Простите.
– Ошибка? – не сразу переспрашивает старик, обдумывает. – Может, ошибка. А то еще могло случиться, пошутил Владимир по военному времени… Шутейный он у нас был.
Как уезжали старики, как они спорили о чем-то за дверью, у телеги, – все это было от нее далеко; встала с топчана, подошла к окну – сизая степь, черная ворона на столбе, далекие дымки из труб в Карманных Выселках… Сзади обняла за плечи Маруся, прижалась и, плача, просила:
– Ты только не плачь, Настенька, не надо…
1965
ЗОЛОТО ДОЛГИХ ПЕСКОВ
Взрослых газелей преследует, кроме человека, мало врагов…
Жизнь животных Брэма. СПб., книгоиздательское т-во «Просвещение», 1902, т. 1, с. 682
Джейран (G. Subgutturosa) – высоконогая, стройная газель средних размеров…
В настоящее время охота на джейрана полностью и повсеместно запрещена и он включен в Красную книгу как редкое и исчезающее животное.
Жизнь животных. М., изд-во «Просвещение», 1971, т. 6, с. 510—513
Егерь заповедника старый Курбан Рахимов за угрюмость характера и бродячую – в песках – жизнь свою прозванный Одиноким Волком, или просто Волком, а чаще звали его Курбаном-Гуртом[1]1
Гурт – волк (туркм.).
[Закрыть], разглядывал свежие отпечатки копытцев. На серо-грязной такырной глине, островком, кругло, как огромное блюдце, лежавшей посреди сыпучих гряд, следы читались легко.
«Крупный самец, еще тут молодой парнишка, остерегающийся, сбочку от стада, и пять козочек», – определил Курбан-Гурт.
Следы бежали далеко, к дикой пустынной равнине, начинающейся за Красными камнями, острые выветренные вершины которых отсюда просматривались в бинокль.
Егерь распрямился, поправил за спиной карабин, такой же изношенный временем, как сам он, – с облупленным, утратившим вороненую строгость стволом, чиненным неоднократно, в заклепках, прикладом, – и легко пошел прочь от новой джейраньей тропы.
Все, что можно и нужно, Курбан-Гурт уже знал про этих пришлых джейранов.
Обитает стадо там, за границей заповедника, на равнине, выбирая для лежки места где-нибудь возле черных саксаулов, и сюда джейраны пришли в поисках водопоя. К усыхающему озеру, пробив тропу, они станут теперь наведываться раз или два в неделю, пробегая в один конец не меньше пятнадцати – двадцати километров. И самки в стаде – прошлогоднего помета, первые брачные игры которых впереди, осенью, в октябре – ноябре, а если есть среди них одна-другая из старых, зрелых, то, значит, остались яловыми. Затяжелевшие отбиваются от стада еще по весне, затем живут сами по себе, с народившимися детьми своими…
И понятно, почему эти джейраны выбрали для себя не самое лучшее место – вдали от реки, зеленых прибрежных выпасов, где даже в разгар лета можно отыскать, чем поживиться. Там нынче шумно, дымно, тракторы и машины гудят, там – куда ни глянь – человек за каждый лоскуток полезной земли жадно цепляется, арыки строит, поливальные машины за собой тянет. Хлопка много, а все мало: давай, давай! И ружья – во́т что там – стреляют. Другая человеческая жадность: не к полю, не к работе. К добыче дешевой. Охота запрещена, но в песках – глухо в них: сколько стрельбы за все годы было – той, что никто не услышал… Пески – молчание, немые пески.
Коричневое, в жгутах морщин лицо егеря, на котором так же, как в пустыне трава, робко и редко пробивались лохмушки бороды, было замкнуто-отрешенным: кто посмотрел бы – даже сонливым показалось бы оно. Но, шагая с прежней птичьей легкостью в сверкающем сиянии и духоте раскаленного дня, вслушиваясь в монотонный шорох ползущих неведомо куда песков, Курбан-Гурт волновался. Он вспоминал свой утренний разговор с директором.
– Заслуженный ты человек, Курбан-ага, – сказал ему директор Сердоморов, усадив напротив себя за маленьким столиком и дождавшись, когда он выпил первую пиалу зеленого чая. – Заслуженный! И государству для тебя пенсии не жаль…
– Хей, пенсия-менсия! – ответил он и хотел сплюнуть, однако некуда было – послюнил кончики пальцев лишь, вытер их об истасканные, вылинявшие до белизны солдатские шаровары. Такая ж – из хэбэ – гимнастерка на нем, утратившая былую зеленоватость, с заштопанными прорехами на локтях и подоле, подпоясанная широким офицерским ремнем, подаренным по дружбе пограничным лейтенантом. А на голове – папаха; он, как подобает аксакалу, не снял ее, входя в директорский кабинет; хорошая папаха, такую раньше, в старину, беки носили, из благородного каракуля «сур», когда мягкое коричневое поле подернуто нежной золотизной.
Директор Сердоморов, сощурившись, смотрел на жужжавших мух, густо облепивших лужицу пролитого чая. Его худые, до синевы выскобленные бритвой щеки подрагивали, жесткие губы кривились в усмешке; он вдруг резко пристукнул ладонью по столу – то ли мух отогнал, то ли недовольство свое показал. Однако голос его по-прежнему оставался ласково-вкрадчивым, вроде бы к непонятливому и избалованному ребенку он обращался:
– Курбан-ага, ты мой лучший егерь. Из пяти необходимых пальцев на руке ты – вот этот…
Директор поднял руку, подергал указательным пальцем, согнул его так, словно на курок нажимал.
И говорил, говорил, заглядывая в глаза:
– Вот ты, Курбан-ага, для меня кто! Понял? Без этого пальца – какая рука? Не рука – обрубок.
– Что ты хочешь?
– Государство, Курбан-ага, проявляет заботу, понимаешь…
– Хочешь что?
– Тебе семьдесят…
– Годы считает кто устал работать.
– Пра-авильно-о! – Сердоморов обошел стол, у распахнутого окна постоял, с любопытством понаблюдав, как завтракают в тени старого карагача приезжие из России, студенты-практиканты: шумные длинноволосые парни и в таких же, как у них, джинсовых, в обтяжку, брюках и клетчатых рубахах веселые девушки. Резали дыни, ели их с чуреком; один из пареньков, озоруя, бросал полумесяцы выеденных дынных корок в облезлого, сонно вздрагивающего длинными ушами ишака. Тот утробно, сипло взмыкивал, будто автомобиль, которому надоело гудеть, но приходится, – и все смеялись.
– Молодость, – вздохнув, сказал директор, потянулся до хруста в костях всем своим тяжелым, но подбористо слепленным телом; снова сел за столик, нажал на кнопку вентилятора – и тугая струя прохладного воздуха ударила их обоих по глазам. Теперь в голосе директора не чувствовалось просьбы – голос приказывал:
– Ты работать не устал – знаю. Будешь работать. Как всегда. Но вместо зарплаты – пенсия. Понял, Курбан-ага? Деньги станешь получать пенсионные…
– На деньгах написано, что они – пенсия?
Сердоморов засмеялся:
– Юморист, однако! – Признался виновато: – Пенсия поменьше зарплаты. – И тут же заторопился в угодливых словах: – Но не обижу, Курбан-ага. За счет премиальных… директорский фонд есть. Куда мы без тебя, и не думай… Ты гигант в нашем деле!
Еще что-то настойчиво и ласково говорил директор, а он, уже не слушая, поднялся с неудобного, пружинно податливого кресла, изготовленного для скучающих людей, и, взяв из угла карабин, толкнул дверь. Обернулся, произнес с досадой:
– Не как мужчина – как старуха много слов потратил.
– Но-но! – улыбаясь, радостный, видно, что разговор закончился как надо, прикрикнул Сердоморов.
И растягивал-растягивал в той же довольной улыбке свои жесткие, с темной запекшейся каемкой на нижней, губы. Тонкая негнущаяся проволока черных волос на голове директора стояла веерным торчком, словно у рассерженного ежа.
Когда он, Курбан-Гурт, шел уже длинным коридором, отражаясь своей прекрасной папахой в надверных стеклянных табличках, Сердоморов в несколько прыжков нагнал его, сунул в руки три большие пачки чая и два необношенных кирзовых подсумка, туго набитых патронами, пахнущих фабрикой, металлом и новизной.
– Знай наших! – с силой хлопнул по плечу, сверкнув нездешними синими глазами – хитрыми и веселыми.
С дворика, где егерь присел на парковую, в чугунных завитушках скамью, через раскрытое окно было слышно, как директор громко позвал секретаршу; и речь его теперь – при молчавшей девушке-секретарше, обращенная к самому себе, – была похожа на те, что он красиво умел произносить на собраниях:
– Что́ наш заповедник по обширности территории – уточним! А чего нам, спрашивается, уточнять, когда великолепно и бесспорно доказывает карта. Любая. Географическая. Политическая. Контурная! Она доказывает, что какое-нибудь там великое герцогство Люксембург, признанное Организацией Объединенных Наций, мы накроем собой как двуспальным одеялом. При этом ни рук его, ни ног, ни прочего люксембургского – ничего из-под этого одеяла видно не будет… Впечатляет? Дальше… А дальше все ж приходится уточнить. Там, в Люксембурге, какая-никакая – монархия, государственный совет, палата депутатов в придачу, пожалуй, всякие государственные учреждения с раздутыми штатами. А у нас в заповеднике? У нас штаты не раздуты – со-кра-ще-ны. Слово длинное – результат короткий. Нет лишних у нас – и нет! Мало нужных – и мало! Нет и мало…
И тут же серьезно – очень серьезно – сказал секретарше:
– Что ж ты, Гульбахар, застенчиво хихикаешь? Я ж тебя, Гуленька, не щекочу. Но-но-но, не краснеть – я пошутил. По-шу-тил!.. Забылся! Склоняю повинную голову… Пиши приказ! О чем? Разъясню – сформулируешь. С понедельника, оформляя нашего Волка, нашего исключительно незаменимого Курбана Рахимовича Рахимова на пенсию, возьмем на освобождающуюся ставку еще одного егеря. Поняла? Вместо одного егеря – сразу два! Один плюс один, Гуля… Поздно я, лошак, дотумкал, пять лет назад уже мог такое провернуть!..
«Не человек – радио», – подумал егерь.
Но уважает он директора.
Директор знает пески, зверей и птиц так, будто родился в курганче[2]2
Глинобитный азиатский дом с глинобитным же подворьем.
[Закрыть], в молоке матери будто был уже для него тот необходимый привкус пустыни, без которого не вырастешь для песков своим. Директор пишет книги; не в пример прежнему, отправленному в Ашхабад, то ли в Ташкент, никаким (самым важным!) гостям не разрешает охотиться в заповеднике; и когда бывает у него, Курбана-Гурта, на участке – не один час проходит у них за раздумчивой мужской беседой. Десять – пятнадцать чайников выпьют – и директор ни разу на часы не посмотрит…
Егерь сидел недвижно и думал, а горячее утро меж тем разгоралось с быстротой костра. Глохли под зноем не успевшие нашептаться листья на деревьях. Усыхала, теряясь, голубизна неба. Серебро облаков превращалось в тусклую бронзу. Поржавевшая крыша конторы парила, подобно разогретой сковородке, сизым дымком… Летний день быстро набирал удушливую силу.
– Салам алейкум, Курбан-ага! Как дела?
– Очень хорошо. Саг бол![3]3
Будь здоров! Или: спасибо! (туркм.)
[Закрыть]
Это знакомый лаборант пробежал мимо. Длинноногий, как верблюд. В белом халате. Две кобры, крепко перехваченные пальцами у грозно раздутых «воротников», извивались в его руках…
Конюх вывел и стал прогуливать директорского любимца – застоявшегося жеребчика ахалтекинских кровей. Студенты, наевшиеся дынь, осторожно грузили на машину картонные коробки.
Возле конторского крыльца выкусывали друг у дружки блох ничейные собаки. А рядом ходил, по-куриному одноглазо косясь вокруг, зажиревший фазан. К его ноге был привязан красный лоскуток – чтоб все знали: домашний, не ловить… Звонили в конторе телефоны. Двери хлопали. Стучала пишущая машинка.
Курбан-Гурт снова – уже в последний, прощальный раз – скрыто бросил взгляд на раскрашенный фанерный щит, напротив которого – через асфальтовую дорожку – сидел на скамье.
На щите под стеклом среди других была его фотография. Размером с экран телевизора.
И он, передовой егерь заповедника Курбан Рахимов, которому было присвоено звание победителя соцсоревнования ударного года пятилетки, смотрел с фотоснимка прямо как из телевизора.
На праздничной гимнастерке белели медали и выпукло посвечивал большой, затейливо изукрашенный знак победителя соревнования.
На папахе был виден каждый завиток.
Такое фото: кто ни пройдет – обязательно взглянет.
И сам он, посидев, насмотрелся…
С директором побеседовал.
Тот просил: работай. Чай подарил. Патронташ.
Пора идти работать. На свой дальний – самый трудный и скудный, как кажется остальным егерям в заповеднике, – околоток «Пески».
Откуда-то из глубины умиротворенного сердца – вдруг и пугая – выскользнула мысль: и все-таки – слова директора словами – не отнимет ли он у него околоток? Молодого туда поставит! А?!
Покоя уже как не было…
Через четыре дня синеющим рассветом Курбан-Гурт опять пришел к новой джейраньей тропе – туда же, где средь песчаных гряд круглилась такырная впадина. Надеялся на везенье: а что – увидит он стадо?! «Своих» на участке джейранов знал – какое стадо, сколько голов, чем приметны; а эти – новенькие – каковы?
И ему повезло.
Копытца били тут глину только-только – час-полтора назад. Джейраны у озера! Будут возвращаться.
Он спрятался за тонким барханным гребнем. В слежавшемся песке выколотил локтями ямки, устроился – удобно и надолго; под руку положил бинокль, солдатскую фляжку с водой, карабин… Наметанно, за секунды, определил сектор обзора, возможное направление стада, если оно, чем-то вдруг напуганное, сойдет с освоенной тропы.
С гребня скатился серый песчаный еж; смотрел подслеповато и с любопытством: кто это тут затаился – большой, живой, с незнакомыми запахами? Курбан-Гурт вытянул губы трубочкой, фыркнул по-ежиному – легонько, дружелюбно. Еж ответил так же и побежал дальше. А сверху, косо раскинув темные крылья, повис ястреб-тювик: засек движение серого комочка, но боялся спикировать – человек возле! Егерь слегка приподнял карабин: улетай, тебя еще не хватало, – и птица резко развернулась, на крутом вираже ушла к далеким утренним тучкам.







