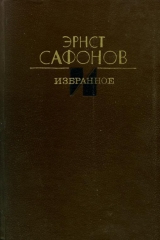
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
1970
КРЫША НАД ГОЛОВОЙ ОТЦА
Россия начинается с избы…
И. Николюкин
Актер областного Театра юного зрителя Василий Тюкин получил заказное письмо от старшего брата Константина.
Было без четверти семь, они с женой опаздывали на вечернюю репетицию, но Василий в плаще и шляпе все же присел на тахту, стал рассматривать конверт, узнавая знакомые каракули брата, радуясь им.
– Свинство, – сказал он жене, нетерпеливо поглядывающей на него от двери. – Четвертый год работаю – домой никак не съезжу… Десять часов поездом!
– Опоздаем. Каллистрат опять наорет, – сказала жена.
– Черт с ним! Ей-богу ж, свинство – четвертый год…
– А ты поезжай. Отпуск будет – поезжай. А я с Бронькой к маме.
– Поезжай, как же! А в последний момент окажется: у сынули – рахит, у женули – бледный вид, поедем, Вася, на юг или на кумыс. Так, что ль?
– Кто ж виноват, что у твоего сынули рахит?
– Ты! – сказал Василий, подсознательно чувствуя, откуда его внезапное раздражение: в братниных каракулях, вкось и вкривь расползающихся строчках адреса чудился ему, Василию, укор; они, фиолетовые корявые буквы, действительно словно попрекали и требовали отчета.
– Каллистрат задаст нам, – напомнила жена.
– Ладно, идем, – отозвался Василий, а сам надорвал конверт, принялся за письмо.
Брат писал:
«Здравствуй, Василий Никитич!
Теперь ты Василий Никитич, потому что твой возраст почти тридцать лет, вполне подходящий имени и отчеству. Но как старший брат я пока не могу привыкнуть называть тебя двумя словами, а потому благодарю тебя, Вася, за красивую открытку с поздравлением 1 Мая, хотя мой срок с ответом задержался почти на полгода. Получилось так, что с 7 мая, как раз День радио по календарю был, я не работаю по прежней должности и ответа дать не мог. Дело не во времени, а в настроении. С 7 мая наш сепараторный пункт закрыт, и я занимаюсь кой-чем.
Хотя и была нудной работа моя, все же считал я себя в необходимой колее, привык, пробыв девять лет на одном месте, а теперь не знаю. Предколхоза отдал маслобойню заводу, но они мудрят, не хотят нести лишние затраты, хотя они вполне окупались за счет нашей качественной продукции. А теперь колхоз возит молоко на завод, переводят все во второй сорт или даже брак. И сломал я тут же ногу, вот уже четыре месяца по сложному рентгенскому снимку хожу на белютне, а ногу волочу. Как говорится, не загадаешь, Вася!
После твоего апрельского письма в райисполком к отцу в деревню приезжал инструктор с района. В колхозе остались недовольны, что ты сам поперед не обратился к ним, поскольку хотя и в другой удаленной области, не в нашем родном крае, но бывший нашенский, стал ты известный человек, и артистов, дескать, у нас любят и ценят. Мы бы, говорил Попов, оказали помощь вашему отцу, но зачем же тревожить район. С инструктором они были у отца, но отец, известно, больной старик, растерялся и забыл, кого как звать в семье. Правда, Попов сказал, что же ты не обратился к нам, и отец ответил, что просил всего полкубометра лесу, а вы отказали. То было когда, ответил на это Попов.
Дали отцу бумажку в сельпо, там был лес на избяной верх, и отец четыре раза ходил в контору безрезультатно. То председателя нет, то нет машины, и на пятый день нашли попутную, приехали в сельпо, а лесу нет давно. В общем, не помощь, а мытарства, на которые отец не способен в своем возрасте и при своем подорванном здоровье…»
– Ты иди… Догоню. Иди! – Он ощутил, как возникает в нем противненькая стылость, будто в предчувствии опасности или неприятного известия; пальцы, сжимающие листок письма, поддались внезапной дрожи. «Что же такое, – подумал он, – они там, а я забыл, сам по себе, стыдно ведь…» Жена отошла от порога, со вздохом присела из краешек тахты рядом, заглядывала через руки Василия, о чем пишет Константин.
«…Был у отца в прошлое воскресенье, – читал тревожно Василий, – дали ему из колхоза два куба на верх, лес, не совру, хороший. Сегодня суббота, я один дома, Дуня с Ниной уехали на свеклу. Я жду Севостьяна Севостьяныча с кинофикации. Хочу попутно отвезти на его машине отцу лес, который у меня остался. Планировал пустить этот лес на веранду. У меня его около кубометра. Ну и доски еще. Тоже отвезу. Тем более Шурка, зять, с Полиной на сегодня обещали подъехать, помогут раскрыть и разобрать хату. Попов в плотниках категорически отказал – заняты на зернохранилище и детяслях.
В общем, сам, Вася, понимаешь, не стройка, а горе. Да я к тому же из-за белютня ногой не управляю. Ну, конечно, поеду, буду, что в моих силах, помогать отцу. Он нас растил тоже без здоровья и в нужде. Я их сколько агитировал к себе жить, но что сделаешь – старики! Мне не хочется свою избу бросать, а им тем более.
Василий Никитич! Из нас никто не знает конкретно, в чем твоя работа артиста и какие у тебя права. Я прошу тебя, если будет возможность, приезжай подмогнуть отцу, хотя бы пробить кое-что, а то он, пока дойдет до конторы, забывает, зачем шел. Это, Вася, одна просьба, последняя, и тебе ее нужно уважить, чтобы не похоронить нам стариков в дырявом жилье, ибо будет нам стыдно на похоронах. На веселых встречах простительно, конечно, и в этой хате, но походит она на решето, стены покривились, до окон труха одна. Все наши и ближайшие сродственники с приветом…»
Василий отложил письмо, сидел тихо, отрешенно, трудным усилием подавив желание выругаться. Выдавил глухо:
– Сты-ы-ыдно ж. Гад я.
Жена сняла с него шляпу, взъерошила прохладными пальцами волосы, сказала, словно смиряясь с необходимостью:
– Поезжай, лапуня.
– «Поезжай»! – повторил он с досадой, не отнимая рук от лица. – Держи шире – отпустят! Самый разгар…
– Чего ты боишься? Каллистрат, к примеру, на тебя, ты – на него… Ори, как он! Господи, при твоем-то положении в театре!
– Ладно, – сказал он, поднимаясь, и взглянул на часы. – Даст прикурить Захарка – на полчаса опаздываем. Пошли.
На улице брызгался с мутноватого неба мелкий дождичек, пахло осенней прелью, увядшей зеленью, мокрыми листьями. Легкая мгла продырявленной местами кисеей висела над крышами домов, цепляясь за купола древнего собора, и первые вечерние огни, опутанные ею, казались тусклыми, будто оплывшими. Василий шагал мрачно, думая о том, что в ожидаемой схватке с главным режиссером Каллистратовым не уступит, вырвет у него неделю отпуска. Осень на дворе, а у отца изба по бревнышку раскидана – дело тут в днях, пока совсем не захолодало, не нанесло с севера синих опасных туч.
В темном переулке, на безлюдье, перед тем как свернуть к зданию театра, Василий, резко остановившись, схватил жену за плечи, приблизил ее лицо к своему и кричащим полушепотом спросил:
– Ты что ж, Зоська, забываешь посылать деньги моему старику… как договаривались?
Жена, приподнявшись на носках, легонько прикусила ему мочку уха и, засмеявшись, сказала:
– Не зверей, Тюкин!
Чем лучше получалось у актеров, тем свирепее кричал на них главреж Каллистратов Захар Моисеевич, требуя невероятного и талантливо проклиная себя за то, что имеет дело с убогим народцем, которому не на сцене играть, а торговать из-под полы самодельными леденцами или в магазине мясные туши рубить. За глаза в театре звали его Каллистратом, еще Захаркой, а кто-то из обиженных главрежем переиначил Каллистрата в Кастрата, что нельзя признать удачным – кличка не соответствовала кипучему темпераменту Захара Моисеевича и его беспредельной преданности искусству. Однако в этот вечер на репетиции Василий, так и этак обозванный режиссером за опоздание, без того растревоженный, с мстительной улыбкой припомнил обидное словцо – Каллистратов не слышал, зато другие слышали…
Сразу же как репетиция закончилась, Василий с угрюмым видом подошел к главрежу и заявил, что просит полторы недели отпуска, заранее знает, каков будет ответ, но не отступится, пока не получит того, что ему позарез необходимо…
Каллистратов вскинул вверх коротенькие руки, потряс ими, рванул себя за седые лохмы на голове и стал кричать, вовсю используя исключительную акустику зала, так, что уходившие с репетиции актеры начали останавливаться на полпути и возвращаться к сцене.
– Посмотрите на него! – кричал Каллистратов. – Он не выложился на репетиции, у него имеются силы на шуточки со мной! Нет, мой мальчик, я пока не свихнулся, не заводи розыгрыша, не смеши вот их…
– Так, да? – в свою очередь кричал Василий. – А на гастролях кого только Тюкин не подменял, чего не делал – это как?! А понадобилось Тюкину – во ему!
Он чуть не продемонстрировал известный жест, не рекомендуемый для показа в обществе, и спохватился вовремя, сказал, угасая:
– Надо ж, Захар Моисеевич. Отец там…
– Отец! – прокричал главреж. – У кого из вас нынче отец?! У тебя, Вася? Не верю! Про меня, думаешь, дети помнят! А я старую больную маму в коляске вожу…
– Знаю, – сказал Василий, – такая коляска… на велосипедных колесах…
– А чем тебе не нравится такая коляска? Может, старуху в восемьдесят шесть лет на «Запорожце» возить?.. Чему улыбаешься? Посмотрите, умоляю, он еще улыбается! Он думал заговорить мне зубы… Не выйдет!
– Захар Моисеевич…
– Вася, я тебя обожаю, но хватит!
– Дай ему, Захар Моисеич, неделю, – сказал, поднявшись на сцену, директор театра Фалалеев. – Мне сейчас Зося рассказала их семейную ситуацию – нужда есть. Дай.
– Слушай, Валерий Сергеич, голубчик, умоляю, не зарабатывай у Васи Тюкина дешевый авторитет. Он тебя без этого по-серьезному ценит. – Каллистратов взял двумя толстенькими пальцами директора за галстук и подергал за него легонько, будто проверил, хорошо ли тот держится на шее; директор деликатно отвел руку главрежа, и тот, сняв пушинку с директорского плеча, обреченно сказал: – За него же в двух ведущих спектаклях придется играть. Может, ты имеешь желание, Валерий Сергеич? Нет, не хочешь? Тогда Илюшка Губанский будет… Илья, Илюша, не уходи, подойди сюда!.. Спасибо, милый! А теперь, Илюшенька, посмотри на Валерия Сергеича… Видишь, Валерий Сергеич?
– Что я должен видеть?
– Глаза! У нашего Илюши глаза и поза убийцы, насильника, если хочешь… ему в «Братьях Карамазовых» играть, а не в «Коньке-Горбунке»! Ты можешь идти, Илюшенька… Пока, пока, до завтра! Сыграет он нам Иванушку, скажи, когда мы комиссию ждем? А, Валерий Сергеич? Сыграет? Не будем ли мы с тобой иметь некоторое неудобство? Но «Горбунок» – горел бы он! А за Васей еще Глеб в «Доме под солнцем»… Короче, устал я, и ты, Тюкин Вася, а н ф а н т э р р и б л ь, как сказали б про тебя французы, – бери три дня! Не раскрывай рта, умоляю…
– Неделю.
– Не на барахолке, Вася… Пять дней – точка!
…Ночью Василию спалось плохо: он ворочался, постанывал, толкался – жена ушла от него с тахты на диванчик. А Василий, несмотря на беспокойный сон, видел в дреме радостное для себя – отзвучавшие давно картинки деревенского детства. Вернее, не картинки, а какие-то осколочки минувшего, слабо соединенные между собой. Например, явственно, до трещинок и размывин, видел рыжий речной обрыв, изрытый гнездами ласточек, с которого он когда-то сорвался; и тут же, сменяя это видение, наплывало совершенно другое, уже из зимнего времени… Звенит, отчаянно прогибается молодой ледок, по которому они бегут в школу-семилетку, и он, Васька, несется со всеми вместе, а затаившееся в страхе сердчишко вот-вот разорвется: а ну-ка лед треснет?! Братан Костька на бегу подставил ногу Валюхе, что жила возле конного двора, и Валюха уже катится по льду на животе, раскинув руки, взметывая морозную пыль; пальтишко задралось у нее, юбчонка тоже, и все они видят, что на штанишках у Валюхи, на круглых местах, две огромные заплаты из цветной материи, – смешно-то как, а Валюха плачет!.. И грозится с обрыва придурковатый Ромка, сторож на колхозной бахче, а они, разделенные с ним речкой, кривляются, швыряют в него недозрелыми помидорами, но это уже лето…
Пробудился Василий в приподнятом настроении. Давно начавшийся день солнечно и широко распахнулся перед ним: добро пожаловать!
Жены уже не было – ушла на утренний спектакль. Василий, перехватив кое-что всухомятку, взял под мышку пустой рюкзак, четвертной из отложенных на поездку восьмидесяти рублей и побежал в магазин.
На улице щедрый разлив света, мальчишки гоняют на самокатах, к углу соседнего дома подкатили желтую цистерну с пивом: толстая баба в белой куртке плотно уселась перед краном, а любители пока не набежали, пей – не хочу. И через назойливое гудение автомобильных моторов, через шум близкой отсюда фабрики, через резкие звуки шаркающей по асфальту дворницкой метлы услышал Василий, как с высокого неба падает вниз негромкое затяжное курлыканье: журавлиный клин медленно уходил на юго-восток. Василий, задрав голову, смотрел на журавлей, прохожие, останавливаясь, тоже смотрели, да и как не посмотришь: улетают, а сам ты не улетишь; улетают – зима, значит; и мог бы чего-то не припомнить, позабыть, не задуматься лишний раз над чем-то, но – летят журавли! Еще, выходит, одну теплую пору провожаем, старше стали, и нет возврата назад, легких путей нет, сказочного царства нет – есть вот это, что вокруг или в самом тебе, есть сегодняшнее и будет завтрашнее, живи, как совесть велит!..
Так необременительно для себя размышлял Василий у желтой цистерны с пивом; пиво в кружке тоже было золотисто-желтым, и деревья стояли желтые, пообносившиеся, а журавлиный строй растаял в бесцветной вышине.
– Смотрите в оба: он будет в кепке козырьком назад! – отдавая пустую кружку, строго сказал Василий толстой продавщице, наслаждаясь ее растерянностью: рот распахнула – воробей влетит!
– Идивот! – опомнившись, тонко крикнула ему в спину продавщица; от этого стало еще веселее.
Однако веселье, рожденное, наверно, приятными, трогательными сновидениями из детства, внезапной свободой, отрешившей его от привычного круга забот, от театра, – веселье это как-то сразу потускнело, сошло на нет у магазинных прилавков, где ему взвешивали колбасу, кидали в рюкзак банки консервов «Сельдь в желе», «Треска, жаренная в масле», насыпали полтора килограмма разных конфет, дополнили все двумя бутылками «Охотничьей».
Как бы прозревая, он вдруг спохватился: отчего я счастливый? Еду домой, на родину, где не был ой-е-ей сколько, уже забывать стал, что там и как, – этому душа радуется? Но как он едет? По просьбе, по вызову, не на гулянку, не на отдых, не сливки пить… Там больной отец его, над которым сейчас вместо крыши ненадежное осеннее небо, – отец, о котором он помнит всегда, конечно, и любит его, жалеет сыновней жалостью, но привык себя успокаивать тем, что подле отца находится Константин… Он, по существу, взвалил все на Константина: тащи, старшой! А Константин пишет – и тоска у него, и обида, и, если вдуматься, непонятно ему: что же это Васька – не нужны мы ему? Да и не в помощи, рассудить, дело – во внимании, внимание дорого…
Вышел Василий из магазина, закинув отяжелевший рюкзак за спину, – и все прежнее на улице словно бы потускнело для него. Часом раньше польстило бы, что две девчонки, подрастающие невесты, идя следом, взволнованно шепчут: «Смотри, Тюкин… Тюкин! Помнишь, царя в «Декабристах» играл!..» А сейчас он только ускорил шаг, ссутулился, стараясь скорей уйти от этого шепота; просвеченные желтизной редкие листья на деревьях щемяще напомнили ему давнишнюю осень, когда он юнцом уходил из деревни в город. Отец, простившись с ним в избе, догнал у околицы, озираясь, не видит ли мачеха, воровато сунул ему в карман тряпицу – оказалось в ней сорок рублей еще теми, старыми, деньгами. Отец уже тогда был в морщинах, со слезящимися глазами, в груди у него хрипело и булькало. «Вася, – попросил он, – мимо погоста пойдешь, матери поклонись…» Заросла жесткой многолетней травой мамкина могила…
– Не приходил шпиён? – снова оказавшись у цистерны с пивом, спросил он у толстой продавщицы.
– Две кружки выпил, – улыбаясь, миролюбиво ответила она; кивнула на рюкзак: – В туризм собрался?
– В ту самую!
– У меня тож сын веселый, зубоскал. Налить?
– Не.
– Сын веселый, а жена ему досталась – прокурор!
– Правильно, – сказал Василий, – я говорил ему: не женись. Не послушался.
– Ты Витюньку мово знаешь? В милиции вместе служите – ви-и-ижу теперь! А думаю, че, думаю, че он ко мне пристает! Че, думаю, а он Витюньку знает!
– Твоего Витюньку в сержанты переводят.
– Дак он же лейтенант!
– Приказ вышел – переводят.
Баба раскрыла рот снова, пиво у нее лилось через край кружки; из очереди жаждущих крикнули:
– Не отвлекай, мужик! Жажда!
Василий поддел рюкзак локтем – железно стукнулись в нем консервы, – пошел к дому, мгновенно забыв и про бабу, и про свой пустой треп с ней; напросились на ум строки из Пушкина, повторил их, не заметив этого, вслух:
С утра садимся мы в телегу,
Мы рады голову сломать…
Поезд отправлялся вечером, а пока был полдень. Прибежала из театра жена, чтобы пообедать вместе; когда сидели за столом, сказала:
– Слышишь, лап? Сусанна своему ши-и-икарную водолазку отхватила. Даешь пятнадцать рублей, добавлю из своих и куплю тебе…
– Что еще? – отбросив ложку, спросил он.
– Не заводись, Тюкин. Не хочешь – пусть. Не себе – тебе.
Он посмотрел в ее спокойные зеленые глаза – она пожала плечами, придвинула к себе журнал, уткнулась в него: я предложила – ты отказался, ну и что? Нашарила на тумбочке пачку с сигаретами, закурила; он подошел, вытащил из ее пальцев и скомкал сигарету, бросил в пепельницу. Она снова пожала плечами. Он думал, что она скажет: «Это первая за сегодняшний день, я больше не буду….» – а она не сказала, лишь плечами…
– Когда же кончится такое?! – крикнул он, чувствуя, как ненатурально прозвучало его возмущение, и повторил фразу громче, и опять она получилась слабой, даже жалкой. Но спасительное раздражение уже вскипало, он знал, что не остановится, многое наговорит, ему нужно это – наговорить, он просто задохнется сам в себе, если не даст волю словам; тем более она, если посмотреть, хороша – муж уезжает, а она демонстрацию молчания устраивает, плечами дергает, будто на сцене, в мелодраме, будто не за семейным столом… И когда она его понимала – когда?!
– Ты орешь, как Каллистрат, – заметила жена, – а я его вечером наслушаюсь.
– Плевать мне на твоего Каллистрата! – кричал он (однако голос понизил: стены тонкие, соседи любопытные); кричал, что она под видом приобретения водолазки готова выманить у него те жалкие гроши, что предназначены на поездку; ей, разумеется, приятно, чтобы он вообще никуда не ездил, отца родного забыл; и ежели разобраться – только из-за нее он четвертый год никак не выберется в деревню, из-за нее, хотя тещу видит в году пять раз, и это превосходно, что он видит тещу, она лучше своей дочери, пусть даже драгоценная теща насовсем к ним переселится, он будет бесконечно счастлив – однако не мешайте навещать больного, одряхлевшего отца, не мешайте!..
Тут, прервав его, в прихожей зазвонил телефон. Он бросился туда, краем глаза заметив, что жена, хотя и смотрит по-прежнему в журнал, вряд ли что различает в нем, вот-вот слезы брызнут… «Переборщил, ладно, сорвался… Но ведь черт знает что такое – кручусь, тяну, как вол, никакой возможности распорядиться собой, попробуй тому же Константину объясни…» И не сразу дошло, что говорит ему по телефону знакомый парень из местной молодежной газеты.
– Ты вдумайся, старик, – бодро звучало в трубке, – дадим твой творческий портрет, многообещающего, так сказать, молодого актера города. Со снимком дадим, богато, красиво, старик, и раздумья об искусстве, само собой, будут… Что-нибудь такое: мечта моя – сыграть современника! Усек?.. Это срочно! Сегодня и завтра работаю с тобой – в субботу очерк выходит…
– Ни сегодня, ни завтра! – ответил он. – Не могу, Алик, дело у меня святое! К отцу в деревню еду, избу ставить… Что? Умею ли? Я ж деревенский, Алик, от сохи, не ваших голубых кровей… Что? Не обижайся – мы ж друзья… А топориком помахать, лошадь запрячь – это запросто, это могём! Так, промежду делом… И прости, отложим, Алик, затею. Сам понимать должен – отец там!
Он вернулся в комнату; жена собиралась уходить – стояла черед зеркалом. Он подошел, хотел обнять – она отстранилась.
– Погорячился, согласен, но если…
– Ах, оставь, пожалуйста, свои вечные «но» и «если»! Как ты мелок, Тюкин, как скучно с тобой…
– Скучно, – согласился он, – я исправлюсь, пани Зося, честно… Слышала – писать про меня хотят. Очерк. Отказался!
– Напишут! Два актера, напишут, у нас есть – Тюкин и Смоктуновский. Еще, правда, Михаил Ульянов…
– Знаешь! – Он снова «сыграл» голосом, пристукнул ладонью о стол и, осекшись под ее взглядом, примирительно закончил: – Не будем.
– Продолжай, – разрешила она язвительно. – У Сироткиных, зайдешь к ним, иль у тех же Губанских разговоры в семье о чем-то высоком, большом, о книгах, московской театральной жизни, споры, а не дрязги… А ты продолжай в своем духе, Тюкин, я привыкла… Я привыкла, что тебе нужно смешать меня с грязью, когда уезжаешь куда-то. А еще перед началом спектакля, чтобы игралось тебе лучше, еще когда гости у нас… Ты свою полноценность так утверждаешь, Тюкин! Тебе учиться надо, совершенствоваться, ты же на природный дар надеешься, ленив, и обойдут тебя, Тюкин, попомни меня… И перестань хвастаться, что ты деревня, это и так лезет из тебя…
– Разошлась, – сказал он. – Муж уезжает – она разошлась…
Мир не сразу, но восстанавливался. Василий помог жене собрать посуду со стола, пообещал, что вымоет тарелки – времени в запасе много; она же сказала ему, что не задержится после спектакля, тогда перед его отъездом на вокзал они успеют забежать в круглосуточный детский сад, где растет их пятилетний Бронька, она возьмет до утра сына домой, вместе проводят папку, хотя он, дураку ясно, не заслуживает этого…
Василий, смягченный и почувствовавший охоту говорить, энергично ходил по комнате, жестикулировал своими длинными сильными руками, потряхивал цыганистым чубом, убеждал то ли себя, то ли жену, что осталось перетерпеть немного: его заберут из ТЮЗа в драмтеатр, а в «драме» – размах, можно по-настоящему показать себя, были же случаи, когда оттуда приглашали на работу в столицу или в кино сниматься, да и заработок больше… Он говорил, что плохо, с одной стороны, – поздно на сцену он пришел, с другой же, рассудить, в этом свой смысл – знает жизнь, многое испытал в ней, а оттого играет без фальши, не повторяется, владеет искусством правдиво и смело перевоплощаться…
– Ты у меня, лапа, молодец, – сказала жена и поцеловала в щеку. – Но не вздумай там, в деревне…
– Ты знаешь, что такое стройка? Там от зари и до темна…
– Я тебя знаю!
– Чтоб мне провалиться! Устраивает такая клятва? Кроме тебя – никого!
– Смотри, Тюкин. Узнаю, догадаюсь – мне самой недолго…
– Но-но!..
И опять зазвонил телефон – трубку взяла жена. Он тоже подошел, наклонился к трубке, услышал густой, рокочущий басок Илюшки Губанского:
– Зося? Что ты, Дездемона, проводила своего Отелло? Он, поросенок, на расстанную чарку даже не позвал… Позор твоему Тюкину! Скучаешь?
– Закрой фонтан, – прорычал в трубку Василий. – При живом-то муже – нахал!
– Твоя взяла, – отозвался Илюшка, – один – ноль… Чего ж не уехал, Буслаич?
– Еду, Муромец, еду, коня уже подводят… И как не ехать – слышал?
– Зося сказала…
– Ты, брат, пойми: погода на дворе стеклянная, вот-вот расколется. А там избу по бревнышку раскидали…
– Соберете, – сказал Илюшка.
– Отец хворый, не виделись давно.
– Надо, Буслаич!
– Надо, Илья.
– В «Иностранной литературе» роман одного колумбийца не прочел? «Сто лет одиночества». Вкусно пишет.
– Зоська журнал перехватила… Значит, еду, Муромец!
– Скатертью… Да, Вася, чуть не запамятовал! Фалалеев сказал: пьесу будут завтра читать. Решено будто б – одобрили.
– Какую пьесу?
– Какую ж – «Разведку»!
– Ты что?!
– Побожусь, Вася.
– Во-от гад…
– Кто?
– Есть личность…
– Ну, Буслаич, пока… Тут хвост звонильщиков за мной… Целую нежно!
Василий опустился на корточки, привалился к стене – росла в груди, ширилась ярость, прошептал:
– Устроил мне Фалалеев… устроил ведь!
– Будут читать? – спросила жена.
– Нет, ты подумай! – потрясал сжатыми кулаками Василий. – Что он делает! Я, можно сказать, нашел эту пьесу, автора в театр за ручку привел, познакомил, я эту пьесу на полпути к Москве перехватил, надежды на нее возлагаю…
– Не переживай.
– Нет, ты глянь на него! Без меня читать будут! Прочитают, роли тут же распределят – знаю я. Подвернулся случай – Тюкин уезжает, и сразу читать. И распределят роли как пить дать… Фалалеев Сироткина выдвигает, ему отдаст сыграть разведчика, а мне фашиста оставит иль этого… начальника штаба! Точно. Он поэтому Каллистратову подсказывал: отпусти его, Захар Моисеевич, отпусти! А сам в уме свое держал, змеюка подколодная! Это проверено ж: Сироткин ему родственник, дальний, но родственник…
– Может, преувеличиваешь, Вася… Прочтут, Каллистрат за тебя будет…
– Надейся! Кроме Сироткина еще Губанский есть. Бездари! А я с этой ролью сжился, я вижу этого разведчика, я ждал… Если хочешь, мне Шевченко так и обещал: сыграешь еще с одну яркую роль современника – будешь в «драме»!
– Не расстраивайся, лапа. Твое от тебя не уйдет. Дай поцелую – мне бежать…
– Позвони, – успел сказать он ей вслед. – Будет чтение «Разведки» иль что там?..
«Закулисные интриги, – подумал горько. – Каллистрат, восемьдесят из ста, за меня. Но и у Фалалеева сила. Как оно некстати – письмо… А ехать нужно. И роль из-под носа уведут. А сыграл бы ее как! Как сыграл бы! Разве Сироткин сможет! Будет бегать по сцене надувшись, с выпученными глазами – вот и весь его разведчик. А надо тут тонко, интеллигентно, чтобы ни в чем фальши, перегиба…»
Он подошел к зеркалу, прищурился, плотно сжал губы и улыбнулся ослепительно, представил, какой он будет в армейской форме, поначалу в своей, советской, а после затянутый в мундир офицера рейха, каким нужно быть внутренне собранным при внешней небрежности, и придется отыскать характерный жест, который запомнится зрителям… Это, черт возьми, его роль, песня, которую обязан спеть он, а не Губанский, не Сироткин, они сосунки, в армии даже не служили, а это как-никак образ военного человека: надо уметь ходить, отвечать, обмундирование носить по-военному, а такое умение получаешь не от режиссера, а от ротного старшины и сержантов – да-да, от них, и по гроб жизни…
«Впрочем, знают же, что эту пьесу я в театр привел, – успокоил он себя, – совесть-то у них должна быть?..»
Позвонила жена: чтение «Разведки» состоится завтра.
– Во Фалалееву! – сказал Василий.
Назначили читать пьесу на шесть вечера, и Василий, не уехав накануне, как предполагалось, появился к сроку со всеми вместе. Когда же Каллистратов объявил, что читка и обсуждение отложены на следующий день из-за недомогания директора и директор просит передать его извинения драматургу и всему коллективу, у Василия стало такое лютое лицо, что главреж спросил, не беда ли у него, денег, может, не хватает на дорогу – он одолжит.
После Василий играл в спектакле; пришел и на утренний спектакль, а вечером присутствовал на чтении «Разведки». С женой не разговаривал – та сказала, что ему нужно было ехать в деревню, а не оставаться; он сам это знал, но вот не поехал, не хочет отдать положенного ему кому-то другому, а она еще сыплет соль на рану, могла б смолчать или успокоить. Нет, туда же… И без нее тошно.
Обсуждение пьесы прошло превосходно, автору наговорили много лестного – он сиял; Фалалеев в заключительном слове подчеркнул, что такой спектакль будет хорошим подарком ТЮЗа к приближающемуся празднику – придется форсировать постановку, из невозможного сделать возможное, работать до седьмого пота, но 5—6 ноября премьере «Разведки» быть! Еще Фалалеев сказал, что роли будут расписаны завтра, у главного режиссера есть свои особые соображения, он обдумывает и прикидывает, но – тут Фалалеев улыбнулся, и Василий готов был поклясться, что улыбнулся он ехидно, со значением, – главная роль, товарищи, конечно, за нашим Васей Тюкиным, роль эта будто специально для него написана, он сыграет ее не хуже, чем Станислав Микульский сыграл своего капитана Клосса, можно Тюкина поздравить… За работу, друзья!
…Шли домой с женой вместе и каждый сам по себе. Василий, подавляя неловкость, сказал тихо:
– Присутствовал, а то б черта с два…
Жена не ответила.
– Теперь не уедешь, – вздыхая, сказал Василий.
И опять жена не отозвалась, нервно подняла воротник плаща, скрыв лицо.
У почтамта он попросил ее обождать, порылся в карманах, спросил смущенно:
– Сколько у тебя?
– Сорок два рубля.
– Давай.
– Тюкин, жить как? Смотри.
– Послезавтра на радио должен получить. До копеечки отдам тебе… Или у Каллистратова перехвачу.
Он нырнул в дверь почтамта, заполнил там бланк перевода на сто рублей и в торопливой короткой приписке Константину извинился, что пока приехать никак не может, однако надеется, что выберется к ним, пусть ждут…
Сырыми, начавшимися с середины ноября вьюгами набежала зима, летели белые снежные дни; в ТЮЗе «Разведка» шла с аншлагом, под аплодисменты, возбуждавшие в Василии жадное стремление играть лучше, лучше; чудилось ему, что это лишь начало, он уже мечтал о другом спектакле, не знал пока, каким должен быть новый спектакль – из классического репертуара или современным, но обязательно таким, чтобы не сковывали драматургические рамки, как в «Разведке», тесно не было, чтобы накаленные страсти кипели, гомерический хохот потрясал, неутешные рыдания чтобы и собственное сердце сжималось, обливалось кровью, факельно светилось и трепетало от ужаса и восторга… Он только начинал понимать, что такое сцена, – подождите!..
Каллистратов кричал, вытирая потеющие ладони о лацканы пиджака:
– Вася, дурной, красавчик мой, друг, негодяй эдакий, не сорвись, не оглядывайся назад – штаны в шагу трещат, как шагаем! Я из тебя дурь выбью – мы с тобой далеко пойдем, цыганская ты порода!
Жена, аккуратно собиравшая печатные отзывы о спектаклях, где упоминались их имена, наконец-то смогла пополнить свою коллекцию вырезками из центральной прессы: газеты и театральный журнал отметили в хронике спектакль «Разведка», исполнение в нем главной роли В. Тюкиным.
И Василий, уставший и счастливый, обещал жене неопределенно:
– Погоди – то ли будет!
Воспоминание о несостоявшейся поездке в деревню вначале давило на него сильно, он тревожно задумывался, натыкаясь в кармане на письмо Константина, – и однажды засунул конверт между книгами на этажерке, не доставал его оттуда больше, хотя иногда и тянуло перечитать… Он боялся, кажется, этого письма, угадывал тайную обиду брата еще и в том, что Константин не написал ему, получил ли те сто рублей, завершили или нет стройку… Не могли не завершить, отчего же было не завершить – ясная погода долго держалась; а что он приехать не смог – на него, пожалуй, серьезно и не надеялись… Он приедет, обязательно приедет, привезет внука деду и племянника родному дяде – пусть посмотрят на юного продолжателя тюкинского корня! Бронислав Васильевич Тюкин – любите, жалуйте, английский язык в свои пять лет мало-мало знает, сам «Пионерскую правду» прочитывает, и жаль – у деда рояля в избе нет: на рояле бы внук сыграл!..







