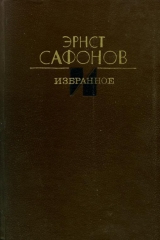
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Она не вернулась в этот день на дебаркадер; Спартак увез ее утром, и Глеб до полуночи не ложится спать, – затаившись, слушает, не зарокочет ли знакомо и обнадеживающе у излучины моторная лодка инспектора.
…Случайный ночной жук ударился о стекло, шлепнулся на стол и с жужжанием взлетел опять – пошел на новый таран. Вдали глухо гудит припоздавшее судно, оно завязло в речной темноте, его протектор щупает теперь черную воду; судно пройдет без захода, мимо дебаркадера – буксир-толкач, скорее всего… Давят низкие и прямые стены комнаты.
А на палубе: дыши – не хочу; играючи толкается в берег вода; плавает сморщенная, обгрызенная луна – при желании ее можно багром достать или ударить тем же багром, чтоб разлетелась она на желтые осколки. Ну, что, Глеб?!
Сжался Глеб – теснота в груди, и обида за день перегорела – пепел один.
Он ждет: будет ли моторка?
Ждет. Зачем?
Он уже не думает о том, почему Люда решилась дать ему для прочтения свои записи. Испытание на прочность?
…Пестренький… Сухой и нервный перестук в висках. Как же все преодолеть и познать, чтобы Земля, перенасыщенная тревогой за завтрашний день, спокойно и доверчиво вращалась под твоими ногами? И чтоб было как вызов: меня не смутить. Учиться? Унизительно, что он, непонятно для чего, скрывал от Люды Татьянку, не признался: в Славышино она. И Люда тетрадкой своей уличает – в нечестности, чуть ли не в подлости. Ты не поддержал друга!
Друга?..
Линия, черта – она развела, поставила справа или слева Люду, слева или справа Татьянку. Кого ближе к нему? Приезд Люды встряхнул, удивил, привнес с собой смутную, необъяснимую надежду… Какую? Он ждал, он был в ожидании. Он просто был в ожидании. Чего он хотел от Люды?
А с Татьянкой? Только честно, перед самим собой честно! Надо же когда-нибудь вот так, не обманывая себя… Стать зятем Фрола Горелова? Полно, зачем, она же ушла о т Г о р е л о в а… И у нее тоже есть с в о я надежда, что ты, может быть, один ты, понимаешь ее… А как притушить докучливую боль, рожденную одичалыми глазами Потапыча, его сизым, нездорово отекшим лицом, которое вдруг стало жалким и неряшливым, – в бурой жесткой щетине, с мокрыми трясущимися губами. Никогда старик не запивал так страшно, лечить его надо… Отнял ключи от буфета, а он просил бутылку портвейна… «Последнюю, как перед богом, Глеба…» – и слезы, выдавливаясь, стояли в набухших складках обросших щек.
Звезды на светлеющем небе быстро тают, в деревне перебрехиваются собаки, сонная река невнятно вздыхает, полна странных звуков: вроде кто-то, скрытый, огромный, совсем неподалеку, тяжело, обиженно посапывает.
Косматыми прядями снизу возникает туман. Ширится, заполняет видимость. Густой, обволакивающий, дрожащий.
Почудилось Глебу или на самом деле позвали его по имени?
Напрягает зрение: да, на берегу, в туманном молоке, кто-то стоит и будто бы машет рукой.
Глеб бежит по сходням, затем по песку, и сырой песок холодит ноги, и туман, где Глеб проходит, как бы расступается, – в сиреневой предутренности видно, кто приближается ему навстречу. Медленно, словно на ощупь, с опаской, приближается Татьянка.
Глеб берет ее за руку, – пальцы у Татьянки, как всегда, твердые и прохладные, он чувствует их слабое глухое сопротивление; сейчас у него такое состояние – ношу с плеч сбросил, тяжелую, неудобную ношу.
– Как долго все это, знаешь, Татьянка.
– Эх ты! – Она толкает его ладонью в грудь. – Я все ноженьки обила бы, а тебя разыскала! На веревочке тебя, как бычка, водить надо!
– Тут по твоему письму…
– Знаю. Ты говорил с ней?
– Все тебе сейчас расскажу…
Татьянка смеется, и что-то новое в ней: терпеливое, сильное, повзрослевшее, – в голосе, взгляде, в том, как смеется. Веселая радость заполняет Глеба, – радость от Татьянкиной близости, от влажной травы, которая вокруг, в которой защелкала ранняя пробудившаяся птица, еще от стремительной крупной звезды, внезапно перечеркнувшей невозмутимость неба, и оттого, что звезда эта упала, наверно, в реку, и по реке заиграли красные блики. Притихла Татьянка; и оба во власти томительной значительности этого момента: пришло то, чего никогда не было, и оно торопит – надо идти. Надо идти! Нас же двое, да? Вот солнце – вначале его краешек, а затем всё, громадное и ослепительное, – показалось из-за леса…
Туман – розовый!
Он неожиданно поднимает ее на руки, а она свои руки сомкнула у него не шее, клонит книзу, шепчет:
– Как мне все равно. Все их су́ды-пересуды…
Туман по-прежнему розовый. Растворяются в нем не для чужого слуха слова, и внезапно оборванный смех, и вскрик, и непонятные – счастливые тоже или горькие – слезы.
А день воскресный. С «Новгорода» сошло много народу, больше обычного. Грибники городские, ревниво настороженные друг к другу, сразу же наперегонки устремились к лесу; особнячком звонкоголосая стайка школьников с рюкзаками, надувной лодкой, эмалированным ведром и собакой – туристы, значит; отпускной молоденький офицер с колыхающейся разморенной женщиной, на которую с любопытством смотрели два пожилых рыбака, вооруженных зачехленными удочками; и еще были люди… Среди них Глеб увидел Антонину Николаевну – жену Спартака, – помог ей спуститься по трапу, взял из ее рук тяжелую авоську, распираемую книгами. Рядом с ней был мальчик лет семи – с таким же, как у Антонины Николаевны, бледным, рыхловатым личиком; и носик у него тот же – смешной, по-утиному вытянутый, будто не навсегда, только для маскарада приклеенный. Глеб помнит: при первом знакомстве с Антониной Николаевной он сильно подивился, что жизнь странным образом свела двух таких непохожих людей – Спартака и его жену…
– Будьте друзьями, – сказала Антонина Николаевна, – Фидель, дай руку Глебу Борисовичу.
– Фидель, – повторил мальчик, – Фидель Феклушкин. – И вежливо спросил: – Вы тоже военным были? Папа наш старший лейтенант…
– Ах, ты о своем! – Антонина Николаевна улыбнулась сыну – снисходительно, как и положено у старших; пояснила Глебу: – Часто вспоминает военный городок, где жили… Вообще-то, признаться, четче жизнь там была. Определеннее… А вы какой-то просветленный, Глеб Борисович.
– У вас каникулы?
– Да. Но я соскучилась – по школе, своему классу.
– А это Спартаку, конечно. – Глеб приподнял тяжелую сетку с книгами, всмотрелся в названия. – «Россия под властью царей». Я возьму почитать. Если разрешите, Антонина Николаевна.
– Пожалуйста, Глеб Борисович. У любой книги должно быть как можно больше читателей.
– А это ему зачем? «Справочник садовода»… «Фруктовые деревья»… Он что – сад посадить хочет?
Антонина Николаевна ответила не сразу, словно раздумывала, как лучше объяснить, и ее белое лицо слабо зарумянилось, а в голосе – слышит он – что-то торжественное (так говорят о необыкновенном, очень важном).
– Именно, Глеб Борисович. На острове Спартак Иванович осенью заложит сад…
– Болото…
– Именно на болоте, Глеб Борисович! Он осушит этот ильмень, раскорчует.
– Трудно.
– Но можно!
– Я, мама, скажу, – просит Фидель, – позволь, я расскажу! Вы понимаете, Глеб Борисович, по всей реке много земли такой… ну, такой…
– Бросовой, – подсказывает Антонина Николаевна.
– Бросовой земли, Глеб Борисович. И наш папа вырастит сад на ильмене, и все люди такие сады начнут сажать! Сколько тогда яблок будет! Нет, посчитайте, сколько яблок будет. Польза какая! Обществу польза!
Антонина Николаевна, доверчиво наклоняясь к Глебу, шепчет:
– Он хорошо будет выступать на пионерских сборах, правда? Я вижу. – И вслух: – Вы, Глеб Борисович, честное слово, душевно приподнятый нынче. Целеустремленность сквозит. Мы же, педагоги, народ проницательный!.. – Смех у нее аккуратный, неслышный…
А яростное солнце – в зените. Полуденный зной. Нестерпимо сверкает притихшая река, и все поблизости – вода, крашеное дерево дебаркадера, воздух, – все раскалено до звона.
– Антонина Николаевна, пока Спартак не приехал за вами, отдохнете? В моей комнате.
Он ведет их наверх, к себе, – Антонина Николаевна шагает размашисто, по-мужски, ее тонкие длинные ноги, несмотря на жару, в черных чулках. Глеб думает, как появится Спартак: один или с Людой? Хотя – ему-то, Глебу, что! Впрочем, лучше не надо, чтобы Антонина Николаевна видела в моторке Люду. И опаздывает Спартак; бывало, каждое воскресенье с утра здесь.
Через какое-то время Глеб забывает про Антонину Николаевну и Фиделя; до ломоты в надбровьях глядит на воду, насыщенную солнцем; обрывочными, ускользающими видениями приходит к нему все, что было минувшей ночью, минувшим рассветом. Невольная улыбка блуждает на его лице. В эти мгновения счастливо забыты им все страсти-мордасти, кипящие в мире и иссушающие его своей понятной недоступностью и холодностью: нет в нем тяжести циклотрона, и зависти в нем нет – к городской ли содержательной жизни, к людям, наделенным возможностью совершать великие деяния на удивление современникам; сейчас в нем созревает желание не возвращаться ни к чему прошлому, дожидаться, когда к ночи прибежит Татьянка и они окончательно решат, как им быть.
С берега – свист. Так всегда – пальцы в рот – Тимоша свистит. Он и есть. Тимоша Моряк.
Присел Глеб возле него на выгорающем пригорочке, закурить дал – Тимоша затягивался глубоко.
У Тимоши вид сердитый, угрюмый. Закружил в свободном небе ястреб – сыпанули с писком под карниз дебаркадера ласточки и воробьи. «Ружье у Фрола, – пожалел Глеб. – Вдарил бы!»
– Потапыч что?
– Утром чай пил…
Тимоша кашлянул, в упор спросил:
– Тебе, понял, Татьяна, что гильза стреляная, не нужна? Покобелевал и в трудностях бросил!
Глеб улыбнулся: знал бы!
Тимоша по-своему оценил эту улыбку – оттолкнулся деревянными лопаточками, отъехал, крикнул, обернувшись:
– Сопля ты!
– Погоди, сдурел?!
– Э-эх………!
Бабы, что на дебаркадере к теплоходу шли, остановились. Цирк бесплатный для них. У Тимоши красный рот открыт в матерном окрике:
– …Ненавижу!.. Всякую совесть затоптали!.. Фашисты!.. Сожгу вас всех, сам зарежусь!.. Забыли, гады, насквозь правду продали!..
– Тимош, да ты что?! Послушай, – Глеб напуган не Тимошиным проклятьями, видом его напуган: тихий же Тимоша, как зеркало он в Русской – смотрись в него и радуйся. – Послушай…
– Не подходи! – шарит Тимоша по себе руками, сатиновую рубаху и полосатый тельник рвет, обнажая татуированную, в багровых рубцах грудь. – Не подходи, гад дебаркадерный!..
– Катись, – наливаясь усталостью, говорит Глеб; идет на дебаркадер, видит Потапыча у раскрытого окна – равнодушно смотрит Потапыч.
А Тимоша на берегу рыдает, упал навзничь, колотится о землю, и тележка – ремни лопнули – вверх колесами, рядом Захар Купцов, приковылявший сюда, – успокаивает: бабы в кружок – успокаивают.
– Он пьяный? – осторожно трогает Глеба за локоть спустившаяся вниз Антонина Николаевна. – Мерзко как. Фидель слышал…
– Инвалид, – отвечает за Глеба Антонине Николаевне пожилая, в сборчатой кофте и такой же сборчатой длинной юбке женщина, незнакомая, из Бобровки, может, или из Славышина, тоже теплоход поджидающая: – Жара действует. Хоть год не високосный, а влияет.
– Спасибо за разъяснение, – благодарит Антонина Николаевна. – Таких, с нездоровой психикой, в специальных лечебных учреждениях следует держать. Извините, должна уйти – ребенок ждет.
Женщина оторопело смотрит вслед черным чулкам Антонины Николаевны, всплескивает руками:
– В лечебницу, ишь ты! Рассудила, вострая. Псих, а! У мово мужика одной ноги нет, тоже с войны псих?! И его от живых людей в лечебницу? И глаз стеклянный у него. Во, рассудила …мокрохвостая!
Были катера, и «Прогресс» ждал предписанные ему полчаса, – мутные брызги за кормой, устоявшаяся потная духота, пассажиры, билеты… Они лезли в окошко кассы, влажные руки, совались к его лицу с мятыми рублевками, тусклыми монетами; руки эти пахли землей, простоквашей, навозом, лекарствами, железом, бензином… И день тянулся с раздражающей неспешностью.
Перед обедом приткнулась к дебаркадеру зеленая моторка инспектора рыбнадзора.
Он был один. Без рубахи: белая майка резко вписана в коричневое мускулистое тело; из лодки кивнул Глебу, достал папиросы, выкурил одну, лишь тогда поднялся на палубу. Впервые бросилось Глебу в глаза, что немалая разница возраста у них, не так уж и молод Спартак. Твердые глаза его в припухлых морщинистых окружьях, а там, где нет еще на лице морщин, завтра прорежутся, это видно, и темный ершик волос мысками отступил к затылку.
Оба молчали. Глеб даже малость в сторону отступил, навалился на перила, – в маревой дымке дрожал противоположный берег, и эту дымку мелко прошивали золотые иголки.
– Расширяют, – разжал губы Спартак; закурил по новой. – Дают мне единицу. Младшего инспектора. Согласен ко мне, Глеб?.. Не отвечаешь? Обижаешься, значит. Отставим тогда разговор. Мои у тебя? Пошел к ним.
Наверху он пробыл недолго; к дебаркадеру подчалил рейсовый № 17, спустились они гуськом: Спартак, Антонина Николаевна, Фидель.
Антонина Николаевна прятала покрасневший утиный нос в платочек, сморкалась; уже с борта семнадцатого она протянула Спартаку руку – без нежностей прощались; а Фиделя Спартак потрепал за короткие волосы и тут же подтолкнул к матери… Без гудка № 17 побежал дальше.
– Шалит кто-то у Третьей Огневки, Глеб. Милицию на сегодняшнюю ночь пригласил. Дачников видели у тех мест… Вот и своих назад, в город, отправил…
(«Из-за этого – ха! – отправил. Молчал бы, Феклушкин!..»)
– Поедем, Глеб, ко мне. Поможешь.
– Нет. («Кончилось, Феклушкин!..»)
Спартак прыгнул в лодку.
– Люда очень просила, чтоб ты был. Поговорили б втроем… Очень просила, чтоб был.
(«Вот так бы раньше, Феклушкин. А то – дачники, милиция, шалят… Своих из-за этого завернул…»)
– Спасибо, Феклушкин, не до вас.
– Вольному воля.
(«Очень просила… Как жить, Хлебушек, думаешь?! Отдать бы ее тетрадку и шмотки – пусть увез бы…»)
– Вот молодец, Потапыч! Побрился, рубашка чистая. Вышел из разноса?
– Я совсем, Глеба, вышел.
– Темно говоришь.
– Последнюю четвертинку принеси. Вместе выпьем.
– Не надо.
– Неси. Завтра уже не выпью.
– Честно?
– Не выпью, Глеба.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Теплая, Потапыч. Не могу. Да и ты б поменьше…
– Вспомнил вот к чему-то, перед матерью твоей, покойницей, виноват. Глупой был, в парнях еще, два раза, чтоб опозорить, ворота у ей дегтем мазал. А после брат мой, Борис, отец твой, на ней женился. А ведь ни про что мазал – из озорства, из зависти…
И продолжение дня – в тяжести перегретого воздуха, перегретой воды, в дурманных запахах высыхающей полыни, лебеды, репейников; а солнце ниже – слабее позолота на куполе реставрированного собора.
…Мир распух от тайн.
Тайны брызгаются стронцием, взрываются проклятьями безногого Тимоши. Тайны – в Потапыче, они просвечивают сквозь его безумные, залитые водкой глаза.
И надо устоять.
И та волнующая, желанная тайна, которую не нужно разгадывать, а нужно беречь, – женщина. Ну да, девушка, женщина.
Она вот-вот приедет на попутной. От тетки.
«– Любишь?
– Зачем об этом, Глеб?
– А слезы у тебя зачем?
– От радости если…
– А радость отчего?..»
…Даже про себя смеяться хочется, – хорошо, что она вот-вот, на попутной, совсем скоро приедет.
– Да ты пьян, Потапыч?! Успел.
– Побудь со мной.
– А я с дебаркадера, Потапыч, уйду. И дом мне новый ни к чему.
– Я человек старый, Глеба.
– Что ж из того?
– Нам трудней жилось.
– Слышал…
– Чего ты слышал!
– Потапыч, плачешь?
– Ох, Глеба, Глеба, знал бы, какой я человек и какую справедливость завсегда блюл, какой я – вот тебе не нужен такой, тебе!
– Потапыч, ну что ты… Помер, что ли, кто – плакать-то! Бросишь ты у меня буфет, Потапыч, и водку я тебе пить не дам, Потапыч… Ну что ты, ну!
– Беги, Глеба, беги. Не остановлю… плевать!
– Куда бежать-то?
– Беги, говорю… Я поначалу тоже бегом, Глеба, по жизни-то, я по призыву, а когда и сам бежал… Легко было, вольно, народ кругом шустрый, сам весел… Беги, пока бежится…
Наползла черная-пречерная туча; она на какое-то время застлала все небо; Глеб даже затосковал, что ружья под рукой нет (а лучше б армейский карабин!), – ударить бы по туче, продырявить ее, и хлынет тогда сквозь дырки лучистый свет или дождь.
А то, как затмение, туча.
Но она, не погасив духоты, проползла все же мимо и где-то далеко, за лесом, разломилась от дождя.
Он не находил себе места: от Потапыча ушел на палубу, стоял здесь, вглядывался в темнеющую даль и ничего не видел. Будто гигантская карусель, убыстряющая свой бег, крутилась перед ним: проносились в стремительном вихре знакомые лица (Татьянка… Люда… Тимоша… Спартак… Потапыч…), и он на мгновение ловил чьи-то глаза, обращенные к нему, слышал слова или обрывки фраз, и все летело, летело, мешалось и путалось, ничего нельзя было остановить, ничего не подчинялось ему, и сам он, захваченный этим вихрем, чувствовал тошнотворное кружение в голове, не мог сосредоточиться на чем-то одном. И когда у дебаркадера на воде снова возникла знакомая моторная лодка и Спартак из нее возник – прыгнул на палубу, к нему, – Глеб, еще пребывая во власти своей непонятной отрешенности, растерянно улыбнулся, шагнул навстречу.
Правда, минутой позже он уже мысленно выругал себя за приветливую поспешность, выказанную перед Спартаком, но тот, кажется, не обратил на нее внимания, был озабоченным, хмурился.
– Что скажешь, инспектор?
– Ничего толкового, Глеб. Проезжал мимо, опять вспомнил про тебя – как не заглянуть!
– Заглядывал же сегодня…
– Не рад?
(«А что же Люда – на острове у него?..»)
– Ты не обижайся на меня, Глеб.
– Куда нам, пестреньким…
– Я серьезно. А это – сгоряча это было приклеено. И Люда переубедила, и сам вижу: в тебе есть основа, Глеб.
– Спасибо, уважил. Уважили… оба.
– Я серьезно. Вот ведь был только – и опять к тебе. Цени! К пустому месту не причалил бы… Повторно-то!
– Тебе нравится Люда?
Спартак внимательно посмотрел на него, словно желая убедиться, что сам вопрос честен, нет в нем подвоха, что задан он не зазря, ответил:
– Да.
И Глебу – странное дело – стало легче от этого негромкого и, конечно, искреннего «да»; вроде бы этим «да» Спартак признавался, что он тоже душевно мается, встревожен, одинок в своих раздумьях, что в этой жизни и нельзя иначе: покой нам только снится… Он внезапно п о в е р и л в Спартака как в себя, вместе с этой верой утрачивая ощущение одиночества.
Ему захотелось что-нибудь сказать Спартаку – такое, что укрепило бы их обозначивающуюся о д и н а к о в о с т ь, их близость, но ничего не нашлось, кроме – опять же – вопроса:
– На острове… она?
Спартак пожал плечами, что можно было понять по-разному: «Где же еще ей быть?» и «Не знаю!» Заговорил жестко и усмехаясь:
– Сейчас встретил на пути буксир, на нем механик знакомый, с редкой, между прочим, фамилией – Мордухай… Так вот, крикнул я Мордухаю, чтоб моей жене, Антонине Николаевне моей, передал: пусть приезжает на остров. Отправил в обед, а теперь – пусть приезжает!.. Закурить есть? Мои подмокли, не тянутся…
Сломал две спички, пока наконец зажег третью, взял Глеба за плечо, сжимал его железной рукой; Глеб, поморщившись, тряхнул занемевшим плечом, спросил:
– Зачем же Антонину Николаевну на остров, а?
– Лгать, Глеб, противно для мужчины. Сразу – точки над «и»!
– А что ты ей скажешь?
Спартак промолчал.
– Поедем все-таки на остров?
– Не могу, Спартак.
– Жаль. И Люда просила тебя привезти… Очень… Что вообще-то делать думаешь?
– Жить. Равняться буду на таких, как ты. В газетах пишут: равнение на маяки!
– Знаешь, в тридцать лет, по-моему, мы уже так должны быть мудры, чтобы понимать: наши отцы нисколько не умнее нас. Пора, Глеб. За нас, Глеб, никто ничего не сделает. Сами!.. Ответственность тревожит. Отцам за все спасибо, а делать нам…
– К чему ты?
– Будь здоров, думай…
– Бывай!
– Ну-ка я свет включу, Потапыч.
– Не включай! Ну!! Кому сказано!
– Зачем же кричать? Сиди, если хочешь, в темноте.
– Который, Глеба, час?
– Без семи… да, без семи одиннадцать. Я Татьянку жду. Что-то припозднилась.
– Бегаешь ты, вертишься – посидел бы со мной. Я вот тебе сейчас расскажу… Хочешь? О чем? Есть о чем. Только сядь. Рука-то у тебя какая горячая – что значит кровь молодая! А я мерзну. Во как! Сиди, сиди… Вот выпью наперсточек и расскажу. Я хочу рассказать. А пью, Глеба, наперстком, видишь?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– …Стучит ктой-то? А?!
– Почудилось тебе, Потапыч.
– За дверью посмотри…
– Видишь… Почудилось. Дальше что?..
– …А немцы – моторизованные части, танки – обошли уже. Получаются клещи. Вот нашему комендантскому взводу и был даден приказ – задерживать рассеянные после боя группы, одиночных бойцов, чтобы направлять в определенное, указанное место… Они, солдатики наши, родимые, идут, идут, раненые которые, целые, с оружьем, без оружья, – мы их в осиннике, на болоте, скапливаем. Командовал нами не взводный, а капитан из штаба полка. Верховский по фамилии, кубанский казак… Погиб он на второй ли, третий день – из окружения выбирались, от мины… Но тогда – скапливаем, значит. А немцы в ту пору, передовые части, такую тактику пользовали: смяли, к примеру, оборону и катят дальше, с ходу, не обращая внимания, что за спиною у них остается. Второму своему эшелону доделывать давали – пленных брать, раненых добивать, трофеи подсчитывать… Сорок первый год… А как рассказывать-то сейчас, Глеба?! Ребята какие наши, отчаянные, красивые, преданные – солдаты русские – полегли там…
– Травишь себя, вижу, Потапыч. Не надо. Завтра…
– …Молодые ребята, твоего, прикинуть, возраста. Комсомольцы. И я молодой, Глеба, был. Включи свет… Слушай меня, старика. Я на войне не сдался, а вот опосля сдвинулось что-то, устал я, отдохнуть захотел, поначалу понравилось даже… и пробежали мимо годочки! Катятся, Глеба, катятся – под бугорок, к сырой яме… Отдыхаю я, голова ленивая у меня, тело ленивое…
…Последний катер на сегодня – провожает его Глеб; островком света поплыл этот катер, и заигранный голос с пластинки доносил к берегам, стихшему лесу, уснувшей траве старую песню:
В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты…
…где сидишь ты…
…где сидишь ты…
…– Зачем мне, Глеба, спать? Усну!.. А что говорю – терпи. Надо тебе слушать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– …Вот бойцы боевого охранения приводят этих двоих, докладывают: задержаны ввиду ихней подозрительности. Обличьем они, правда, были не совсем: тот, что постарше, чернявый и в очках, был в солдатской шинели без хлястика, стриженый, под шинелью вроде спецодежды что-то, и главное – револьвер при ём. А второй – уграстенький, помню, лицом, с изувеченной, без пальцев, рукой – тоже одетый вроде в комбинезон… «Кто такие? – спрашивает капитан Верховский. – Почему с оружием? Документы где? И вообще что за люди?» Серьезно спрашивает капитан Верховский: нервность в голосе, губы раскровенены – прикусывает их, оттого что в сон его клонит и третьи сутки немцы заснуть не дают. Тот, что в очках, отвечает: рады, дескать, что на вас вышли, а револьвер подобран нами для самообороны, так как опасались столкнуться с немцами. «Кто такие?..» Эх, Глеба…
– Слушаю я.
– …Мнется тот очкастый, Глеба, улыбнулся невесело, как сейчас вижу, и признался: из тюрьмы. В пересыльной тюрьме, рассказывает, они были, и с налету немцы разбомбили тюрьму, появились неожиданно, и кто успел, дескать, побежали куда глаза глядят, потому что никто о них уже не заботился, и шли они лесами двое суток, и пришли… «Статья? – спрашивает капитан Верховский. – Состав преступления?» Снял очки чернявый, протирает пальцами стекло: нажал, что ли, сильно – выпало одно стеклышко из оправы. Наклонился, ищет в траве и так, с наклонного положения, неохотно отвечает: «По пятьдесят восьмой…» – «Точнее!» Выпрямился тот, окончательно разъясняет… Помнится, называлась статья – пятьдесят восьмая семь восемь одиннадцать… А то и путаю…
– Чего ж замолчал. Дальше…
– «…Враги народа, значит», – сказал капитан Верховский, и нехорошим голосом это было сказано. «По недоразумению, товарищ капитан», – вставил свое другой, что в угрях, с культяпой рукой… Увел капитан их в палатку – для допросу… Закурить дай. Вот… Увел он, а тут, полчаса этому иль меньше, стрельба вблизи, крики: «Танки немецкие, танки!..» Выскочил капитан Верховский из палатки, отдает приказание занимать оборону, занимать в болоте, где танкам в случае чего не пройти, меня к себе подзывает: «Старшина, возьмите двух бойцов, уведите… этих. Живо!» Еще успел сказать: «Шли на сближение с врагом. Опасные, старшина, подлюги…» Взял я сержанта Мухина, ленинградский он был, узбека еще одного да караульного, что капитаном был приставлен к ним…
– Дальше. Ну ты, Потапыч!
– …Тот, что с изувеченной рукой, идти не мог, плакал, падал… В очках – он поддерживал. «Встань», – говорил. И еще говорил: «Зря вы, товарищи, невиновные мы… Я, – говорил, – с фашистами в Испании воевал…» Узбек хотел его прикладом стукнуть, да Мухин не дозволил. «Потерпи, – остановил, – хоть и Кирова они, гады, убили…» Кирова тогда Мухин вспомнил…
– Расстреляли?!
– Я лично не стрелял, Глеба.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Включи свет. Свет, Глеба…
В слабом свете малосильной электрической лампочки опухшее лицо Потапыча мертво, недвижно, по-сонному отрешенно; лишь толстые пальцы с желтыми раздавленными ногтями, окаймленными чернотой, тихо ползают по столу. Они двигают к замершему Глебу газету недавнего числа – газету, чем-то залитую, но уже с подсохшими буроватыми пятнами. Внизу страницы темный прямоугольник портрета: человек в очках, с мягкой и одновременно хитроватой улыбкой. Вокруг портрета, теснясь, вырываются строчки:
«МНОГО НАПЕЧАТАННЫХ РАБОТ – КНИГ, СТАТЕЙ, ОЧЕРКОВ, ФЕЛЬЕТОНОВ – ПРИНАДЛЕЖИТ ЕГО ПЕРУ… ПАРТИЯ НАПРАВЛЯЛА НА ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА… СРАЖАЛСЯ В ИСПАНИИ В РЯДАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ… В 1937 ГОДУ БЫЛ АРЕСТОВАН ПО КЛЕВЕТНИЧЕСКОМУ ОБВИНЕНИЮ… НАВСЕГДА В ПАМЯТИ НАРОДА…»
– Не он, может, Потапыч?!
– Он… как получил газету… он.
Читает Глеб:
«…МНОГО НАПРАВЛЯЛА… В ИСПАНИИ… В 1937 ГОДУ АРЕСТОВАН… В ПАМЯТИ…»
– Глеба, смотри, палец распух у меня. Ноготь врос в мясо, Глеба, смотри… Болит, а я думаю, а это ноготь… Ты в меня смотришь, – нет, нет, палец вот…
С грохотом падает в тишину опрокинутая пустая бутылка.







