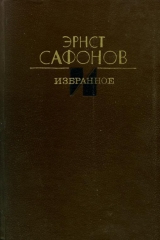
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
– Это ж, Степан Иваныч, древовидный папоротник. Уникум в своем роде. А вот то, угадываете, разумеется… ну что это, по-вашему, что? Да бамбук же, бамбук! А здесь, сюда, сюда, пожалуйста… мой любимец – бархат амурский. Пора его из кадочки высаживать. На волю, на волю! И это… примечаете, Степан Иваныч, вроде б знакомое вам, а приглядеться – не-ет, чужое. Не нашего, как говорится, поля ягодка. Бегония!
– Вижу, вижу, – степенно, с достоинством, как генерал на смотру, ронял Степан. И рябило в его глазах от такого количества прущей из кадок, ведер и тазов с землей зелени, и уже пришедшая было в ясность голова туманилась влажноватой духотой зимнего сада, как называл свои веранды живенький, суетливый учитель, не знающий, видно, никакого угомона.
– Вот еще, вот, обратите, Степан Иваныч, внимание, цветущий кактус, – восхищенно пел свою песню Евстигней Евгеньич, и на бритом его розовом лице росисто посверкивали бисеринки нота, он потирал ладони и смеялся.
Но когда подошли к какому-то кривому узловатому дереву с тугими лакированными листочками, Евстигней Евгеньевич вздохнул, развел руками:
– А тут, увы, и сказать мне вам нечего…
– Бывает хуже, – пробормотал Степан. – Поливайте чаще.
– Загниет.
– И это случается. Но плепорция… она покажет. А так нельзя… Наша штука тонкая. Чуть чего – не смей! Ухо востро держи.
– Ваш-то, видите, на улице выдерживает, плодоносит, а этот в тепле, трясусь над ним, а толку?
«Так эт у него лимонное дерево!» – догадался Степан и выдохнул облегченно, заторопился в словах:
– Ну, если как по науке… по-статейному вроде б как… в «Сельской жизни» писали, да! Што тут в наличности? Как я говорил? Сахар – вот! Пичкай его сахаром – со сладкого пойдет, со сладкого, брат, никто еще не помирал. Растворчик под коренья – выправится! Такая прилюдия, токмо так!.. А через полгода заеду – лимоны-апельсины, как клюква, висеть будут. Собирай – не ленись!
Учитель качал головой, но верить ему хотелось – в мыслях видел, наверное, свое дерево преображенным; и Степан, не давая ему опомниться, повел речь о том, что на своих лимонах он давно уже настаивает водочку, для праздников, конечно, для хороших людей, когда в гости придут иль просто так заглянут, – отменная получается настойка, удвоенной крепости и приятного запаха, как после одеколона! Спросил, будто б между прочим, не пробовал ли учитель настаивать на чем: на кактусовых листьях, к примеру, ведь вон какие они, нажми – сок брызнет, и обязательно чего-нибудь получится, если их к такому делу приспособить, но, понятно, колючки надо состригать, с колючек польза, как с репьев на собачьем хвосту…
Однако Евстигней Евгеньич, глубоко задумавшись над чем-то своим, ничего не понимал, и Степан, не сбиваясь с темы, опять терпеливо и увлеченно говорил ему, кто и как из его знакомых приноровился делать настойки, какой вкус самогону придает обыкновенный смородиновый лист… Учитель пожал плечами и сказал, что он всю свою жизнь против всякого спиртного и против табака, пить и курить, он считает, здоровью вредить и поэтому ничего определенного о способах изготовления настоек ему не известно. Пригласил посидеть за чаем, но Степан, неожиданно вспомнив, что его теперь заждался бригадир – «…без меня лошадь не запряжет, рапортичку о проделанной работе не составит…», – заторопился уходить, потряс своей рукой легкую стариковскую руку учителя, взвалил рюкзак со стиральным порошком на горб и прямиком, через поле, а потом лесом, затрусил домой.
Было все ж отрадно на душе – оттого, что состоялось знакомство с таким вот, не как все, человеком…
А потом, через неделю – осенние дни продолжали быть пригожими, ясными, без дождей, – учитель Сливицкий прикатил в Прогалино.
Степан как раз, отзавтракав, выходил из дома – и на тебе: к калитке подъезжает велосипедист в белой распахнутой куртке, таком же белом пиджаке под ней, белом картузе и кожаных перчатках. Он, Евстигней Евгеньевич Сливицкий!
Ух ты, поповский сын! Степан с испугу отпрянул, посунулся было обратно в дверь, да учитель уже зацепил его глазами, вежливо в свой велосипедный звоночек звякнул, картуз, здороваясь, приподнял: никуда не денешься… И Степан, изобразив на лице великую радость и неутешную скорбь, все вместе, закричал, сбегая с крылечка:
– Это кто ж?! Евстигней Генич! Ой, ай! И в какой день, едрит твою… Не наплачешься. Убит я, Евстигней Генич, зарезан тупым ножом!
– Что такое, Степан Иваныч, что случилось? – изумленно, оробев даже, спросил учитель.
И, размахивая своей рукой перед носом Евстигнея Евгеньича, Степан с жаром, со слезой стал рассказывать, как вчера вечером, когда он сам был в отъезде, а Мария дежурила на ферме, в палисадник ворвались соседские свиньи, каждая на десять пудов весу, разбойно подкопали они лимонное дерево, и мало того – сгрызли начисто его корень… Вот такая непоправимая беда: хоть соседа вместе с его свиньями к стенке ставь, хоть сам стреляйся!
Ухватив учителя за белый рукав, Степан сгоряча потащил его в палисадник. Нужной, удобной для подтверждения случившегося ямки, как на грех, не попадалось, земля всюду была слежавшаяся, сухая, – Степан, в момент облившись потом, кидался от одного места к другому, суетился, что-то кричал, доказывал, но учитель, не промолвив ни слова, пошел к своему велосипеду и, не прощаясь, покатил прочь.
Степан, спрятавшись за сараем, видел, как на выезде из Прогалина учитель остановился для разговора с Тимохой Ноздриным, о чем-то долго оба говорили, и Тимоха Кила, поглядывая в сторону его, Степановой, избы, вдруг стал смеяться, хватаясь за живот, приседая, так ему, черту старому, весело было. А другой, непьющий, некурящий, выряженный в белое, при черных перчатках, что собрался, видать, еще сто лет жить… этот все руками разводил… Спелись!
Степан, прижавшись щекой к прохладной стенке сарая, унимал слезы, вдруг выбрызнувшие из глаз; подумал про Тимоху Килу: «Нет человека ненадежнее, чем он, – дорого не возьмет, с головой выдаст…»
Утерся, сплюнул, пробормотал: «Пущай», – а больно было.
4
Когда утром провожали молодых из своего дома в город, а в общем-то, в Африку, так как Виталий и Тоня улетали к неграм через два дня, Степан оставался задумчивым, и стоило ему сказать слово-другое зятю – что-то заискивающее пробивалось в его голосе. Но Виталий, кажется, этого не замечал – лицо у него было кислое, обиженное на весь белый свет: мучился желудком. То и дело бегал во двор, подолгу находился там, а возвращаясь, страдальчески-зло говорил:
– Это с блинов.
В другой раз:
– Зачем я сало ел? От этой дряни, от сала…
Снова:
– Нет, грибы. Разве можно было – такие грибы?! Идиот я.
У Марии от этих слов щеки бледнели, губы тряслись: вот как, выходит, зятька милого накормила-напотчевала… И Тоня сердито глазами зыркала, разок-другой прикрикнула даже.
– Куда, маманя, ты ему простоквашу предлагаешь… совсем чтоб, да? Чай завари крепкий. Ой, да не так. По-людски надо. Дай я сама!
Когда Виталий в очередной раз метнулся из двери, Тоня заплакала:
– Еще в Африку отменят нам. За что такое, объясните…
Степан предложил Виталию выпить граммов по сто-полтораста – для спиртовой промывки всех внутренних путей, но зять, отказываясь, лишь вяло махнул рукой; и сидел на лавке сычом, прижав локти к животу, поглядывая в окно: должен был подъехать на газике Витюня Ноздрин, обещал подбросить до Тарасовки.
Но мало-помалу Виталий отошел, оживел, и лишь только спало напряжение с его лица – всем тоже стало легче. Возобновился разговор. Тоня, тоже повеселев, принялась рассказывать, какие за границей условия будут им созданы и про всякое прочее в этом духе. Про природу сказала, про животный мир. Виталий, усмехнувшись, тут же заметил, что всяких там птиц и зверей, пальмы да лианы – их можно посмотреть в натуре в Московском зоопарке и летом, во время отпуска, в любом известном ботаническом саду, а специалистов, отрывая от основных занятий на родине, посылают за рубеж не природой любоваться: все равно там лучше наших берез не увидишь. Просто надо сознавать свою ответственность, доверие, что тебе оказано… Как, впрочем, везде. Вот его, например, посылают, а другого инженера, как ни хотел тот поехать, как ни рвался, не утвердили. Тот, может, больше любитель природы, он не спорит, но но деловым качествам – тут уж извини-подвинься!..
– У нас тоже по путевкам ездили на пароходе в Италию прошлым годом, – вспомнил Степан. – Полина Сороковкина, доярка, ишо завхоз Данилыч, Куприянов, и два передовых комбайнера, Витухин, Герой Труда, Золотую Звезду имеет, да Колька Кошечкин…
– По путевкам – это другое, это пожалуйста, – отозвался, зевая, Виталий. – Такое время сейчас – свободная продажа туристических путевок.
– Ну да, пожалуйста! – весело засмеялась Тоня. – Это кого колхоз послал? А папаньку нашего – пошлют его? Как, папаня, поехал бы в Италию? Попросись! Не теряйся!
– А что смеешьси? – вдруг резко оборвала дочь Мария и ниже нагнулась над кухонным столом, за которым перетирала ложки и вилки. – Твой отец чем хуже других? Руку на войне оставил, орденом там награжден, чужой хлеб не ест, всегда свой, заработанный… Чего смеяться?
Видя, как Тоня вспыхнула, глаза у нее жалко и потерянно забегали, Степан быстро, легким голосом сказал:
– О чем вы, бабы! Мне иностранную заграницу война вдоволь показала. Там домов каменных много, а так люди живут… на тех же ногах! Шляпы снимали: «Здрасьте!»
– А ты что, маманя, – оскорбленно произнесла Тоня, – сама же его ругаешь – в рюмку смотрит…
– Ладно, – вздохнула Мария, – Пьет – ругаю. Все-таки позавтракаем?.. Не знаю, правду, чего можно, чего нельзя. Самое легонькое, самое простенькое, а, Виталий? Вишь, уморила я тебя, зятька любимого…
– Мы в Тарасовке покушаем, – неуверенно сказала Тоня.
– У сватьи – эт не возражаем, а у нас тож надо, – пошел в поддержку жены Степан. – Это ж никак невероятно – от пустого стола уезжать. Да вы што – некрещеные, уже по-африкански настроены? Там, в Африке, поди, с лимонов завтрак начинают, а мы тож найдем с чего!..
Тут под окном затарахтел автомобильный мотор – Виктор Тимофеевич подъехал, вошел в избу, поздоровался, подсел к столу, и уж само собой все диктовалось: расстанную бутылочку на стол, стаканчики, тарелки с закуской.
– Вот, Виктор Тимофеевич, – вскричал Степан, когда по первой выпили, – вот, кипит-т твое молоко, извиняюсь, конешно… не обойдется, как видишь, Африка без нашего Виталия Григорьевича, пропадет, потому зовут!
– Ну, – рассеянно промычал агроном, прожевывая кусок яичницы.
Минутную тишину остро резанул раздраженный голос Виталия:
– Это что, опять своего рода провокация – насмехаться надо мной?
– Да разви… да ты што, Виталий? – испугался Степан.
– Шутка ж, юмор, – обронил Витюня Ноздрин, ковыряясь вилкой в тарелке. Почесал за ухом, взглянул на Виталия с любопытством: – Нервишки, что ль? Пошутил старый…
– Пошутил! Пошутил старый, – убито подхватил Степан. – Я чего? Не всякого пошлют!
Мария, лицо которой полыхало красным, утайкой, чтоб лишь Степан увидел, крутанула пальцем у виска, губы в досаде поджала: ну и дурак ты, муженек, ой и дурак! Опять из-за поганого языка твоего позор, канитель… Провалиться б!
– Насмехаться не наука, – так же раздраженно, раздувая крылья сухого носа, сказал Виталий. – Каждый может и, между прочим, над каждым можно. Или вы, Степан Иваныч, не боитесь за себя? Не боитесь ответного шага со стороны того, над кем сами не в первый раз насмехаетесь?
– Брось, – недовольно пробурчал Витюня Ноздрин, – на ком ищешь? Я свидетель – тут без умысла…
– Не знаешь, – обрезал его Виталий. – Но я молчу. Прошу меня извинить.
– Виталий, зятек, – молил Степан, – вот те крест… завсегда с уважением, дети вы, а мы родители… зачем обижаться?
– Он уже не обижается, он молчит, – сказал Витюня, покосившись туда, где за ситцевой занавеской хлюпала носом Тоня, что-то плачуще шептала матери, а та ее уговаривала. – Давай дербулызнем по чарочке, за мировую, чтоб в дорогу – с легкой душой. Народ мы весь издерганный, спрашивают с нас, отвечаем… чего за столом-то дергаться?!
– Истинно так, Виктор Тимофеевич, – поддакивал Степан. – Бабы, где вы там! Сюда!
Витюня, хмуроватый, как всегда, видом невыспавшийся, был в мятом пиджаке и порыжелых сапогах; ерошил ладонью редкие, слипшиеся косичками волосы и, чтоб, наверное, разрядить обстановку, стал рассказывать анекдоты. Степан половины из услышанного, из всяких там намеков и недосказок не понимал, да и настроение не то было – анекдотами забавляться. «Ах, черт, – думал он, – зараза подколодная, что за прелюдия, в самом деле? Это ж никакого слова не скажи, это ж никак не угодишь, пальцем в нужную точку не попадешь… Где уж тут о чем-то просить!..»
А попросить зятя намерен был.
Всю ночь без сна считай, промучился – и мысль окончательно созрела в нем: п о п р о б о в а т ь. Тем более случай такой, не у всякого бывает: свои едут на африканскую землю, жить там будут… Не через третьи – десятые руки!..
И когда наступил прощальный момент – на улицу, к машине, вышли, Тоня, заревев, кинулась матери на грудь, а Витюня, приподняв капот, что-то стал проверять в моторе, – Степан, покашляв в ладонь, стеснительно сказал Виталию:
– Ты, Виталий, это… вчера говорили – там, в Африке, хлебное дерево растет. Баобаб. Вишь, как прозывается…
– Это всем известно.
Зять смотрел поверх его головы – на верхушку тополя, усаженную грачиными гнездами.
– Так вот это… растет оно. Поедешь в отпуск – привези мне семя этого дерева. Зернышко от плода. Дичок, конешно, не позволют, а семечко, зернышко…
Черные брови зятя поползли вверх, треугольником сделались.
– Вы что, Степан Иваныч?!
– Ты, Виталий, не пугайся. Это ж так, забава, интерес, короче. Угоди. Зернышко!
Подбежала Тоня – прощаться.
Виталий пожал плечами, усмехнулся и, садясь в машину, сказал Степану:
– Как дети, право. Ну что ж, если такое выполнимо, не навлечет… я привезу вам. А вообще-то – с ума сойти!.. До свидания.
Степан и Мария смотрели вслед запыленному газику, пока он был виден, не влетел на лесную дорогу, и Мария, вытирая концом платка глаза, задумчиво произнесла:
– Ты у меня дурной, но тебя прощать можно. А вот как нашей Тоньке живется… Она еще глупа, не понимает, как ей живется…
– Обтерпятся, – жалея Марию, ответил Степан. – А как он мне-то – слыхала: «Не боишься ответного шага со стороны…» Что я – агрессор?
– Потому, говорю, дурной ты! Тьфу… Язык у тебя как помело. Тьфу… Не напоминай лучше! Скалкой бы тебя по горбу. И чего я за такого замуж выходила? Золото какое подобрала!..
5
Дочка с зятем приехали в отпуск ровно через год, в такую же пору: опять колхоз сеял, было весеннее время подсыхающей земли, первых зеленых листочков на деревьях, и голубое небо лежало на лугах веселыми осколками – отражалось в лужах и озерцах.
При такой дневной красоте особенно ярко и празднично смотрелся темно-вишневый «Москвич», поставленный Виталием на лужайке, невдалеке от колодца, – Степан, подгоняя Орлика, издали его приметил, еще с бугра, версты за две. Что молодые нагрянули в гости на собственной машине – он узнал на аэродроме, где руководил погрузкой химикатов на двукрылые «кукурузники» сельхозавиации, с которых эти удобрения распылялись по полям трех колхозов. Для временного аэродрома – чтоб было где самолетам разбегаться и чтоб машины сюда могли подъезжать – нашли ровную, с устойчивой в ненастье поверхностью площадку на краю леса, между Тарасовкой и Прогалином, и Степан был приставлен сюда за главного – смотрителем, учетчиком и сторожем. «С чрезвычайными полномочиями», – как, посмеиваясь, определил Виктор Тимофеевич Ноздрин. Он-то и сказал Степану, что у того в доме гости, и согласился побыть на аэродроме, на заправке самолетов «химией» часа полтора-два, пока Степан смотается повидаться.
Степан – как с мельницы – был обсыпан белым мучнистым порошком, от которого зудела кожа, слезились глаза. Девки и бабы, что загружали «кукурузники» удобрениями, работали в защитных очках, туго обвязывали лицо, щеки косынками, платками, в несколько раз сложенной марлей, но Степан презирал это – защищать рот и ноздри от едкого химического воздействия. Ну вдохнул лишку, ну запершило – иль не прочихаешься?! Он отважно нырял в густую селитровую завесу, покрикивал на женщин и, выскакивая оттуда, отплевывался, поправлял сползавшую на переносицу старую форменную фуражку с золотистой эмблемой ГВФ. Фуражку подарил самый молодой летчик по имени Эдик. «Носи, батя, – сказал он, – ты теперь наш наземный командир, а как же комсоставу без фуражки? Авиация расхлябанности не терпит!»
В этой фуражке, белый, словно мельник, он и предстал перед Виталием и Тоней; и дочь, изогнувшись мягким тяжелым телом, чтоб не запачкаться, поцеловала его в щеку, а зять, затянутый в синий спортивный костюм с красным окаймлением, крепко пожал ему руку – с веселыми словами при этом:
– Пешком на самолете – так?
– А вы, гля, на фактических колесах, – в тон ему, радостно, отозвался Степан. – Министры, кипит-т ваше молоко!
Остановились молодые, как всегда, в Тарасовке, у матери Виталия, и лишь переночевали – сразу же сюда, в Прогалино.
– Мы там, а каждый день – сели и в минуту у вас. Своя машина! Не пехом, не просить кого-то, – возбужденно говорила Тоня. – Своя и вон какая…
Виталий, деланно позевывая, тоже нет-нет да бросал взгляды в окно на темно-вишневую красавицу, и сердцем чувствовалось, был не за столом – там, возле нее. Третий день всего, как куплена – самое начало автомобильного медового месяца в его жизни. Долго ждал – дождался!
И когда были рассмотрены привезенные подарки (Степан получил рубашку и легкие, плетеные, как лапти, сандалии из заграничного кожзаменителя на пробковой подошве), когда посидели-поговорили – Виталий ушел к «Москвичу». Степану тоже, хоть вопросов у него было много, послушал бы он Тоню, как живут африканцы в Африке, требовалось возвращаться на рабочий пост. В воздухе висел отдаленный, по-комариному тонкий и надсадный гул летающих «кукурузников» – они звали его к себе, да и Виктор Тимофеевич, поди, там, на летном поле, затомился на чужой должности – у него своих агрономических дел по горло… Степан, улучив момент, незаметно от Марии сунул недопитую бутылочку под пиджак, выбрался из-за стола.
На улице, с удовольствием вдохнув в легкие влажноватого весеннего воздуха, особенно ощутимого после избяного сидения, он направился к Виталию, драившему лакированные бока «Москвича» сухой ветошью.
– До дыр не протрешь?
– Автомобиль любит чистоту.
– Эт не спорю. Закурим?
– Я бросил.
– Курить-то? На машину, знать, Виталий, экономил?
– Сразу, однако, подозрение в скупости, жадности…
– Какое подозренье! Курить – здоровью вредить. Молодец.
– Если сознаете, надо тоже бросать…
– Курить-то?
– Курить, курить…
– Эт правильно. Как в газете.
– Вот и бросайте.
– Дело полезное. Обсудим…
Виталий неутомимо водил тряпкой по эмалевой поверхности «Москвича», и его длинные худые руки взлетали, как мельничные крылья, на стекле и металле тускловато, будто из глубины, отраженно возникало его лицо – остроскулое, с твердо сомкнутыми, неохотно раскрывающимися губами, с коротким, на бочок чубчиком и косо подбритыми бачками. Степан разговаривал почти бездумно, потому что мысли крутились вокруг главного, о чем он, робея, никак не осмеливался спросить: привез иль нет зять семечко от баобаба? До сегодняшней неожиданной встречи он почти не вспоминал о своем заказе Виталию: тот уехал, время текло, дни складывались в недели, месяцы – надо было жить теми делами, без которых не обойтись. А чего навыдумывал… так это, как говорится, на здоровье, это, пожалуйста, думай дальше, голова не казенная, своя, за это денег с тебя не возьмут!
Но вот – ждать не ждали – Виталий объявился из тех самых африканских краев. И как же не спросить: не забыл ли, привез?! Поначалу простое любопытство возгоралось, а дал лишь волю ему – больше-глубже, и что потаенно внутри держалось – наружу полезло. А все-таки держалось, оказывается. Была в этом потаенном своя сила. Толчка, наверное, ждала… И всплыло тут же, к месту, как на неделе заезжал он в тарасовский магазин, в дверях повстречался с учителем Сливицким, поздоровался, а тот, хрыч старый, губ не разжал и, будто гусак – мимо, голову вскинув, только что не зашипел…
Топтался Степан за спиной зятя, смотрел, легкого, приятного для обоих разговора желал.
– Такая она, жизня, – сказал.
– Жизни радоваться надо, а не ругать ее, – отозвался зять.
– А я разви ругаю…
– Научились ругать, сомневаться, выпендриваться, кто я да что я… деятели! Работать не хотим, вот и выпендриваемся.
– Бывает, – на всякий случай согласился Степан. – А то вот ищо…
– Чего там «ищо»! Я вот машину купил – каждый болтик, каждую гаечку подвернуть должен был. В таком виде она что – машина? Полуфабрикат! Всё на соплях, всё кое-как… А жизнь ругаем, работой недовольны. Ты, гад, вначале сам научись работать, потом распространяйся. Куда ни ткнись – одни оглоеды. Трояки б им только сшибать! Или другое – общие слова, а знаний никаких. Всюду колхоз попер… не тот, что из деревни, мы, может, все из деревни, это другое дело… а просто колхоз! Сапогами по паркету. Без стука. Галдим, галдим – делать не хотим. Нормально это – как?
– Но машина, едрит-т ее, картинка. Зеркало! Не проловчил ты, Виталий, не ошибся. По городу проедешь – не затеряешься.
– Да ну… не у меня одного… сейчас развелось их.
– Сват Григорий рано помер. Зря. Он-то оценил бы. Хват был!
Виталий, вытирая ветошью ладони, замер на миг – спросил, нахмурившись:
– Это как понимать?
– Чего?
– Про отца моего.
– Зря помер, говорю…
– Ну? Дальше…
– Оценил бы, говорю…
– Эх, Степан Иваныч, Степан Иваныч, – с нажимом и укоризной, холодно блеснув глазами, сказал Виталий. – Жестокий, погляжу, человек вы. – И голос повысил: – Бессердечный. Что вам мой отец… Покойный уже… а вы его?! «Хват»! Он-то в отличие от некоторых умел работать… Да-да. Не спорьте. А вы – «хват»… Умно ль? Все куркулем его выставить хотите, современным кулаком – так? А он обществу дал… еще надо взвесить, кто б из нас сравнялся, сколько он за свою жизнь дал. Не перебивайте! Умейте слушать. И не много ль терпим ваших насмешечек, форменного издевательства? Как-никак… родственнички. Иль мы, как будем считать… чужие?
– Виталий, погоди ж ты…
– Едешь когда к вам – обязательно в напряжении. Чего на этот раз…
– Виталий! Да ты в сам деле… ты што?
– Ну жалею, ну сам… где б посмеяться – молчу. Уважаю. Терплю. А может, по-вашему, шизик я? Похож на шизика – да? Отец – хват, сын – придурок, над которым можно смеяться… так?
Будто ножичком ковырял Виталий в его, Степановом, нутре. Чего ж это такое: что ни скажешь – все не так! И в чем он виноват, чем обидел? А у Виталия, глянь-ка, губы посерели, трясутся, не в себе человек. Сейчас Тоня выглянет из избы, примчит сюда, к машине, – скандал, не оправдаться…
– Дак ты чего, Виталий… эт я што?.. Эт я попросту. Эт же никак невероятно! Ухватистый твой отец был, деловой, фактически если… Я без всякого, Виталий, от полноты души…
Зять, привалившись узкой спиной к «Москвичу», с обиженным видом смотрел мимо, куда-то в даль, подернутую синевой весенних испарений. Наконец хрипло вымолвил:
– Дайте закурить.
– И закури! – обрадовался Степан. – Курить – эт вроде даже как отдых. Полезно даже… Какой-то ученый, я читал, спорил со всеми, что можно курить. Лауреат, между прочим, академик.
– Не сочиняйте… И что это – «Прибой»? Уж если курите – так курили б хорошее что-нибудь. Сигареты приличные, «Беломор», на худой конец… Прирастут к дурному – и не отвыкают.
– Привычка, – заискивающе улыбался Степан.
Зять щурился, в глазах его льдинки таяли медленно; говорил он назидательно:
– У меня тоже один… подчиненный… привычки имел. Чуть что – подколоть. С издевочкой, усмешечкой. Умнее всех, дескать. Мог позволить себе, когда другие тактично молчали. Подкалывал, издевался, а однажды – бумага. Из милиции! В вытрезвитель угодил. Надрался и угодил. «Как, – спросил я его, – смеяться будем? В одиночку или всем коллективом? Давай, – сказал ему, – все вместе посмеемся, чтоб веселей. Ты теперь молчи, а мы посмеемся!»
– Когда напьемся – идиоты, – вздохнул Степан. – Тут уж над нами до мокроты в штанах обсмеешься. – Снова вздохнул, свою летную фуражку поправил; закончил неуверенно: – Все там будем.
– Где «там»?
– Эт я в том смысле: чего делить-то?
– Примиренческая философия. – Виталий брезгливо отщелкнул пальцем окурок в зеленую траву. – В тебя плюют, а ты не отворачивайся – так? А я не хам – я сам плевать, конечно, не буду. Но это еще совершенно ничего не значит, если я не плюю. Если не плюю в ответ – положение не позволяет. Культура. А что положение позволяет – тот, будь спок, от меня получит… любой получит. Будь спок!
В воздухе, тревожа Степана, гудели самолеты. Надо туда, на поле… Он снова, как всегда бывало при долгих разговорах с Виталием, ощутил, что ему отчего-то совестно, и вроде ничего плохого не произошло, а на душе тревожно и даже боязно. Хотел не хотел, но он, помимо всего, терялся перед непонятной ему, скрытой силой зятя.
– Так что, Степан Иваныч, лучше помнить мудрую народную пословицу: смеется тот, кто смеется последним… Может, прокатить на «Москвиче»? Мимо окон и дверей!
Виталий размашисто рукой повел, как бы открывая предстоящую дорогу: вон куда, вдоль деревенского порядка, к фермам, еще дальше…
– Желательно, да работа ждет.
– Летают же вот… и без вас.
– Будут летать… до поры. Однако дисциплина. Авиация расхлябанности не терпит!
– Ну еще бы, – ухмыльнулся Виталий. – Если так – не смею задерживать.
Момент вроде бы подходящий был – Степан как можно небрежнее спросил:
– Што вспомнил-то я. Ты, Виталий, как – не забыл про мой заказец?
Зять смотрел на него непонимающе.
– Ну эт, што заказывал. Баобабское зерно.
– Баобабское… Бабское! – Виталий захохотал. – Бабское – да?
– Бабское, бабское, – и Степан выдавил из себя смешок. А все в нем ждало.
– Значит, бабское-баобабское? – Зять взглядывал с веселым прищуром. – Значит, не привез ли я?..
«Цену себе набивает, – определил Степан. – Ждал, сукин сын, чтоб напомнил, чтоб снова попросил… Иль не привез?!»
– И что ж, Степан Иваныч, не остыло желание – посадить? Вижу, не остыло?
– Ды как его… эксперимент.
– Эксперимент с бабским зерном!
– Во-во.
Зять засмеялся.
И не спешил ответить: да, нет ли…
– Чтоб баобаб в огороде?
– Отчего не попробовать?
– Да-а-а…
Зять явно тянул, словно обдумывая, взвешивая: не ошибется ли, если сразу отдаст или ответит как-нибудь не так…
«Зануда», – ожесточился Степан.
– Ладно, – сказал он, – хрен с им. Не привез, так не привез… Редьку на том месте посажу. Ну я – пока! Не забывайте с Тонькой наезжать…
И повернулся, пошел прочь было. Но Виталий торопливо остановил:
– Стопам Иваныч, айн момент!
– Ну!
– Будешь сажать? Я серьезно…
– А сурьезно – через год привезешь, я посажу.
– Год ждать! Сейчас сажай. А через год я погляжу, что вырастет.
– Есть?! Добыл? Не врешь?
– Обещал – сделано.
«А нервы, стервец, помотал!» Однако радость («Привез!») была сильнее досады. Степан вожделенно смотрел, как Виталий, распахнув дверцу «Москвича», оттопырив худой, с влепившейся в него брючной материей зад, копался в багажнике подле приборной доски, том самом ящичке, который водители повсеместно зовут «бардачок». Копался – и наконец из-под всяких бумажных листочков, авторучек, другой разной мелочи вытащил и, обернувшись, протянул ему на раскрытой ладони коричневый, чуть придавленный с боков, кверху, орешек. Маленький, смахивающий на обычный русский орех, только без скорлупы, потемнее, да вот с этими, угловатинками… Степан, приняв его на свою ладонь, смотрел – и возгоралась гордость, что вот оно у него, африканское зерно, и дивился: нет непохожего на свете – все похоже!
– Он самый… тот!
– Самый-самый. – Зять, когда отдал, сразу, кажется, потерял всякий интерес к дальнейшему: зевая, полез в кабину, что-то стал там делать и лишь через какое-то время проговорил оттуда, из глубины «Москвича»:
– Вез и дрожал: застукают! Не через одну границу…
– Што – нельзя?
– Строго запрещается карантинной службой.
– Ну спасибо тебе, Виталий. Удружил. Вырастет ли?
– Мое дело привезти…
– Спасибо, спасибо, факт… А когда лучше сажать-то? В самое пекло, поди. Африка ж.
– Не знаю, не знаю… Ваша идея – вам, Степан Иваныч, до конца и развивать ее. Может, с вас новое направление в агронауке начнется, в основоположники выйдете. Роща баобабов в Прогалине! А какой-нибудь зоотехник потом обезьян здесь разведет – в гуще баобабов… Мясо-молочную породу.
Зять снова развеселился.
– Ладно, смейся, – миролюбиво отозвался Степан. – Чего не попробовать – попробуем!
Он положил орех в наполовину порожний спичечный коробок, а тот спрятал во внутренний карман пиджака.
И после, уже на летном поле, что бы ни делал – нет-нет да прикладывался рукой к груди: вот он, коробочек с орехом…
А вечером, когда все три самолета, отработавшись, мирно стояли на избитой их колесами площадке, пилоты ушли в Тарасовку, на свою квартиру, – Степан в одиночку сидел в вагончике, не зажигая фонаря, при открытой двери. Видел доверенные ему аэропланы, в сумерках низко припавшие к земле, – и были похожи они на большие усталые существа, затаившиеся в дремоте, но и сквозь нее напряженно ждущие команды к взлету. А поодаль белела россыпь химических удобрений, синие, фосфоресцирующие звездочки порой вспыхивали поверх нее; и налетавший с дороги ветерок воровато шуршал в обрывках бумажных кулей, в которых селитра была свалена под навесом. Дальше глухая стена леса, а над ней то и дело возникали багровые отсветы далекого и непонятного небесного огня.
– Жизнь есть природа, – вслух, непонятно для кого промолвил Степан, пожалев, что для своей аэродромной службы не завел собаки. С собакой было бы не так одиноко коротать ночи.
У ног его, на ящике, стояла початая поллитровка, которую он днем взял из дому. Хлеб лежал, сало кусками, но он не спешил… Он чувствовал легкость в теле, то светлое, томительное состояние души, когда все вокруг – этот весенний вечер, тревожные блики на небе, вид притихших самолетов – ему в радость и даже в удивление: живем, а день на день не похож! Вчера было одно, сегодня другое, а что завтра произойдет – никто не скажет…
Что может произойти?
Кругом непредвиденные случаи, роковые совпадения… В прошлом году зять, переломив свою гордыню, приехал в Прогалино седьмого мая. Сегодняшний день – тоже седьмое мая, и зять, временно покинув Африку, привез ему то, что он заказывал, ровно через год – день в день, тютелька в тютельку! Предзнаменование, намек судьбы? Чему быть – то будет… так?







