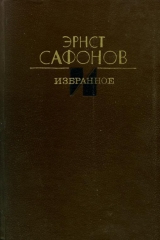
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
– Здравствуйте, – сказал Бабушкин.
Старшина, поигрывая связкой ключей, вышел из-за перегородки, приблизился вплотную, принюхался, вернее – просто понюхал его, Бабушкина, понюхал как-то обидно, словно неживой предмет.
– А, это ты, – узнал старшина.
Облизнув пересохшие губы, Бабушкин сказал:
– Я извиняюсь, конечно… тут у вас лейтенант есть, фамилии не знаю, косенький такой…
– Косеньких в другом месте искать будешь, – старшина зевнул протяжно. – Еще выпил?
– Что вы! Мне лейтенант нужен… вот фамилия, правда…
– Идем, – пригласил старшина. Добавил: – Надоели-то вы, хоть бы пенсию дождаться…
Он провел Бабушкина по коридору, впереди себя, остановились они у двери, обитой белой жестью, с зарешеченным окошком, закрытым железной ставенкой, с глазком, в который можно подсматривать, – вставил старшина ключ во внутренний замок.
– Вы не поняли меня, товарищ дежурный, – запротестовал Бабушкин, – я лейтенанта ищу…
– Утром всех лейтенантов увидишь, – устало сказал старшина. – И майор с тобой побеседует…
Он ловко, заученными жестами ощупал карманы Бабушкина, так же быстро и ловко подтолкнул его. Бабушкин опомниться не успел, как дверь захлопнулась, очутился он в камере.
– Не трепыхайся, – глухо посоветовал из коридора старшина, – хуже себе не делай. Это тебе не ресторан, артист, а КПЗ.
Бабушкин чуть не заплакал от такой ужасной несправедливости, хотел бить в дверь ногами, но одумался… А за его спиной кто-то пьяно и хрипло сказал:
– Пр-ривет!
На голых нарах, съежившись, сидел Толик, радушным жестом приглашал подойти ближе… И приятель его, Виталик, был здесь – спал, прикрыв глаза от света невыключаемой электрической лампочки вязаным колпаком с помпоном. Еще кто-то спал, постанывая, вскрикивая; густо несло от параши, поставленной в углу; на грязно-розовых стенах, исцарапанных надписями и картинками, поблескивали капельки воды.
– Курево отняли, – пожаловался Толик, – ремень сняли. Вот комедия…
Бабушкин молчал.
– На работу б не опоздать, – вздохнул Толик. – Мне к полдевятому… Как бы пятнадцать суток не обломилось… А ты, Коля, наш разговор помнишь?
– Иди ты! – сказал Бабушкин. Смиряясь, присел на нары.
Как из чужой жизни, не его собственной, а чьей-то другой, будто кто рассказывал об этом, а ему запомнилось, вдруг пришло видение: маленькая девчушка загоняет хворостиной в желтый пруд белых гусей, по краям широкой дороги краснеет рябина, в низинах туман стелется, и везде идут и едут разные люди, их много-много… Кто они? Сын Петька среди них, Нина и Мира, а по обочине шоссе бежит красивый сеттер, бежит, бежит, и Петька побежал, капитан Ханов, задрав ногу в хромовом сапоге, вскочил на мотоцикл…
«Какой я виноватый, – подумал горько Бабушкин, – кругом виноватый».
* * *
Не так уж долго пробыл Бабушкин в камере, не больше получаса, пожалуй, пока не вернулся в дежурку отлучавшийся куда-то лейтенант и старшина не привел утомленного событиями, жалобами Толика, равнодушного к себе Бабушкина – к нему. Фамилия лейтенанта, оказалось, – Айдаров.
Разобравшись, лейтенант строго выговорил старшине; тот выслушал угрюмо, не оправдываясь, опустив тяжелые руки по швам, его рябое лицо выражало одно: говорите, говорите, вы молодые, а мы службу знаем, хоть университетов, конечно, не кончали, а вот что вы без нас делать будете, когда мы на пенсию уйдем, – вот о чем думать нужно вам…
– Тоже, замечу, поаккуратней следовало б, Николай Семенович, – перебирая бумаги, не встречаясь с ним глазами, сказал лейтенант. – Только русские купцы, нам известно, плохо вели себя в ресторанах…
Он предложил покрасневшему Бабушкину сыграть в шашки. Они играли и пили чай. Время шло, уходить отсюда Бабушкину не хотелось: лейтенант, отвлекаясь от шашек, отвечал на звонки, разбирался с теми, кого приводили в отделение, – Бабушкин наблюдал, сочувствуя, какая тяжелая в милиции работа.
К утру кончилась плитка зеленого чая и дежурство лейтенанта Айдарова подошло к концу. Подмигнул он Бабушкину, пообещал:
– Марату Георгиевичу Ханову сегодня ж домой позвоню, попробую объяснить… Но автобус, Николай Семенович, чтоб как зеркало… Поняли?
– У меня всегда… Собаку невыносимо жалко.
Айдаров языком прицокнул, согласился:
– Да… Слов нет.
Выйдя на улицу, Бабушкин рысцой побежал к проспекту Коммунаров, к фабрике, чтобы встретить у проходной Нину. Было прохладно, стая грачей кружила в сером небе – прощались с городом перед отлетом на юг. Проскочил мимо на автобусе Пашка Гуляев, узнав – посигналил, поднял руку вверх. Уверенное, веселое лицо Гуляева как-то приободрило Бабушкина, он радостно улыбнулся ему, хотел даже остановить, подсесть в кабину… но мгновенно раздумал. Новый день начался, все еще впереди…
1971
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Повесть-хроника
– А! Многое вы, молодые, знаете! – с досадой говорит мне старик Мирзагитов. – У твоего отца или деда жизнь была как наша Агидель[32]32
Агидель – местное название реки Белой – Красавица.
[Закрыть]. Течет она себе, берега свои знает. А у тебя или сына твоего жизнь может легким дождичком прошуметь… Когда человек трудно живет – время у него другое, медленно движется, он каждый свой день на горбу тащит. А вы бегом, бегом…
И старик судорожно запахивает ватник, стягивая его с костлявых плеч на грудь, вроде б ему зябко в этот солнечный августовский полдень; отворачивается от меня, сидящего рядом с ним на уличной, перед воротами дома, скамейке. Я не спешу отвечать, понимая, что не во мне причина, не на меня он досадует: томится болью стариковская душа – и эта боль раздраженными всплесками вырывается наружу.
Еще поутру приехал я сюда, в Байтиряк, и все первые часы тут мотался с председателем колхоза по полям: смотрели мы, как комбайны после затяжных дождей убирали переувлажненную, по вязкой непросохшей почве пшеницу. Дело шло туго, шнеки машин захлестывались сырой массой, и предколхоза Гариф Каримович Рахматуллин, округляя и так круглые, выпуклые и черные глаза, страдальчески кричал мне в ухо, словно глухому: «А с кого спросят? С них, думаешь? – и тыкал пальцем куда-то поверх головы, в небо, как будто там, над серебристыми облаками, имелось какое-то учреждение, с работников которого тоже можно спрашивать. – Не-ет, дорогой, это мы в сводке на предпоследнем месте… вот с кого спросят!» – и бил ладонью по своей тугой, в темном загаре шее.
Наверно, не в самый подходящий момент поинтересовался я, как поживает старик Мирзагитов, – председатель поперхнулся на полуслове, тень смущения мелькнула на его лице, однако он тут же придал ему улыбчивое выражение, и голос его зазвенел восторгом:
– Ну пресса! Вот это нюх! Ни на шаг от себя не отпускал, а ему уже все известно!
Мне ничего не было «известно», но я благоразумно промолчал.
Рахматуллин мягко и уверенно, освоенным, видно, приемом – не руками, а большим животом своим – подтолкнул меня к «уазику», сам, кряхтя, забрался на заднее сиденье, так что я оказался как бы крепко зажатым в угол, – мы поехали дальше.
Председатель по-прежнему кричал мне в ухо – теперь уже о том, что колхоз «Чулпан»[33]33
Чулпан – утренняя звезда.
[Закрыть] не хуже всех других в их автономной республике, и ты сам, дескать, не впервые в Байтиряке, должен это знать, помним, что хорошее про нас писал, и надеемся, что обязательно еще хорошее напишешь, потому что все достижения на виду, а к вечеру солнце прокалит поля – комбайны наверстают упущенное.
– Старик-то – как он? – снова спросил я.
Рахматуллин велел шоферу затормозить; мягким напором большого живота ловко выжал меня из машины и стал показывать, как отсюда, с пригорка, красиво смотрятся посреди зеленого простора белые, из силикатного кирпича корпуса недавно построенного колхозом откормочного комплекса, над которым вознеслись, жестко сверкая серебристым металлом, обтекаемые гигантские башни-сенохранилища.
– Десять тысяч бычков в год – полмиллиона чистой прибыли! – восхищенно, потирая руки, сказал Рахматуллин.
Он ласкал взглядом эти белые, издали похожие на продолговатые школьные пеналы, корпуса-коробочки, которые, как всякая большая стройка, выросли не только на цементном растворе – на беспокойстве и нервах, а потому были дороги ему вдвойне.
А я вглядывался, пытаясь разом охватить всю раздольную ширь, завороженный ее резкими контрастными красками. Желтизна хлебных полей была особенно яркой на темно-синем фоне затянутых дымчатой наволочью лесов, она искрилась теплым живым светом. Казалось, этот свет мягко стекает с равнины в реку Белую, а та несет его густым потоком в дальнюю даль…
Эти места запали мне в сердце, и я часто наведываюсь сюда, на северо-запад Башкирии. Там, где живу сейчас, все по-другому – шумно и бойко, словно на бессонном вокзале, небо озарено прожекторными лучами с высоких мачт и факельными всполохами раскаленного металла. А здесь, как в селах моей юности, резные наличники на избах, утренняя роса прозрачна, холодна и чиста, народ спокоен нравом, приветлив, не утратил способности и привычки к крестьянскому занятию – теперь уже на новой, конечно, современной основе.
Здесь в деревнях по многу детей. И тракторов, машин здесь столько же, сколько ныне везде, но лошадей не извели, берегут, не признавая жизни без коня…
Это глубинная Башкирия, однако говорят тут, вблизи Дюртюлей, Чекмагуша, Верхнеяркеева, в основном по-татарски, и если тот же Гариф Каримович Рахматуллин – татарин, то жена его, врач местной больницы, медлительная в движениях красавица с зелеными глазами по имени Асылбика, – башкирка. В «Чулпане» соседями – исстари поселившиеся тут – и башкиры с татарами, и русские, и марийцы.
И у меня в этом краю свои добрые, уже многолетние знакомства.
Один из таких знакомых – лукаво-мудрый Рахматуллин.
– О! – воскликнул он, выводя меня из задумчивости. – Я обязан показать тебе наше водохранилище!
И повез в другую сторону.
Оказалось, колхоз перегородил высокой плотиной громадный бесполезный овраг – и получилось спокойное, чистое озеро. Когда-то угрюмые, с темными вековыми морщинами склоны, обсаженные молоденькими березками и кустами орешника, превратились в привлекательные, мягкого рисунка берега, охватившие своей извилисто-причудливой линией сияющее водное зеркало. Председатель протер пальцами припорошенный депутатский значок на лацкане, скромно заметил:
– Разносторонне, как видишь, работаем, дорогой.
И мы помчались дальше – снова к комбайнам, окутанным бурыми облаками. Значит, обсохла уже землица, если пылит так… Откуда-то вывернулся на мотоцикле, нагнал главный агроном – с бесстрастным лицом знающего себе цену человека, коротко и четко, как офицер своему генералу, доложил:
– Контрольный обмолот показал пятьдесят четыре центнера.
– Вот! – повернулся ко мне Рахматуллин, расплываясь лицом как бы во всю ширину плеч, и голос его загремел, перекрывая моторный гул: – Вот что составляет содержание текущего дня! Рекорд! Такого район за всю историю не знал – пятьдесят четыре центнера озимой пшеницы с гектара!
Он проворно выпрыгнул из «уазика», пошел по колючей стерне, выхватывая из скошенных валков тяжелые колосья. В глубоких ладонях его они лежали, словно дети в колыбели. Председатель близоруко подносил их к глазам, осторожно дул на них, бережно подбрасывал, будто нянчил, и тихонечко смеялся… Пшеничное поле дышало теплом и покоем. Зерно из комбайнов текучим золотом переливалось в кузова подходивших грузовиков. Глухое рокотанье двигателей вязло и растворялось в необъятности пространства.
Рахматуллин спохватился, видно, что забыл про всех и вся, торопливо и цепко посмотрел вокруг, бросил поднятые колосья на полотно комбайнового подборщика, сказал со вздохом:
– Пашем, сеем, убираем… убираем, пашем, сеем. Так?
Говорил, а думал о своем, озабоченно сведя густые черные брови к переносице. В голове, наверно, как в арифмометре, крутились, выстраиваясь, столбцы цифр: умножал центнеры на гектары, подсчитывал, прикидывал…
Кивнул водителю на меня:
– Отвези к старику Мирзагитову.
(Ничего никогда не забудет!)
Потом, когда я уже садился в машину, остановил; смотрел в сторону, слова были отрывисты:
– Он ведь какой, Тимергали-абый?[34]34
Абый – так почтительно называют пожилого человека.
[Закрыть] Он как тот гвоздь… Обухом в доску вколачивай – не согнется. А доска треснет! Был, был… да стар стал. А старая птица всегда перья теряет…
И вот, расставшись с председателем, почти час сижу на лавочке со стариком, нахохлившимся и сердитым. Он высок, худ, из увядших, ссохшихся щек вызывающе торчит тяжелый мясистый нос, такой, что его на двоих хватило бы.
– Не устал ездить? – спрашивает меня. И, не дождавшись ответа, равнодушно роняет: – Устанешь – камнем ляжешь.
Через дорогу, в палисаднике напротив, длинноволосые подростки с бледными городскими лицами запускают на всю катушку дорожный магнитофон: он ревет сотней молодецких глоток и сотней пронзительных джазовых труб…
Старик, вслушиваясь, крутит головой, хмыкает, не говорит – бормочет:
– Громко. Я в молодые годы на гармони любил… В Поповке, русской деревне, ходил я туда, меня на балалайке научили… На русской девушке хотел жениться. И сильно на балалайке и гармони играл. А эти чего… не сами они… механика! Запустили – она орет.
И я вижу, как смягчаются – при мимолетном воспоминании о чем-то своем – блеклые, размытой голубизны стариковские глаза, теплее делается его лицо, морщинистые губы оживают в непонятной усмешке; он встает со скамьи, приглашает зайти в дом, в дверях которого радушно встречает бабушка Бибинур. Она подает мне сухую невесомую руку, спрашивает о здоровье моем и моих домашних, с поклоном подводит к столу. На нем бойко пофыркивает самовар.
Я угадываю этот старинный самовар с выдавленными медалями на его жарком медном боку, угадываю всю опрятную обстановку этого дома, пропитанную запахами засушенных степных трав, с ее домоткаными половиками, ситцевыми занавесочками, выскобленными до желтизны яичного желтка половицами, с дребезжащим, сработанным лет тридцать назад самим хозяином посудным шкафом, грубые завитушки которого выкрашены такой же грубой зеленой краской… На новом телевизоре, занявшем передний угол, спит знакомый мне рыжий кривоногий кот, похожий на таксу.
Не был я здесь с прошлой осени.
А познакомился со стариком, с его домом еще раньше – в семьдесят пятом.
Тот год в Башкирии выдался небывало засушливым.
В газетном отчете я писал тогда:
«В большинстве районов с весны до осени не выпало ни одного дождя. Бесцветное раскаленное небо; уровень воды в Белой упал так, что во многих местах она показала дно; земля от сухости в трещинах, как в язвах; коня вскачь пусти – ноги переломает; выжженная до черноты придорожная трава…
Тут не оговорка: именно придорожная… Хозяйства северных районов Башкирии подготовленно встретили засуху – и тысячи поливных звеньев с помощью оросительных систем настойчиво сохраняли зеленый лик полей. Многолетние травы дали по два-три укоса. Зерновые посевы не только выстояли под долгим нещадным зноем – в передовых колхозах благодаря высокой культуре земледелия получено с гектара не ниже двадцати центнеров. Значительно меньше, конечно, чем привыкли брать при обычных условиях, но для затянувшегося сухменья – показатель, само собой, достойный. Как, впрочем, и пятнадцать-шестнадцать центнеров, что было рядовым явлением в этих районах.
Зиму поэтому в колхозах встречают обычным деловым спокойствием, разве только обостреннее радуясь каждому обильному снегопаду: пусть истомившаяся землица утолит жажду!
Довелось мне беседовать со стариками. За свой долгий век повидали они всякого – и засуха не первая у них на памяти. Об этой – последней – отзывались чуть ли не пренебрежительно, ударяясь тут же в воспоминания о жутком 1921 годе, когда настрадались и напугались так, что до сих пор те давние картины в дрожь их бросают…»
Он, Тимергали Мирзагитович Мирзагитов, как раз был одним из тех, на кого в ту пору вышел я со своими расспросами, желая сравнить давнее с сегодняшним.
Когда, помнится, стал ему доказывать, что эта, последняя засуха по силе превосходила ту, двадцать первого года, он, насупившись, строго сказал мне:
– Ты в двадцать первом не жил. Давай помолчим.
Но – снова вернусь к своему газетному материалу:
«…В разговоре со стариком мне пришлось сослаться на данные ученых: к примеру, если засуху 1921 года принять условно за 100 процентов, то по всем биолого-климатическим показателям минувшая дает цифру в 130 процентов. Достаточно упомянуть, что на три метра (!) вглубь был резко изменен, нарушен естественный биологический режим почвы.
Старик молчал, обдумывая мое сообщение.
Долго молчал.
Наконец упрямо произнес:
– Не верю! Сейчас – в своем ли дому, в магазине, в колхозе – везде хлеба полно. Ешь – не хочу! Разве это засуха, когда мы с хлебом?»
Этими стариковскими словами и заканчивал я очерк, заметив, что в них – «своя святая правда…».
Как после узнал, Тимергали Мирзагитович, увидев свое имя в московской газете, да не просто имя, а со ссылкой на то, как он умело возражал приезжему корреспонденту, был потрясен. Бабушка Бибинур, причмокивая губами, выражая этим самым крайнее удивление, потом рассказывала мне, что муж часами как истукан сидел над этой газетой и даже ночью вставал, зажигал свет, опять брал в руки газету – и смотрел на нее. Семь десятков лет прожил, чего только не было с ним, а вот в газету впервые попал, напечатали в ней, что есть в Байтиряке такой уважаемый, со своим мнением человек, и теперь все читают про Тимергали Мирзагитовича Мирзагитова – соседи и знакомые, вовсе чужие люди – в Чекмагуше и Дюртюлях, в Уфе и Казани, в самой Москве, на Украине, в Молдавии, на Дальнем Востоке, где служит офицером в железнодорожных войсках младший сын… А что читают, сын, майор Мирзагитов, незамедлительно подтвердил цветисто-торжественной, очень понравившейся отцу телеграммой:
«Внуки и дети своими делами на благо народа продолжат печатную летопись рода Мирзагитовых…»
Но газета скоро истерлась на сгибах, бумага ее пожелтела, строчки выцвели – и старик успокоился, особенно когда узнал, что очерк с его именем я включил в книгу, а та вот-вот выйдет… Книга – не газета!
За время очередных моих приездов и наших встреч с ним Тимергали Мирзагитович попривык ко мне. И вот появился я в хмурые для него дни – он ворчит, сердится, потому что недоволен молодыми, а в мои сорок лет я, как ему представляется, все еще тоже где-то вблизи молодости…
Пьем чай с клубничным вареньем, вкусно похрустывает на зубах чэк-чэк[35]35
Чэк-чэк – мучные орешки с медом.
[Закрыть], наши лица отражаются на вычищенной до блеска самоварной меди – тревожно проступают сквозь зыбкие багровые блики неведомого пожара.
Старик – словно бы в изломах, с острыми углами серый камень, которых много на проезжей дороге, а бабушка Бибинур – такая же серенькая ласковая мышка, неслышно бегающая возле этого неудобного камня… Голосок ее тих. Хочешь – слушай, не хочешь – он будет шелестеть, журчать сам по себе, не мешая, обходя тебя стороной.
Мягко передвигается по дому – мягко говорит, говорит:
– И-и, жить хорошо… никто никому не должен, каждый свое жует, под своей крышей спит… у всех дети сыты, обуты, одеты, им машины подавай, мотоциклы, раньше таких детей не было… раньше, и-и, дождей таких не было, белые, как молоко, дожди шли… а ничего, просохло быстро, молодую картошку подкапываем, выросла картошка… и только, и-и, денечки бегут, бегу-ут, не остановишь, скоро холодно будет, снег ляжет… скоро, и-и, сами ляжем, у каждого свой край в жизни, у каждого!.. чего предназначено – того не миновать… о-хо-хо, не миновать… и что ни денек, что ни шажок по земле – ближе мы к мосту Сирата[36]36
По мусульманским представлениям, мост Сирата – острее меча, тоньше волоска – проложен над адом. В судный день грешник, ступив на него, свалится в зияющую бездну; праведник же спокойно пройдет по нему в лучезарное царство рая…
[Закрыть]… не слукавить, не обойти того мосточка, не перелететь через темную бездну…
Безобидная с виду маленькая бабушка-мышка вдруг будто бы поддела своим острым носиком серый камень, как-то незаметно, причем, однако, ловко и ощутимо; тот, качнувшись, глухо загремел:
– Не пугай, глупая женщина! – Ударил старик тяжелыми пальцами по краю стола; покосившись на меня, важно изрек: – Все мосты люди строят. Других мостов не бывает.
Угадывалась бескомпромиссность закаленного безбожника яростных тридцатых годов.
– В земле что? – назидательно продолжал он, не глядя на жену. – В земле плодородная сила. Копай дальше, глубже – глина. Жуки будут, черви, коренья, горючая нефть внизу… А небо – это космос. Там космонавты по сто дней летают, бензином все пропахло, как на большаке…
Он смеется, хрипло откашливаясь, смахивая с глаз мутные слезинки, а бабушка Бибинур в этот момент тихонечко стоит поодаль – и печальная снисходительная улыбка теплится на ее белых, давно утративших тепло губах.
Старик, оживляясь, начинает рассказывать истории про жадность и распутство мулл, и бабушка Бибинур, качая головой, тенью выскальзывает за дверь.
– У нашего председателя Рахматуллина дед тоже был муллой, – объявляет старик. – Но шибко вино любил, веселиться любил, а потому бросил святые книги, ходил по деревням – стекла вставлял, посуду лудил, на гулянках песни пел…
– Рахматуллин – крепкий, грамотный руководитель, – говорю я.
– И хитрый, – добавляет старик. – Послушай, какой хитрый…
И я узнаю́ про одну из хитростей председателя… Правда, так он делал давно, в первые годы своего председательства, когда народ в Байтиряке не очень-то верил, что молодой Гариф Рахматуллин вытянет из ямы вконец расшатанный колхозный воз. Многих назначали, многие сами брались, крутоплечие и головастые, – и не могли этот воз сдвинуть. Один нажил себе неизлечимую болезнь; другой, исполняя должность, построил себе два громадных дома – в Байтиряке и в городе, на имя тещи; третий спился; четвертый, перед Гарифом, лишился партбилета.
И народ, потеряв всякую веру, тоже работал с прохладцей, а когда Гариф принялся рьяно налаживать трудовую дисциплину – не всем это понравилось. Чего, мол, дергаться, коли после тебя, пятого, завтра шестой председатель придет! Но Рахматуллин оказался цепким, как репей, и твердым, как кремень: при столкновении с ним искры летели… Установил он строгий распорядок дня, требуя выхода на работу точно по часам и чтоб заканчивать ее – так же. Неустанно сам следил за этим.
Люди – в поле, а крытый председательский газик десять раз стороной пропылит мимо. А на одиннадцатый раз председатель завернет к работающим, выйдет из машины, поговорит, лично все проверит. И не сразу раскусили байтиряковцы, что Рахматуллин, выезжая поутру верхом, к примеру, в кугарминскую бригаду, посылал шофера на газике ездить до обеда вдоль поля аргамакской бригады, чтоб всем там казалось: председатель здесь, он рядом, вон его «козлик», и вот-вот он заглянет, надо стараться!
– Ну? – спрашивает меня старик; большой нос его после чаепития пунцово-красен, словно бы отдельно от хозяина побывал в бане, всласть попарился там, и оба они, хозяин и нос, довольны этим. – Ну, каков ведь – не хитрый разве?
Рахматуллин же легок на помине: его «уазовский» вездеход, распугав кур, тормозит перед домом Мирзагитовых; в окна ударяет резкий и упругий, как резиновый мячик, звук автомобильного сигнала.
– За тобой, – скучнея лицом, роняет старик. Голос его тоже скучен, но в нем – скрытое напряжение: – Оставался бы у меня…
Я выхожу на улицу; председатель изнутри распахивает дверцу машины, приглашая садиться.
Он сам за рулем, сменил шляпу на белую, как у курортника, кепку.
– Вон где вдохновение надо черпать, – приподнято произносит он, показывая рукой на ближнее, распластавшееся по холму поле. – Был бы художником – обязательно нарисовал бы картину такого впечатляющего свойства!
Холм – в оранжевых закатных лучах, он сейчас как вызолоченный, остывающий от жара диковинный шар, упавший с неба и глубоко врезавшийся в синюю землю, а по нему, развернувшись веером, плывут осанистые комбайны, и над каждым – свое кудрявое, вспыхивающее тысячами тонких искр облако…
Такие же искры в глазах Рахматуллина.
И они уходят куда-то в самую глубину его черных выпуклых глаз, когда я говорю, что не поеду, у меня своя беседа со стариком…
Будто сразу сквознячком подуло. Я снова ощутил холодок того самого, тщательно скрываемого председателем отчуждения, что прорывается через броню его самообладания, лишь только упомянешь имя старика Мирзагитова. И не из-за последних событий, нет…
Ни одного худого слова о старике, хорошие, наоборот, слова – и такой вот сквозистый холодок… Что за этим?
– Программа утверждается, – Рахматуллин притворно зевает, – выйду на связь утром. Однако медлит уезжать.
А уезжает, рывком взяв с места, и мотор рассерженно ревет, машина, проскочив улицей, врезается в вязкую желтизну холма, ныряет в ней, настигая уходившие к затуманенному горизонту комбайны.
Во дворе же переполох.
Бабушка Бибинур, положив на ступеньку крыльца легкий и острый плотничий топор, ловит пеструю курицу. Я понимаю, что на пеструшку пал жребий украсить вечерний – для угощения гостя – стол. Курицу ощиплют, выпотрошат, у тушки, не снимая, ловко отделят от мяса кожу, загонят под нее, как в пузырь, воздух и зальют фаршированной, из свежих яиц, сливок и перца, жидкой смесью… Получится божественное блюдо, называемое «тутырган тавык» – нежная поэма местного кулинарного искусства.
Но упитанная пеструшка не желает превратиться в прекрасный тутырган тавык и, как ни проворна бабушка Бибинур, не дается ей в руки, с отчаянным кудахтаньем носится в тесноте двора. Ее настигает бабушкин помощник – рыжий кот; своим тяжелым гибким телом он придавливает несчастную хохлатку к земле, по-разбойничьи профессионально заламывая ей шею и крылья… Через минуту отсеченная плотничьим топором куриная голова с задорным гребешком уже валяется в затоптанной траве возле усатой морды и безобразных кривых лап кота как награда ему за труды. Алая куриная кровь – брызгами на листьях лопуха. Алые брызги заката – на оконных стеклах. Я возвращаюсь в дом, старик Мирзагитов со значением подмигивает мне, как сообщнику, – и наступает час нашей неторопливой беседы.
Старик отмяк, хмурые складки на его высоком лбу разгладились, он в мыслях, будто зерно, зажатое жерновами, обкатывает слова, что намерен сказать мне. Возможно, надеется, что они снова с моей помощью превратятся в печатные строки, зазвучат с бумажного листа…
Всем хочется быть услышанными.
И услышать слово человека, живущего совсем не так, как живешь ты сам, – это разве не приобщение к человеческой тайне?
А если к тому чужому слову добавишь выстраданное свое – это уже обмен жизненным опытом.
Возьми – и отдай сам…
Мы сидели напротив друг друга, погруженные в медлительность летнего вечера с его сельской тишиной; в этой тишине через негромкую речь старика отдаленными грозовыми раскатами звучало прожитое, неразрывное с днем нынешним. Передо мной из колеблющегося сумрака прорисовывались давние и недавние события, а в ярчайших всполохах смутно, неверными пятнами, проступали лица, прорывались голоса, я угадывал тех, кого знаю сейчас, такими, какими были они в начале своей жизни… Натренированное воображение профессионала – с мгновенной способностью точно подбирать краски, из множества выделить суть явления – помогало мне.
Позже, когда выберемся со стариком в палисадник подышать свежим воздухом, сквозь чернильную тьму увидим низко и тихо плывущие огни. То на обширном холме комбайны работали с зажженными фарами.
Два тонких мечущихся лучика слабыми штрихами чертили вдалеке дорогу. Бежала машина. Вполне вероятно, что гнал ее к тем же комбайнам или куда-то еще неутомимый председатель Рахматуллин…
Колхоз, дорожа сухой погодой, убирал хлеба даже ночью – до того часа, пока не ляжет на поля предутренний туман с тяжелой росой.
Звезды на небе исходили фосфорическим свечением, и при взгляде на них сильнее ощущалось тепло комбайновых огней и освещенных изнутри сельских окон, за которыми люди со своими детьми готовились ко сну.
Одни поля засеваем, думал я, а другие – в самих нас. И все мы – в подчиненности у вечной всевластной заботы о хлебе насущном…
Хлеб всегда рядом с человеческой совестью.
Об этом говорил мне сегодня старик.
Навалившись грудью на калитку, он сейчас молча вглядывается в ночь. Растревоживший себя, он – один. Я возле, но меня уже нет для него.
А в клокочущих домнах моего невидимого цеха яростно переплавляются слова-признания старика; в этом горячем сплаве – потрясения стариковской души и мое волнение от услышанного.
…Так под ночным небом в Байтиряке возникли эти рассказы, как крошечные осколки, сбитые с глыбы здешней жизни.








