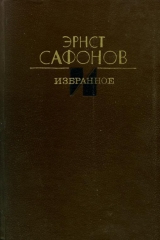
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
– …Бабоньки, ты, Варюх, как депутатка, иль второй бригаде уступим? Сроду, как колхоз организовали, еловские в последних…
– …Подобным образом, в лоб, Ефрем, нельзя ставить вопрос: за нас окончательно и полностью Рузвельт был или не за нас? А где ж анализ классового, идеологического несоответствия наших государственных систем? И тут же записывай в актив фактор времени – всеобщую мировую ненависть к фашизму. И то, чьи интересы Рузвельт, как президент, обязан был защищать, кому – хотел иль не хотел, а подчинялся…
В этом застольном беспорядочном шуме, где смех, жалобы, просто беседа при перестуке вилок и ложек, стаканов и кружек, скрипе скамеек, – в этом шуме беспомощным ручейком, неспособным но слабости достичь цели, звучал голос Ксении Куприяновны Яичкиной. Да она и не обращала внимания, слушают ее иль нет, – она стояла за столом, гордо и властно подняв седую голову, пристукивала ладошкой по липкой клеенке, говорила, что ученье – свет, а неученье – тьма, что она приветствует возвращение в Подсосенки примерного советского народного учителя нового типа Жильцова Сергея Родионовича и с чувством удовлетворения докладывает сегодняшнему собранию о готовности школы встретить учеников: есть шесть букварей, пять учебников арифметики, другие книги, а Сергей Родионович привез с собой тридцать восемь простых карандашей, четырнадцать красно-синих и разнарядку на получение в районе пятидесяти тетрадей… Она говорила – и будто это непохожая на других птица пела свою песню, и почему бы ей не петь ее, когда в этой песне единственный смысл ее разумного существования?..
– Чисто колдунья, – Майка Ване шепнула. – У ней изо рта дым идет…
– Выдумывай, дым! Это пыль от старости. Она царя пережила! – Ваня легонько дернул отца за китель, отвлекая его от Ефрема, показал на Ксению Куприяновну, похвалился, как пожаловался: – Она велит мне стихотворение выучить.
– Ты о ком?
– Ксения Куприяновна…
– Так и говори: Ксения Куприяновна заставляет меня… А какое стихотворение, Иванушко?
– «Дети, в школу собирайтесь…» На бумажке написала…
– Отменное, Иванушко, нестареющее стихотворение! Учи. И не пора ль тебе спать? И Майе Ефремовне тож. Как, Майя?
– Я от спанья нервная становлюсь, – ответила Майка, – мне сладкое снится, а проснешься, какая польза от этого?
– У ты! – сказал довольный Ефрем, с отцовской ласковостью шлепнул дочь по мягкому месту. – Беги-ка ты, коза, в тарантас…
И они – Ваня и Майка – пошли к тарантасу, взобрались на него, легли на свежий сочный клевер, а выездной председательский жеребчик громко фыркал возле них, всхрапывал, тяготясь одиночеством. Майка прижалась к Ваниной спине, уткнула в него острые локоточки, подышала ему в шею. Он повернулся к ней, учуял, что пахнет от нее луком и консервами из больших американских банок, – отодвинулся, стал смотреть, что делают звезды на темно-синем небе. Майка тут же уснула, во сне брыкалась ногами, смеялась, и он всю ее забросал клеверной травой, только для дыхания отверстие оставил.
Звезды соревнуются, какая из них разгорится сильнее, иные от перенапряжения внезапно гаснут, другие срываются, летят вниз, как в пропасть, и тоже гаснут, – за небом не скучно наблюдать… Слушает Ваня краем уха продолжение застолья. Многие ушли, женщинам ведь рано вставать, но кое-кто остался; дядя Володя Машин пьяно крикнул Ефрему в ответ на его какие-то слова: «Раскомандирился… ишь!.. а я не шестерка тебе, я сам козырной туз!..»
По удлиненному носу и очкам даже с ночного расстояния угадывался отец, – трезвый он, ничего не пьет, не любит спиртного; высоко вскидывая руку, рассказывает Ефрему и другим… Он на все может ответить, все знает, его обо всем спрашивают. «Умный, – думает Ваня, – а вот не воевал…»
Еще Ваня думает, что взрослые совсем не так живут, как можно жить, – они тишине покорились, в надоевшей работе копаются, о еде разговаривают, и не было б войны, так бы сиднями и сидели в Подсосенках, не мечтая о подвигах, о том, чтоб, к примеру, летчиками стать и над облаками вести тяжелый сверкающий самолет или уехать жить в город, где можно ездить на желтых трамваях, даже днем смотреть кино, где милиционеры неотрывно следят за порядком и всегда укажут, куда идти, если заблудишься…
Замечтавшись, он не сразу уловил, отчего так распаленно кричат за столом: дядя Володя Машин, оказывается, кричит.
– Я сы-ыграю! – грозится он, тянет со скамьи гармонь к себе – она издает печальные и сердитые звуки.
– Не нужно, Владимир, – строго отец говорит. – Спать, спать!
– Не-ет, – упорствует дядя Володя, – сы-ыгр-р-раю!
Он тычет пальцем в сторону Ефрема и, задыхаясь в пьяной торжествующей злобе, выкрикивает:
– Ему!.. Не-ет… ему и Алевтине Демидовне! Они, Сергей Родионыч, без тебя тут спелись… спе-лись!.. Я им сыграю! Спе-елись!..
– Г-гад! – тоже задыхаясь, кричит Ефрем: вскидывает тяжелый кулак, бьет дядю Володю в грудь…
И одновременно – в ужасе – голос матери:
– Врет он, Сереженька, не верь, врет!
– Он такой, – хрипло говорит Ефрем, – он непонятный среди нас, Сергей Родионыч. Нас, фронтовиков, столкнуть хотит…
– Не верь, – убивается мать. – Он из-за зависти, Сереженька… Не было-о-о!..
Не было, не было, не было… Это больно входит в уши, закупоривает их, у Вани зуб на зуб не попадает, – выпрыгивает он из тарантаса и бежит к матери, обхватывает ее холодные ноги, толкается лицом в колени и не кричит, требует:
– Не было, не было!
– Конечно, не было, – твердо говорит отец, его дрожащие руки ловят Ваню, никак ухватить не могут, наконец он приподнимает Ваню, прижимает к себе, шепчет: – Ты чего, Иванушко? Ты же сынок мой, Иванушко, сынок!
XII
Завтра в школу, завтра новая жизнь начинается! Звонок слушать, карандашом писать, уроки заучивать… примеры у доски придется решать. 5—3=2. 8+1=9. Можно на черной доске куском мела любое слово начертить. На какую букву? По-ожалуйста! ОСА, ОКНО. А еще в южных странах есть такая скотина – ОНТИЛОПА. Или вот замечательное слово – ОБНОВА. ОБНОКНОВЕНЫЙ.
Сидит Ваня на улице, в тенечке, перед своими окнами, царапает красным кирпичным осколком по днищу прохудившегося цинкового корыта. А отец на завалинке сидит, только что из школы вернулся, длинными руками через диагональ синих галифе ноги оглаживает, ревматизм щупает. Сказал он Ване, что во второй класс его не возьмет, хотя тот, бесспорно, читает и по-печатному пишет. С двумя классами, сказал отец, люди большие должности занимают, считается у них незаконченное образование, а какую ж должность можно доверить ему, Ване, когда он не способен объяснить, отчего земля круглая и в какое море впадает река Волга?.. Так что – побудь в первом – в нем основы всех наук закладываются… Смеялся отец, показывая черноту беззубого рта; спросил, какая птичка по стволу липы прыгает.
– Синица!
– А, и это не знаешь! – обрадовался отец. – Не синичка – поползень! Хвост, смотри, лопаткой, клюв длинный…
– Ну и чего!
– Ничего… впредь знать будешь!
В это время серый в яблоках конь подкатил к их дому рессорную таратайку, в которой рядом с женщиной – Ваня сразу узнал их – сидел безрукий и одноногий бывший офицер и бывший лесничий Егорушкин Николай Никифорович, – в кителе без погон, с пришпиленными булавками бесполезными ему рукавами, с красивой нашивкой над правым нагрудным карманом.
Отец вскочил с завалинки.
– Коля, – сказал он, – Коля!
– Привет, Сережа.
Отец наклонился, поцеловал Егорушкина, головой тряхнул, словно комара или муху отгонял, – упали очки с носа в траву, он на корточки присел, стал искать их у колеса, нашарил, ощупал, долго надевал.
– Не разбились, Сергей Родионыч? – спросила женщина.
– Нет, Александра, – ответил отец.
– Ты, Сережа, привыкай, – сердито сказал Егорушкин, скрипнув зубами. – Я другим не буду.
– Я ничего, – медленно отозвался отец. – Ничего… Я, Коля, от внезапной радости свидания… В дом?
– Меня нести ж надо, если в дом, – упрекая взглядом, возразил Егорушкин. – Ты, Сережа, кваску б!
– Иванушко, живо! – отец приказал.
Ваня в избу побежал, крышку подпола приподнял, спустился в темную прохладу – чтобы зачерпнуть из бачка самого студеного, самого вкусного квасу для заслуженного героя Великой Отечественной войны, чтобы пил он и приятно ему было. На кухонном столе тоже есть квас, целая кастрюля его, но там он теплый… Так спешил, что первую кружку, вылезая из подпола, пролил на себя – снова спускался…
– Ай и шампанское! – похвалил Егорушкин, когда жена напоила его и вытерла губы платочком.
Теперь отец, задумчиво склонив голову, слушал, что говорит ему Егорушкин, а тот подергивал выбритыми, в порезах щеками, строгая улыбка пробегала по его лицу, в зеленоватых измученных глазах стыл холодок и пробивался интерес: будет ли понятно, что он говорит?
– …Райком, Сережа, рекомендует меня секретарем партийной организации. Скажут вам… Мозг у меня подвижный, Сережа, техникум за плечами, опыт есть, и нет, в общем, такой крепости, которую бы не взяли мы, большевики, верно?
– Ты будешь хорошим, Коля, секретарем.
– Поддерживаешь? Спасибо. С нас спрос большой, помнить нужно… Как на фронте: коммунисты, вперед!
– Да.
– А ты где воевал, Сережа?
– Не воевал, понимаешь ли… В экспедициях, военный топограф…
Душно было, калило землю солнце; как от печки несло жаром от серого жеребца, он ронял тяжелую слюну с губ, бил копытом по увядающей траве; Ваня грыз ноготь и смотрел мимо Егорушкина.
– Повоюем теперь, – пробормотал Егорушкин; добавил твердо, щуря глаза: – Некогда, Сережа, на завалинках сидеть, пейзажами любоваться… Я так понимаю задачу.
– Николай, – розовея лицом, сказала Егорушкину жена, – тебе голову напечет – фуражку надеть? Поедем…
– Коля, – с обидой сказал Егорушкину отец, – твою прямоту я уважаю… Начало занятий завтра, я в школе только что не сплю, наглядные пособия клеим, рисуем, и одна помощница у меня, сама как ребенок – Ксения Куприяновна… Чего ж ты хочешь, Коля?
– Сознательности… Работы в колхозе, Сережа, нет? Работа есть! А хоть один плакат с программой эпохи в Подсосенках вывешен, Сережа?
– Мое упущение, – признал отец. – Крой дальше, Коля!
– Постарел ты, Сережа, и очень я тебя желал увидеть…
– А ты молодцом, Коля, и тоже я доволен, что вот как раньше…
Егорушкин двинул подбородком – жене сигнал подал: трогай! Застоявшийся конь резко взял с места; покачивалась обрезанная с обеих сторон, как сплюснутая, спина Егорушкина, неустойчивая и прямая; он высоко держал голову в выцветшей фуражке с черным околышем; взлетала и тащилась за тележкой пыль, было еще непозднее утро, часов семь-восемь, наверно, и стояла небывалая предгрозовая духота, хотелось веселого дождя, короткого, который не помеха для уборки, а облегченье для всего живого… Отец потер пальцами заморгавшие глаза, сказал не то Ване, не то себе – вслух:
– Никак не успеешь все узнать и понять, хотя спешишь, надеешься…
Он достал из кармана кусочек мела, присел у корыта, тщательно исправил и подчеркнул все ошибки, сделанные Ваней. Вытер измазанные пальцы, передразнил:
– «Онтилопа»!
– А чего, – спросил Ваня, – Егорушкин-то ругался?
– Разве он, Иванушко, ругался?
– Сердился.
– Он, понимаешь, очень беспокойный, он к себе суров, к другим тоже, он хочет скорее порядок навести… чтобы – как тебе объяснить? – жизнь прекрасная была у нас.
Отец устало машет рукой – чего, мол, говорить… Но это – усталость, серая тень на поскучневшем лице – всего на миг. Внезапно преображается он – голос теплеет, глаза за толстыми стеклами очков опять синие и лучатся, он берет Ваню за руку, усаживает с собой рядом, – речь у него быстрая, будто бы боится, что кто-то помешает ему, не даст досказать…
– Иванушко, Иванушко, я ведь кто? Послушай… Таким, как ты, мальчиком, я среди медведей рос, за тридевять земель отсюда… Я долго шел из леса, меня трепали, я плакал много, а после разучился плакать, закаменел, долго равнодушным был. А после настоящих людей встретил, поздновато, правда, и с книгами встретился, они меня обогрели, как когда-то Максима Горького… Я уже почти взрослый был, а все равно книги мое заглохшее сердце перебороли – снова заплакал, теперь над тем, как чудесна, оказывается, жизнь, как расточительно и неинтересно мы живем – в невежестве, мелком озлоблении, тщеславии, скупости…
– Плакал ты?
– Да. Но это, учти, давным-давно было… После не плакал, а учился. Упрямо, остервенело, можно сказать. Три года одним сухариком питался – вот как учился! Еще, конечно, вода была…
– Живая вода, папка, как в сказке про богатырей? Ты такую воду пил, живую!
– Живую… Однако не в этом, Иванушко, дело…
– А ты чего ж – тебя не было здесь, а ты приехал сюда. Ты приезжий!
– И что ж? Я приехал потому, что выучился сам, могу и хочу других учить…
– Сергей Родионыч! – окликает дядя Володя Машин, вывернувшись из-за угла избы, со стороны огородов; подошел, несмело поздоровался, объяснил виновато: – Я, значит, Сергей Родионыч, освободившись от делов на время, помощь хочу предложить – чего там, в школе, требуется?
Дяди Володины глаза, как всегда, перемигиваются, он переминается с ноги на ногу – вздыхают его латаные сапоги, как будто бы они с хозяином заодно, и нет разницы, кому при необходимости вздыхать – им или ему.
– Да, требуется, – говорит отец. – И я вам, Владимир Васильевич, через районо оплачу стоимость работы…
– Да ладно!
– Оплачу, вы заявление представите.
– Ладно, Сергей Родионыч, свои ж! Для общей, как можно выразиться, пользы…
– Мне не нужно! – резко отвечает отец. – Считайте – договорились. А сделать требуется одну конкретную вещь – выгребную яму выкопать.
– Для кабинетика, одним словом…
– Для уборной.
– А где ж ему стоять, кабинетику?
– У откоса, у горы, ближе к складу… Я на штык там выкопал, наметил…
– Не далеко ль, Сергей Родионыч, ребятенкам бегать?
– Гигиенично зато.
– Я к тому, Сергей Родионыч, не теряли б ребятенки по дороге, покуда бегут-то. – Дядя Володя смеется и призывает отца посмеяться вместе, но тот смотрит вверх, на пустое небо, сосредоточен, не расположен к разговору.
Дядя Володя закуривает, к Ване обращается:
– Ты, Ванюшка, выходит, свободу теряешь. С охотой иль как?
Ване тоже б не отвечать семейному обидчику, но знает он дядю Володю больше, чем отец его знает, – отвечает коротко:
– Надо.
– Иль не надо! – обрадованно подхватывает дядя Володя. – Учись, достигай, чтоб не навоз возить, а завсегда чай с сахаром нить…
– Владимир Васильевич, – обрывает отец, – там много работы, еще верх ставить… Возьметесь?
– Управимся, – обещает дядя Володя, – будет у ребятенков апартамент… А чего, Сергей Родионыч, про японцев-то новое слыхать. Я в газете читал…
– И я, кроме того, что в газетах, ничего не знаю.
– А то слух такой, что наши ученые изобрели оружие, космический луч называется. Как наведут его – что танк, что здание, корабль, человек, крепость какая – все собой разрезает и сжигает…
– Не слышал.
Отец уходит в дом; дядя Володя с грустью смотрит ему в спину. Ваня дергает дядю Володю за рубаху, спрашивает:
– А как же он прорезает и сжигает, луч этот?
– Напополам, – в задумчивости поясняет дядя Володя; оживляясь, шепчет: – Может, соль есть? Принеси, Ванюшка, сольцы щепотку…
Ваня принес ему в кулаке соли, дядя Володя бережно ссыпал ее на лопушок, свернул конвертиком, в карман сунул и пошел прочь – не то он вздыхал, не то опять сапоги его.
XIII
Отец, выйдя вскоре на улицу, спросил:
– Пойдешь со мной в школу лозунги писать?
Однако уйти они не успели, – свернул с дороги, направился к ним высоченный матрос – в черном – с чемоданом в руках и зеленым солдатским мешком за спиной; подметая пыль широченными клешами, трубно и радостно прогудел издали:
– Сер-р-ргей Р-родионыч!
– Константин!
Они тискают друг друга, бьют ладонями по спинам: громадный Константин худого отца так изломал – тот надрывным кашлем зашелся.
– Отбухал, Константин?
– Точка!
– Устоял, гляжу, прежний гренадер…
– Куда до прежнего! Один Новороссийск, Сергей Родионыч, полжизни стоил, после него полгода натуральной кровью мочился.
– Отвоевался, отвоевался…
– Хватит.
– Братец твой молоко возит, я у него спрашивал, как, Витюня, ваш Константин… Плавает, отвечает, Константин…
– Поплавали! – Улыбка у матроса во весь рот, щеки пухлые, в густых веснушках, и чуб буйный, медного отлива, а кулаки – будто две гири, руки книзу тянут. Когда он улыбается или смеется, глаза щелками узятся, и в каждой щелке – по синеватой льдинке.
Ваня на матроса Константина смотрит, на его нарядный флотский воротник с белыми полосами, на ленты с якорьками, на могучую грудь, по обе стороны изукрашенную медалями и тремя орденами Красной Звезды, одинаковыми… Отец про горбатого Витюню вспомнил, который молоко на сепараторный пункт возит, а Константин, выходит, брат горбатого, и тогда – соображает Ваня – он из поселка Подсобное Хозяйство, его фамилия Сурепкин, их изба вторая с краю, как в Подсобное Хозяйство входишь, и это у них весной от неизвестной причины сгорела банька, и живет у них дед, который выводит глисты из кишок, заговаривает больные зубы, лечит золотуху и чесотку…
Вышла из дому мать и, хоть невеселая видом была, тоже порадовалась Константину, сказала:
– А я горевала, всех моих ровесников проклятая война поубивает!.. С благополучным возвращением, Костик, личного счастья тебе желаю…
Константин, улыбаясь, посмотрел ей вслед, и отец тоже посмотрел. Константин развязал свой солдатский мешок, вытащил оттуда фляжку в суконном чехле, поболтал ею, но отец, поморщившись, ответил, что по-прежнему не употребляет. Однако Константин не отступился – нахлобучил на Ваню бескозырку, велел принести две удобные посудинки и крошку хлеба величиной с маковое зернышко, чтоб занюхать чем было…
Мигом Ваня исполнил.
Константин, крякнув, махом выпил свою долю, отец лишь чокнулся с ним, отставил кружку. С новой силой незамутненно и в восторге встречи возобновляется их разговор. Отец говорит Константину, что страшно рад его появлению – потому, что любит он его, Константина, и потому, что до войны затратил на него столько сил и терпенья, обламывая его дикость и непослушание, что пора Константину дать полезную отдачу: пусть в город едет, скорее доучивается в педучилище, поскольку Подсосенской школе потребуется второй учитель…
А Ваня заворожен бескозыркой. Она тяжелая, крепко пахнет по́том, табаком, на ней золотая надпись – КЕРЧЬ. В надписи КЕРЧЬ он украдкой лизнул буквы «К» и «Ь» – во рту солоно стало! Море – оно, известно, соленое; если б у них в колодце вода была соленой, мамка б щи варила без заботы, не подсаливая, как варят щи, наверно, те, кто всегда живет у моря или на кораблях плавает… А Майка, лиса линялая, глядит от своего дома, зависть у нее и тоска: ей бы примерить длинные ленты со сверкающими якорями!..
– Сколько ж надо было пройти, чтоб вот так до своей хаты дойти, – слышит Ваня густой голос матроса Константина. – Это ж целый роман можно написать, и бумаги не хватит!.. У меня сейчас, Сергей Родионыч, легкие вроде заклинило, не продыхну, заволокло их родным воздухом, я запросто могу взорваться, начиненный этим воздухом родины, или поднимусь в заоблачную высь как аэростат…
– Поэт ты, Константин… Пробуешь сочинять?
– А что! И хочется жить, и работать, и драться, чтоб крепло народов могучее братство, и зрели обильные силы земли, и птицы чтоб пели, и липы цвели!.. Ничего? Это из последнего моего стишка, в севастопольской, похвалюсь, газете печатали… А в отношении города, Сергей Родионыч, за совет благодарен, однако имею возражение. На данном этапе не мой курс!
– Напрасно…
– Не мой! Я измученный, Сергей Родионыч, соскученный, какой хочешь, но только негожий для нового внезапного уезда из дому… Я с бугра спускался, там, в стороне, несжатый клип овса… Я подумал: это меня он дожидается, непременно я его скошу. Завтра же!.. Я конские яблоки с дороги поднимал, на ладони нес – до того по лошадям истосковался, лошадей на кораблях во сне видел… А еще видел, в мечтах имел, как теплой ночкой с кем-нибудь в саду сидеть буду, Сергей Родионыч, дорогой мой, наставничек мой, и что-нибудь помягче мокрого корабельного железа под моими руками будет… Не улыбайся! Это сейчас, конечно, улыбаться можно, а мы и после девятого мая при смертельном деле состояли – фашистские мины тралили.
– Ты, Константин, все равно учителем должен стать.
– А я не забыл, что «лопата» и «собака» через «о» пишутся, а шестью шесть – тридцать шесть и что вода – аш два о! Я помимо других занятий, Сергей Родионыч, всегда, надейся, твой помощник. И новый сад мы с тобой заложим. Слово черноморского моряка!
– Если слово…
– Мать с августа тридцать девятого не видел… Годки на корабле, понимаешь, плакали, когда я им свое на эту тему читал. …Ты ли это, мать моя родная, старая, седая, ты ли, мать?.. Сгорбленная женщина, рыдая, бросилась матроса обнимать…
Отец – в выгоревшей сатиновой косоворотке, шнурком подпоясан, одна дужка очков у него сломалась, он ее тесемкой заменил, и лишь старые галифе на нем военные, больше ничего заметного нет, перед великолепным черно-сине-бело-позолоченным моряком отец совсем ничего из себя не представляет, поглядеть не на что… Ване даже обидно. Он отдает Константину его фасонистую бескозырку, идет в избу, обряжается в отцовский китель – руки утонули в рукавах; а полы кителя метут сор; снова выходит на улицу, – нет, не обратил внимания Константин, не удивляют его офицерские погоны отца, узкие, из серебра, со звездочкой на каждом… Конечно, когда сам столько всего имеешь да еще три ордена в придачу – чему завидовать! Чтоб отец пять, десять или пятнадцать медалей получил; как бы тряхнул сейчас Ваня кителем – медали б зазвенели, как тряхнул бы еще – не захочешь, а посмотришь!
– Я такой им тарарам в районо устроил, чтоб у нас, в Подсосенках, школу именно первого сентября открыть! – хвалился отец. – По столу заведующему кулаком стучал, ему чернильные брызги в лицо летели – как, Константин?
– Не верю.
– Стучал, честно! Зато завтра, как положено, завтра, как у людей, как по всей стране, Константин. Ты приходи!
– Обязательно… А Егорушкин, значит…
– Да. Неподдающийся… Такая вера в жизнь – увидишь.
– Пойду я, Сергей Родионыч. Сердце подталкивает: нужно идти. Домашние-то не знают, что я, считай, у порога…
– А завтра…
– Как штык! А сын у тебя, Сергей Родионыч, уже крепкий дубок…
– Товарищ мне… Ванька Жильцов!
– Я тебе, Ванюша, нож подарю.
– Когда?
– Завтра принесу. У меня в чемодане на дне хороший складень, трофейный, румынскому офицеру когда-то служил… Не забуду, Ванюша, принесу… А это не Володя, не он ли, Машин Володя, на полусогнутых мчится сюда. Сергей Родионыч?
– Он, – подтвердил отец, – случилось чего-то?!
– А постарел-то…
Дядя Володя подбежал, прихрамывая и запаленно дыша; напуганность была в нем, он с Константином поздоровался не так, как моменту подобает, – торопливо сунул руку, словно вчера виделись они, хмуровато, с мгновенно вспыхнувшей завистью скользнул своими моргучими глазами по его добротной флотской одежде, чемодану и туго набитому мешку. Кивнул на фляжку, и Константин налил ему – дядя Володя выпил, судорожно двигая кадыком, ладонью утерся, сказал:
– Бомбу нашел.
XIV
Незавершенную выгребную яму для школьной уборной, что Машин рыл у откоса Белой горы сразу же за кирпичным «шуваловским» складом, отец обнес предупредительными вешками, но прежде и он, и дядя Володя, и матрос Константин, прибежавший сюда со своими дорожными шмотками, и стороживший склад дед Гаврила – все они с опасливым интересом рассмотрели выглядывающий из глины ржавый корпус авиационной бомбы с ребристым выступом хвостового оперения. Ваню к яме не допустили: он возле них устроился, когда мужики потихоньку, с оглядкой отступили от нежданной смертоносной находки, перекурить присели под складской стеной, в тени, желая что-то понять и примириться с тем, что диковинная напасть – она действительно тут, от нее не уйдешь, деваться некуда, надо как-то действовать… Дед Гаврила, путаясь опорками в жесткой, заматеревшей к осени лебеде, своим резвым полубегом заспешил на поиски Ефрема Остроумова. Что председатель Ефрем, власть он – это одно, само собой; главное – сапер, а сапер должен разбираться в таких делах…
И тихо здесь – опустел ток, вчера закончили на нем работу, последнее зерно, что красным обозом не вывезли на элеватор и пока остается оно в колхозе, – это зерно засыпали в склад; дед Гаврила ток метлой расчистил, остаточки замел-подобрал, и только куры ходят по черной прибитой земле, в полове копаются, ворчливо переговариваясь, недовольные малой своей добычей… Ефрем пообещал во всеуслышание, что завтра, первого сентября, будет выдача аванса – по полкило зерна на трудодень, ежели, само собой, из района запрет не пришлют. И не должны бы запретить: задание по хлебу колхоз выполнил, на семена с избытком оставлено…
Дядя Володя, топыря локти, крутя потной, перемазанной шеей, объясняет и сам себе будто не верит:
– Лопата ширк-ширк… камень, определяю! Ка-ак хря-ясну! Звенит, однако… Ну, определяю, железо. А откель? Какое может быть железо, когда единственно глина? А ведь хря-яснул – с ро́змаху!
– Как она, родимая, тебя не хряснула, – замечает Константин. – У нее силенок больше твоих.
– Бо-ольше! – с коротким возбужденным смехом соглашается дядя Володя; он уже пережил основной момент, когда, не зная, тревожил бомбу лопатой, и сейчас стронутая с привычного места душа его зябковато сдавлена, в неспокойных больных глазах у него лихорадочные отсветы недавно пережитого ужаса. – …Опосля мелькнуло: клад откапываю! Казанок с деньгами иль там золотом. А чего? Карл в революцию мог закопать? Мог!.. Ну, думаю, вот тебе, Володька, и дерьмовая яма! Золотая!.. В этот секунд уж не хрястаю, не дуроломом – осторожным манером, чтоб не повредить…
– Откопал…
Константин хмыкает; он пучком травы счищает жирную грязь с хромовых ботинок, заученным жестом утягивает форменку под брюки, крутыми плечами поводит, пробуя, ладно ли на нем обмундирование сидит, – сильный, здоровый, влитый бугристым телом во флотское сукно; и дядя Володя невольно одергивает свою затасканную рубчиковую рубаху, комкает слова, тяжелая тень застарелых невысказанных обид на свою невезучую судьбу еще больше старит его землистое лицо, – заканчивает он, лишь бы, наверно, не молчать:
– Хрен с ним, сказать, с этим кладом… У меня и сундука, к примеру нет, куды золото ссыпать… Осталось, что ль в твоей фляге, Константин?
– На.
Отец сидит, в унылой задумчивости опустив голову.
У всех одно: скорей бы Ефрем!..
Невесомая паутина летает в чистом воздухе ясного дня, солнце съезжает вниз, однако высоко оно, не припекает по-летнему, а греет спокойно; от Белой горы исходит сияние, это ее чистый песок светится, он такой блескучий, как матросская бляха с выдавленным якорем на ремне у Константина. Ваня, щурясь, думает, что хорошо бы взорвать бомбу, – вот громыхнет-то! Синий столб с красным огнем до неба взлетит… И просто все: забросать яму полешками, чурками, бурьяном, хворостом, запалить, как костер, – бомба нагреется и жахнет. И будет у Белой горы еще одна яма с маслянистой коричневой водой поверху; в этой густой воде даже лягушки жить не станут – она и по весне не зацветет.
Мужики, конечно, догадались, откуда эта неразорвавшаяся бомба в их не затронутой боями лесной местности. Выходит, в ту метельную ночь, когда подсосенские бабы, старичье и детишки были разбужены оглушительным взрывом, оконные стекла полопались в избах и у Машиных рухнула задняя стенка избы, придавив овцу, – в ту военную ночь самолет уронил здесь не одну, а две бомбы. Одна сработала – вывернула и разметала тонны мерзлого грунта, оставив на память о себе громадную воронку; а другая бомба, вот эта, – она прошла под снегом, как скатилась, по высокому пологому склону Белой горы, зарылась в песок и глину, дожидалась, ржавея, кто ее отыщет… Отец над ней обозначил место для выгребной ямы, дядя Володя колошматил ее острым заступом, беспокоил, однако она не отозвалась, промолчала, пустая, возможно, внутри или бракованная, с какой-нибудь недоделкой… Вот поймает дед Гаврила Ефрема – наведет Ефрем экспертизу!
Отец, растирая в пальцах листья чернобыла и нюхая их, говорит, что следует кого-нибудь в Еловку послать, там телефон, нужно позвонить в милицию и райвоенкомат, поставить в известность, – случай-то небывалый, чрезвычайное происшествие, без приезда специалистов не обойтись.
– Ефрем и есть специалист, – резонно замечает дядя Володя. – Пощупает ее, надо ежели, и позвонит кому следует, он в районе каждого знает, долго ль ему… А нам лучше чего – сиди, покуривай… обождем!
– Обождем! – отец в сердцах повторяет. – Жди, когда первое сентября…
– Первое… десятое… – Дядя Володя раскраснелся от фляжки Константина, его снова тянет на разговор. – Закопать обратно – всех делов-то!
– Теперь нельзя.
– А я, Сергей Родионыч, к примеру, определяю, послушай… школа… Куды она, чего с ей?! А вот аванц запросто сорвется, не получим аванц завтра – могём вовсе не получить. Приедет какой-нибудь с полномочием, с портфелью, при чине… Не выдавай! Ефрему… Как тут?
Ему не отвечают.
– А то был случай один, – нарушая молчание, опять говорит дядя Володя, – можно припомнить… Был в лагере у нас унтер-штурмфюрер Глобке, а мы, русские которые, промеж себя звали его Волдырь, потому что был он как портошная пуговица, посмотреть – плюнешь, а там представлял из себя значительность…
Однако досказать дяде Володе не довелось: увидели, что спешит через выгон Ефрем Остроумов, четко, по-строевому отмахиваясь руками, а рядом с ним, забегая чуточку вперед, дед Гаврила. На Ефреме неизменная гимнастерка и такого же защитного цвета галифе; только серая кепка на голове гражданская.
– Пгивел! – доложил, подходя, дед Гаврила.
А Ефрем, широко улыбаясь, сжал и долго тряс руку Константину; сказал:
– Ух и сыгранете вы с Володькой вечерком… на двух гармонях-то! Приветствую твою демобилизацию, Костя! Ор-рел!.. Махнем – мою полную Славу на твои красные звездочки? Три на три, баш на баш!.. – И, оборвав раскатистый смех, спросил деловито: – Какую железку-то нашли, славяне?
– Ды ж бонба, говогю…
– Авиационная, Ефрем Петрович, видно сразу…
– Пузатая, Ефрем, навроде самовара!
– Солидный кусок…
– Ладно, – буркнул Ефрем, – пускай так…
Он велел всем укрыться по другую сторону склада, даже Константину, который сказал, что, пожалуй, еще посмотрит, а то подзабыл, какая там красавица лежит, дожидается… Укрываться постеснялись, Ваню тоже не прогнали, но к яме Ефрем один пошел, вдавливая каблуки кирзовых сапог в пересохшую землю, закуривая на ходу.
На краю ямы Ефрем постоял, заглядывая туда, вниз, окурок щелчком отбросил, сел, неспешно стащил с ног сапоги, аккуратно портянки разложил, чтоб просыхали, и гимнастерку снял, – даже с расстояния были видны багровые рубцы рваных ранений на его плечах и руках, – и спустился Ефрем к бомбе.







