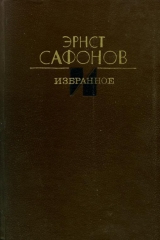
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
Помолчали.
– Вы довольны своей работой, Павел Петрович?
– В принципе – да.
– В армии служили?
– Не довелось.
– Не довелось или не хотели?
– Так получилось… Студентов не брали, а после…
– Ясно.
– Тогда не брали студентов, Василий Борисович…
– Хорошая у вас жизнь, Павел Петрович, очень хорошая.
И Павел уверился: зависть в голосе старика, зависть; в ней, разумеется, нет ничего плохого, в этой зависти, как предполагает Ольга, – так просто, от сознания, наверно, личной неудачливости, скорбь по несостоявшемуся… Прикрыл старик глаза, обмяк, обвис морщинистым лицом; похож на большую снулую рыбу, выброшенную течением на камни, – на глубинную рыбу, у которой не переливающаяся солнцем чешуя, а неопределенно-темные шершавые бока… Встряхнуть бы его нужно – незаметным участливым словом, и уходить отсюда нужно: время обеда, на второе заказана бастурма, будет на столе бутылка сухого – Ольга обещала…
Повторил старик:
– Хорошая жизнь. И жена у вас молодая, хорошая…
– Хорошая.
– Произойдет что – не бойтесь постоять за эту жизнь. Грудью!
Старик палкой о камень пристукнул, и глаза его блеснули холодным стеклом.
– Само собой, – отозвался Павел.
Полнеба уже было фиолетовым, набухшим, как промокательная бумага, сыростью, а фиолетовая тяжесть расползалась дальше, шире; и море будто впитывало мрачный фон неба, тяжелело; светлые барашки пенились, смывались и снова нарождались в разбуженных свежим ветром волнах. Припадали к воде чайки, резко взмывали ввысь – то ли пугаясь, то ли радуясь… Внизу опустел пляж – кое-где лишь фигурка, другая…
– Идите, Павел Петрович, я посижу тут еще.
– Пойду, пожалуй.
– А скажите, Павел Петрович, у вас отец… жив?
– Отец? Вы все-таки моего отца знали? Василий Борисович, знали?!
– Ваш отец, насколько понимаю… и очевидно… Петр Юрченко. Так, Павел Петрович? А я знал из Воронежа Юрченко… Юрченко Андрея. Да, Андрея Юрченко.
– Нет, мой, конечно, Петр… Он пропал без вести, Василий Борисович. Я его не помню. Я родился, а он ушел от матери, от нас. К другой женщине. А тут война… По слухам, пропал без вести.
– Война, – сказал старик, – а все ж кого мы осилили, Павел Петрович, мировой фашизм!
Старик опять постучал палкой о камень – твердо и властно. Он даже улыбнулся Павлу – изломанно подвигались его мятые губы, показали сносившиеся золотые коронки зубов.
– До встречи в пансионате, Василий Борисович! Не опаздывайте к еде-питью!
Прыгал Павел с выступа на выступ, и мелкие камешки, брызгаясь из-под ног, больно били по щиколоткам. Больней бы надо, еще больнее! «Расхвастался, – терзал себя Павел, – пижон! Ах, как права Ольга, – жалкий я человек, размазня, медузообразный…»
…А в комнате Павла поджидали гости – профессор Гелембиовский с внуком.
Дрянной мальчишка, высунув набок язык, азартно резал Ольгиными маникюрными ножницами купленный утром, еще не читанный номер «Огонька» – пластиковый пол был в мелкой, исстриженной бумаге. «Нашему Вольке она уши оборвала б за такую самодеятельность», – раздраженно отметил Павел.
Профессор подал руку с вежливой улыбкой:
– Приветствую вас, коллега!
– Понимаешь, Павлик, – сказала, торопясь, Ольга, – мы разговорились с Михаилом Аристарховичем… Выяснилось случайно, понимаешь, что ты, оказывается, делаешь свои первые шаги в той области науки, которую разрабатывает Михаил Аристархович… Как это интересно, понимаешь? Откупорь, пожалуйста, – вот штопор! – бутылку… Вы, Михаил Аристархович, не против «Киндзмараули»?
– Гм… Подчинимся, а, коллега?
Павел, не показав глаз, наклонил голову.
Внук профессора сопел, потихоньку портил воздух, прицеливался к библиотечному тому «Жизни животных» – тыкал ножницами в суперобложку…
Навалившись грудью на палку, старик следил, как бежал молодой Юрченко вниз, к дороге. Молодой Юрченко… Когда в холле главного корпуса четыре дня тому назад он случайно увидел на столе телеграмму, присланную из Воронежа некоему Юрченко, он сел в кресло и стал ждать, кто же возьмет этот телеграфный бланк. Он решил, что будет сидеть до вечера, но обязательно дождется…
Мягко открывалась и закрывалась огромная стеклянная дверь, входили и выходили отдыхающие; некоторые копались в груде конвертов на столе – искали письма на свое имя; а телеграмма одиноко лежала чуточку поодаль от этих разномастных проштемпелеванных конвертов, и минуло уже не меньше двух часов, как приступил он к своей сторожевой вахте… О чем думал он? Кажется, ни о чем особенном. Всем живым и разумным, что есть в нем, владело одно желание: увидеть Юрченко, увидеть… Горячо прилила кровь к вискам, пульсировала толчками и стихла незаметно, оставив предчувствие близких сердечных спазм и легкий холодок в пальцах рук.
По-прежнему сновали мимо люди – в шортах и джинсах, мини-юбках и расклешенных ярких брюках; с улицы люди привносили в холл запахи соленого моря, цитрусов и местного кисловатого вина. Он слышал обрывки разговоров, замечал тайные взгляды и знаки, которые бросались одними и улавливались на ходу другими, помог незнакомой женщине закрыть непослушную «молнию» на сумке, и все это для него было чем-то обязательным и успокаивающим, дающим подсознательное чувство своей слитности с окружающим. Пожалуй, он незаметно обманывал себя, что неодинок сейчас, не может, не должен быть одиноким, когда наконец-то состоится его встреча с Юрченко…
А скорее всего это не т о т.
В тысячный, возможно, раз стеклянная дверь снаружи подалась внутрь холла, в нее вошел полнеющий мужчина лет тридцати или больше – и это уже был т о т, кто должен взять телеграмму… кто подойдет к столу и возьмет ее… Узнал его, даже мысленно успел примерить на него армейскую форму сорок первого года с треугольничками младшего командира на петлицах. Это был, конечно, Петр Юрченко, а на самом деле – сын его, удивительно похожий на отца. И глаза те же – округлые, карие, навыкате, оставляющие впечатление доброты и незащищенности. На макушке (смотри-ка!) тот же непокорный, закрученный вихор, не поддающийся расческе (вспомнилось, как Петр Юрченко плевал на ладонь, приглаживал его)… Только отец посуше был, жилистее; была у отца выправка «кадровая»…
Молодой Юрченко повертел телеграмму в пальцах, надорвал ее, пробежал глазами…
Он поднялся из кресла, шагнул к нему, внезапно успокоившийся, тяжелый от усталости, затянувшегося ожидания. Состоялся их первый разговор. «Вы, значит, Юрченко?» – «Да. Что вас интересует?» – «Нет уж, не интересует…»
А сейчас, если разобраться, он весь во власти возбуждающего желания: понять, черт возьми, что же за человек молодой Юрченко, заглянуть в н у т р ь его, в чем-то убедиться, какие-то сомнения отбросить… Понять тайное течение мыслей молодого Юрченко, поставить его рядом с родителем, на одну плоскость или как бы на медленно двигающийся круг, который бывает на сцене в театре, – поставить и, тихо вращая, поворачивая так и сяк, смотреть, изучать, чтобы возненавидеть или смириться… Как болезненно это его желание, как оно обязательно; завладев им, оно лишило покоя, подняло кровяное давление, и он бы не курил, да курить хочется.
Вчера ночью по поверхности моря шарил прожектор пограничников, его отсветы дрожали на розовых стенах и белом потолке комнаты, тревожили, не давали заснуть; он глотал сигаретный дым, ворочался, и было мгновение, когда захотелось встать с койки, спуститься этажом ниже, постучать в дверь, за которой спят Юрченки, вызвать Павла… Нащупал у стула протез, подтянул его на матрац, думая, как постучит и скажет: «Пойдем…»
Он все же не сделал этого; а утром подошел к ним перед завтраком, и жена Павла Петровича (Ольгой звать) ответила на его приветствие с досадливой брезгливостью. Ее можно понять: опять этот несчастный инвалид, кривобокий калека, – почему они должны терпеть его навязчивость?! Она ответила, словно медный грош к ногам бросила.
А он той ночью лихорадочно и зябко видел, как Павел Юрченко идет за ним следом на улицу, они садятся на скамью у причала – плеск воды о сваи, звездное небо, прожекторный луч с горы… «Слушай меня, Юрченко Павел. Слушай, как был лишен я радостей, которые есть у тебя, нормального, здорового человека…»
Он не сделал этого и сегодня соврал; пугаясь, соврал: «Ваш отец, насколько понимаю… Петр Юрченко… А я знал… Юрченко Андрея…»
И во-он где уже Павел Петрович Юрченко – у ворот пляжа, еле различимый отсюда… Бегает пока, надо думать, без одышки, хотя и полноват, жирок на мышцах… А ему сейчас скрипеть казенной ногой – скрип-скрип, скрип-скрип (как тому медведю из известной сказки). И подводит тут, на юге, «внутренний барометр»: редкие капли зашлепали о пыльные камни, намочили голову, лицо – разойдется дождичек, не хочет дожидаться вечера. Душно-то как… Пошли, что ж, надо идти… Молодой Юрченко сказал про своего отца: «По слухам, без вести…» Правильно. Он сам после войны запрашивал – бумага в ответ пришла: такой-то в списках числится без вести пропавшим. Для Министерства обороны военнослужащий Петр Юрченко считался «без вести»; для сына тоже, выходит, «без вести», и для кого-нибудь еще также… Правильно.
Что-то беззаботное, сильное и надменное было в том, как наперекор штормовой мгле, наползающей с моря, ярко вспыхнули многочисленные окна пансионата. Холодноватый сиренево-матовый свет дневных ламп лился наружу, а вместе с ним выбивалась на улицу и вязла в густом шуме прибоя ненавязчивая музыка; огромное современное здание, как единый живой организм, дышало в неутомимом возбуждении, было заполнено голосами, звоном посуды, хлопаньем дверей, перестуком бильярдных шаров, гитарным треньканьем и конечно же запахами – вкусной еды, вина, стойкого одеколона из парикмахерской на втором этаже.
Все это старик услышал и почувствовал, проходя через вестибюль и коридорами в свою угловую комнату. Там он сел у стола, не имея сил стащить с себя мокрую одежду, и долго сидел, растирая непослушными пальцами левую сторону груди. Тяжелое и горячее нарастало в груди, распирало ее до ноющей боли, которая медленно растекалась по всему телу, завладела головой, и голова, собрав эту боль, стала пухнуть, разрываться, – вот-вот лопнут ушные перепонки, глаза… Он затолкал в рот сразу две таблетки, стал терпеливо ждать облегчения, которое наступило не скоро, но принесло с собой ощущение необходимости выбраться из комнатного сумрака, выпить что-нибудь холодное и солоноватое – бутылку минеральной воды со льда… Переоделся в сухое; и как все это привычно, знакомо: желание после приступа выйти на люди, слабость в предплечьях, покалывание в ушах, а при этом покалывании – обострение слуха, когда беспокойно и жадно впитываются все живые звуки, близкие и дальние… Он снова услышал, что делается на этажах, и еще услышал, что где-то внизу, в сырых зарослях магнолии, мяучит котенок, а за тонкой стеной, разделяющей его комнату с соседней, мужчина добивается уступчивости у женщины, и та играет с ним, как заманивает, увлеченная этой игрой, ожиданием близкого счастья…
Старик вышел, поднялся четыре пролета на лифте: какие-то секунды, замерев в дверях, осматривал сияющую стеклом, зеркалами и белоснежными скатертями глубину полупустого ресторана; увидел, что неподалеку от возвышения для оркестра сидят супруги Юрченки, наткнулся на неприязненный взгляд Ольги, прошел к свободному столику у стены. Расторопный официант подбежал быстро; старик мысленно и с усмешкой сказал себе: «Что ж, Вася, однова живем…» – и заказал официанту двести граммов водки, которую не пил сто лет (вернее, двадцать с лишним!). Появившиеся оркестранты, грянули музыку, лохматый стройный парень красивым голосом запел в микрофон о своей любви к маленькой стюардессе; из-за столиков вставали и шли танцевать…
Он смотрел на танцующих, выпил немного водки, которая оставила деревянный привкус во рту, с отвычки обожгла пищевод; проследил бездумно, как пошли танцевать Ольга и Павел, – на Ольге узкое, обтягивающее тело платье с большим вырезом на спине, из какой-то переливающейся, словно чешуйчатая шкура змеи, ткани. Старик вдруг ощутил до физического осязания в израненной ноге и давно потерянной, как можно легко и радостно скользить по паркету, когда слышишь дыхание женщины у своего плеча, понимаешь, как послушна она твоим рукам… Женщину с полупоклоном нужно подвести к тому месту, откуда она уходила с ним танцевать, и можно что-то говорить ей, надеясь и великодушно прощая, переживая и внешне оставаясь самим собой… Ведь было ж когда-то такое, и оркестр был в городском саду и еще где-то, а в общежитии девушек с ткацкой фабрики был патефон – поскрипывали в общежитии новенькие лейтенантские портупеи и хромовые сапоги, и: «Разрешите, Клавочка!.. Только с вами!..»
Павел и Ольга вернулись к столику; Павел подмигнул ему и тут же отвернулся. Старику стало жарко, он отодвинул рюмку с водкой, сильно потер глаза. Хотелось пить – воду, холодную, ледяную! Но официант исчез… Павел, близко наклонившись, шептал что-то Ольге, та улыбалась – не его, кажется, словам, чему-то своему; и лохматый парень, не уставая, пел в микрофон – протяжный заученный стон под музыку уходил к высокому потолку, растворялся в сигаретном дыму и отраженном неоновом свете… «Поковыляли отсюда, – сказал себе старик, – баю-бай, иль газетку почитаем на сон грядущий, а то до «скорой помощи» досидишься…» Достал деньги, подсунул синюю бумажку под графин. Можно вставать… Павел снова издали подмигнул, растянув губы в улыбке, – отдыхаем, мол, веселимся, порядок, так и должно быть…
«Разморгался, – хмуро подумал старик. – А хочешь… хочешь!..» Даже задохнулся в сладостном предвкушении близкой мести, готовый подойти к их столику, властно, грубо сесть рядом, видеть, как будут меняться их лица от его слов… Он подойдет и скажет: «Что ж, Павел Петрович, извините, однако каждый должен знать свою родословную…» Что-нибудь для начала такое, а можно проще, без извинений: «Я обязан известить вас…»
Павел ест и поесть, видно, любит – не подпорчены пока зубы, нормальный желудок… Он ест быстро, утирается салфеткой; Ольгу же пригласил танцевать белобрысый морской капитан.
Старик смотрит… Как, черт возьми, сильна природа: Петр Юрченко передал сыну свои черты, жесткий закрученный вихор на затылке, добренькие телячьи глаза… Наследственность, гены – так, что ли, это прозывается.
Павел поднялся с места, идет к нему; он присел на краешек стула напротив, сказал, будто оправдываясь:
– Погода-то за окном дрянь. Тошно.
За неимением второй рюмки старик вылил из графинчика водку в чистый фужер, поставил его перед Павлом, кивнул: пей – и свою рюмку поднял. Павел, отказываясь, мотнул головой, покосился на танцующую Ольгу, скрытую широкой спиной моряка; чокнулись, выпили… Павел махом до дна, старик по-прежнему лишь пригубил.
– Погодка – отдых какой теперь! – смущенно сказал Павел.
– Что такое отдых? – перебил его старик. – Отдых – когда сам с собой… при любой погоде!
– Приехали купаться, загорать… У меня никогда раньше не было, Василий Борисович, чтобы так – побоку дела, лежи себе загорай… То бедность, то институт, то – пропади она пропадом! – диссертация…
– Бедность? – Старик хмыкнул. – У вас?
– Не сейчас… В детстве, юности. На первых курсах института ходил по квартирам паркетные полы натирать. По квартирам, в трест зеленых насаждений, к строителям в управление, в другие места. Платили…
– Досталось?
– Было.
– Это на пользу.
– Куда уж там!
– Идите, – дернул подбородком старик, – супружница ваша… ищет.
Ольга, освободившаяся от капитана, взглянула – раз-другой – в сторону Павла, и он, виновато прицокнув языком, пожелал старику хорошего настроения, заторопился к своему столику.
Старик вздохнул, тяжело встал со стула, пошел к выходу – вызывающе стучала его самшитовая палка. На него оглядывались, но молодецки грохнул джаз, все потонуло в нем, кому какое дело до хромого старика… Лишь официант подбежал к столу и, успокоенный, взял с него оставленную пятирублевку.
А старик, добравшись до комнаты, долго, ненасытно пил перехлоренную воду из крана умывальника, вымочив воротник рубашки, отвороты пиджака; и не гасло, разрасталось пламя в груди, сердце томилось в ожидании сильной боли. Открыл окно – мокрая пыль близкого моря ударила в лицо: там глухо перекатывались волны, слепо ударялись о бетон набережной; моря в темноте не было видно – угадывалось оно, и где-то далеко-далеко черная вода отсекалась от такого же черного неба изогнутой серебряной полоской, будто клинок дорогой старинной сабли сиял в кромешном мраке.
«Ерунда, – пробормотал старик, упираясь ноющей грудью в подоконник. – Он мужик нормальный… грамотный, сытый, конечно, теперь сытый – по нынешней безбедной жизни. Студентов учит… нормальный! Жена строгая у него, так это, наверно, ему в привычку… притерпелся…»
Зримо выплывало лицо Павла – жующий рот, подмигиванья… И то, другое, – дьявол возьми! – и то, другое, было не так уж давно, чтобы забыть подробности, – и в сентябре сорок первого года было, в Сумской области, под хутором Крыжки. Вторые сутки он валялся в овраге с простреленными ногами, пил и не мог напиться горькой водой, за которой ночью ползал на болото сержант 2-й роты Юрченко Петр. Рядом ходили, ездили немцы, смеялись, громко разговаривали; лениво кричал в громкоговоритель немецкий зазывала, предлагая разрозненным красноармейским группам явиться на сборный пункт. Обещал хлеб, баню с мылом, врачебную помощь раненым, культурное германское обхожденье… «Нас, получается, зовут, – сказал тогда Юрченко Петр, – а вас, комсостав, звать, сволочи, не желают…»
Еще, может, сутки прошли или двое суток, – был он в полубреду, кровавые мухи впивались в его глаза, кусали ноги, он бился и вскрикивал; Юрченко зажимал ему рот ладонью, умолял: «Тише, товарищ политрук, пропадем…» А после утро пришло, он то ли очнулся, то ли проснулся – увидел, как в солнечном свете сержант Юрченко, без ремня, без пилотки и без оружия, размахивая рукой и оглядываясь, ведет к нему немцев с автоматами. Оставалось немцам пройти шагов двадцать – пятнадцать, двигались они гурьбой, безбоязненно и шумно; он за это время окостеневшими пальцами нашарил кобуру у бедра, но кобура оказалась пустой, без пистолета. Тогда он заставил себя перевернуться на другой бок, с трудом вытянул из тесного кармана брюк схороненную для печального конца «лимонку». Изогнувшись, он бросил ее им навстречу – граната упала в траву ближе к нему…
«Вот так события складываются, – пробормотал снова старик, – что скажешь, Павел Петрович Юрченко, ученый ты человек?..»
Он теснее прижимался грудью к подоконнику – второй раз за сегодняшний день прихватывало сильно, как никогда раньше; подумал, что нужно позвать коридорную, чтобы она сбегала за дежурной медсестрой… «Отгулял, кажется, Вася, – сказал он себе, – хватит зарплату на лекарство переводить…» Показалось ему, что за окном не сырая южная ночь, а русский осенний лес в прелой духоте опавших листьев, поздних грибов, перезревших ягод; захотелось упасть на колени, поворошить багряные листья руками, найти в них что-то… Он наклонился, и снизу, навстречу ему, полыхнуло бесцветное пламя.
Море то затихало, то снова взыгрывало пенными волнами, выбрасывая на гальку пляжа обломки досок, бамбука, грязный плавучий мусор и обессиленных рыб. С фиолетового неба сеялся мелкий дождь, все под ним как бы обновлялось, приобретало особый блеск – упругие листья лавра и орешника, зонты, прозрачные полиэтиленовые плащи, черепичные крыши, вывески и автомашины… Дождь шел спорый, затяжной; вода в море сделалась холодной, а он был теплый, с дымком, и неуютно становилось не от него, а от повторяющихся грубых порывов ветра, берущих свой гигантский разбег где-то далеко у горизонта.
Старика хоронили на третий день, не дождавшись сухого просвета.
Родных у старика не оказалось – ни детей, ни жены; по телеграмме, посланной из пансионата, прилетела самолетом пожилая женщина из учреждения, в котором он работал, – член месткома.
…Когда над стариком вырос мокрый рыжий холмик, все тут же ушли с кладбища, спеша укрыться под крышу, – женщина, сказавшая о покойном прочувствованные слова, поцеловавшая его в лоб; хмельные неряшливые дядьки с заступами в руках, пять-шесть человек из пансионатских, составлявших похоронную процессию, и приставший к процессии никому не известный бродяга или, возможно, обнищавший «дикий» турист в обтрепанных техасских штанах и босой… Все ушли – остался лишь Павел: мок, смотрел, как дождевые струи косо входят в свежую землю могильного возвышения, обмывают нагроможденные вокруг серые и черные памятники, плиты, кресты, под которыми нашли отрешенный приют христиане, мусульмане, иудеи и современные некрещеные атеисты… «Прощай, старик», – сказал он и тоже пошел прочь.
Он был уже у кладбищенских ворот, но вдруг оглянулся и, сам не понимая, что это с ним, тихо и скорбно повторил: «Прощай, старик… Прощай!» Повторил, захотел вернуться и тут же подумал, что, может, не нужно, лишнее… Зачем?.. Топтался на скользкой тропинке, не зная, идти ему куда или не идти; и, как зов издалека, приходило смутное желание что-то понять, изменить в своей судьбе – не просто жить под этим бесконечным дождем, а понять…
Он заплакал, содрогаясь плечами; это были единственные слезы по старику и вообще были просто слезы…
1970







