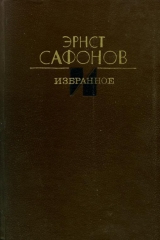
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
– Натурщицы, – пробормотал Дмитрий, вежливо высвобождая рукав пальто от толстых пальцев дежурного. – А больше врут!
Он пошел на другой конец платформы, ощущая спиной взгляд маленьких подозрительных глаз, в которых успел заметить зависть и – непонятно отчего – ненависть.
«Встречу ее – хорошо ли это? – отрешаясь от слов и глаз дежурного, подумал Дмитрий. – Скорее не нужно!.. Что было – быльем поросло. У нее, конечно, семья, муж, своя жизнь. Пятнадцать лет – она уже такая женщина, что вся в себе, и юность для нее забылась – одни заботы. Это же деревня – горшки, ухваты, колхозная работа… Может, уехала куда? Был бы страшно рад, если судьба ее сложилась удачно, кто-то ее любит… и чтобы в конце концов простила меня она…»
Он снова жадно закурил – горьким было курение натощак, зыбкая стынь охватывала тело; о доски платформы яростно терзал метлу дежурный; над крышами близкой Алексеевки закурчавились первые дымки, затарахтел там мотор – утро начиналось движением и голосами.
«…А если у нее вроде как у Катюши Масловой? – снова усмехаясь, сказал он себе, будто бы обманывая кого-то другого этой усмешкой и тут же издеваясь над своим сентиментальным порывом. – Однако я в Нехлюдовы не гожусь! И в Львы Толстые не вышел… Нет-нет, не гожусь, увольте…»
– Друг любезный! – позвал он дежурного. – Согреться б нам с тобой, а? Позавтракать.
Тот понял, ответил с готовностью – глазки его засветились уважительностью и преданностью:
– Раз есть на што…
– Есть. – Дмитрий положил на его ладонь пятерку.
– Та-ак, – прикидывал в уме дежурный, взглянув на часы, – пятьдесят минут до почтово-багажного, за двадцать обернусь… Жди, милый!
Дмитрий все вышагивал по платформе, от нечего делать высчитал ее приблизительную площадь в квадратных метрах, прутиком на снегу нарисовав чертиков, крупно вывел: ЧИТАЙТЕ Д. РОГОЖИНА! Собственная фамилия на сугробе выглядела диковато и хвастливо, нисколько не шуточно – перечеркнул.
Прибежал запыхавшийся дежурный с двумя бутылками паршивого вермута, банкой промерзшей баклажанной икры, тоже промерзшей, твердой, словно кирпич, буханкой хлеба.
– Порядок, – похвалил Дмитрий. – Жить можно.
Они сидели за столом, когда возник, нарастая, рокот тракторного двигателя, и успели все разлить по стаканам, выкурить по сигарете, поговорить и, наговорившись, помолчать, – трактор же все гудел там, за деревьями, пробивая дорогу по снежной целине.
Но вот он – видно было в окно – выполз к переезду, таща за собой огромные порожние сани на широких железных полозьях.
Соскочил на снег тракторист, помог выбраться из кабины женщине, одетой в тяжелый тулуп, и мальчику лет пяти-шести, обвязанному поверх пальтишка теплой шалью – за его спиной крылышками торчали концы узла. Они двинулись гуськом к платформе; женщина поотстала, повела сына к тесной будочке, на двери которой чья-то твердая рука размашисто обозначила несмываемой краской: УБОРНЫЯ.
– Приехала бухгалтерша, – сказал дежурный. – Посиди – билеты выдам.
– Тоже пойду…
– Допей тогда…
– Не хочу.
– В рай за волосы не тянут, – сказал дежурный. – Твое здоровье!
– На здоровье…
На платформе протянул приветливо руку тракторист – парень в замасленном солдатском бушлате и солдатской шапчонке с неснятой армейской звездочкой.
– Вы к нам? – спросил. – Обождать придется с часок. Загружусь горючим, здесь, у переезда, встретите меня. – И пожалел: – Легкомысленно одеты, тут не город…
– Выдержим!
Женщина за их спинами сказала, обращаясь к дежурному:
– Здравствуй, Бахметьев. Давай билеты…
– Носки-то хоть шерстяные? – поинтересовался тракторист.
– Шерстяные, – успокоил Дмитрий.
– Кабина протапливается, но дорога не ресторан, верно?
– Верно, – согласился Дмитрий.
– Меня Гришей зовут.
– Дмитрий.
– Мам, – сказал за их спинами мальчик, – хочу…
– Господи, – удивилась женщина, – ты же только ходил…
– Хочу!
– Потерпи до поезда.
– Хочу!!!
– Вот за…! – весело сказал про мальчика Гриша, подмигнув Дмитрию.
Дмитрий оглянулся: женщина – уже без тулупа, в пальто с меховым воротником, ладных белых валенках – вела малыша к будочке.
– Договорились, считай? – спросил Гриша.
– Буду ждать у переезда, – подтвердил Дмитрий.
– Пошел я…
Снежная равнина под утренним солнцем отливала жестковатой синевой; жалость вызывали нахохлившиеся воробьи, прыгающие на голых тонюсеньких лапках под окнами станционного строения; у Дмитрия мерзли пальцы в перчатках. Дежурный подтолкнул в плечо:
– Слышь, на обратном пути ко мне.
– Есть!
– Сала нажарю…
– Стимул, – сказал Дмитрий, – Никуда не денешься.
– Твое дело, – вроде бы обиделся дежурный. – Только, думаю, мокрый дождя не боится…
– Кто будет спорить, – ответил Дмитрий; увидел, что женщина вывела сына из уборной, потуже затянула шаль на нем; и рассеянно всматриваясь в ее лицо, он вдруг почувствовал, как холодеет, сжимается его сердце, а тело заполняется горячим теплом, – шла к платформе о н а, Кланя… Вернее, шла женщина, которая в ы р о с л а из той длинноногой хорошей девочки, которую он знал когда-то как Кланю и о которой он думал ночью и сегодня утром, минутами раньше.
– Хочешь верь, хочешь нет, – пробормотал Дмитрий; не ощутил он радости или чего-то похожего на нее – лишь пугливое удивление, маленький страх: неожиданно-то как – и не разойтись.
А бухгалтерша тянула за руку капризного мальчишку с бледным и злым личиком, тот норовил сбиться с протоптанного следа – ему в глубокий снег хотелось, и мать досадливо дергала его к себе. Дмитрий узнавал те прежние глаза – глубокие, большие, заполненные темным; но лицо у нее стало суше, резче чертами, и состаренным не по возрасту показалось оно ему – с какой-то болезненной желтизной на щеках, с узелками морщин, с прядкой поревевших волос из-под легчайшего пухового платка. Она была неплохо одета – и этот платок, и пальто «букле» с норковым воротником, и городские кожаные перчатки – действительно неплохо было, если бы только не оставляло ощущение, что все как бы с чужого плеча, сама хозяйка равнодушна к своему одеянию, не привыкла и не хочет привыкать к нему…
– Витька, – сказала она расшалившемуся мальчику, – совесть имей!
В морозном воздухе ее голос – несильный, с хрипотцой – прозвучал очень ясно и звонко.
Дмитрий подумал, что не нужно ему смотреть вот так, в упор, лучше отвернуться; пусть подойдет совсем близко – тогда он что-нибудь скажет, что-нибудь… А сам смотрел, и плыло в сторону, в другую ее нездоровое лицо, будто смещалось; не живые ее глаза он видел, а слепые пятна, неспособные откликнуться на его тревожный ждущий взгляд, – он, нездешний человек в коротком пальто, меховой шапке, теплых ботинках на «молнии», с толстым портфелем в руках, не интересовал э т у женщину, не было в ней любопытства к нему… Вздрогнул, когда ее глаза все же на какой-то миг скользнули по нему, задержались на нем, – на один миг всего, и он внутренне подался вперед, навстречу ей, однако она отвернулась безучастно, скучающе; и опять на морозе туго прозвенел ее голос:
– Витька, господи, обормот!
«Витька, господи, обормот», – повторил про себя Дмитрий; он уже на мальчика смотрел, на его сердитое личико, малокровное, не подрумяненное стужей – с водянистой синевой у губ и под глазами. Были они близко от Дмитрия – различал на ее пальто приставшие клочки овчинной шерсти с тулупа; по-прежнему она не видела или не считала нужным видеть его; только мальчишка вдруг, таясь от матери, показал ему кукиш – и Дмитрий, словно обжигаясь морозом, сдавленно сказал:
– Витька, не хулигань!
Тут она с недоумением взглянула на него, и это секундное недоумение перешло чуть ли не в ужас: остановилась, руку тыльной стороной ладони к подбородку поднесла, будто защищаясь; и горячими были теперь ее глаза, с жестковатой, не отпускающей от себя силой в них…
– Клавдия, – произнес за спиной Дмитрия дежурный, – гудит твой ташкентский!
– Слышу, Бахметьев, – не произнесла она, а быстро выдохнула из себя слова; и добавила спокойнее: – Гудит, Бахметьев.
– Здравствуй, Клавдия, – шагнул вплотную к ней Дмитрий, руку протянул.
– Здравствуйте, – медленно сказала она и стала торопливо сдергивать перчатку, но та не поддавалась; Дмитрий поймал ее пальцы и пожал их.
– Знакомые никак, – лениво заметил дежурный. – Приезжают, уезжают, а тут сидишь сиднем…
– Знакомые, – натянуто улыбаясь, сказала Клавдия; пунцовые пятна тронули ее щеки; он подумал: «Неужели так можно измениться, а я?!»
Быстрый поезд с заснеженными вагонами, рождая вокруг себя поземку, выкатывался из-за поворота – тяжелый перестук катился по белой округе.
– Твой? – кивнул Дмитрий на малыша.
– Чей же еще, – ответила, и он опустил свои глаза – сурово-внимательным, очень прямым был ее взгляд: искала что-то в нем, Дмитрии, или спрашивала о чем-то…
Надо было говорить – сказал, ненавидя себя за жалкую улыбку:
– Встретились… вот.
Поезд, обдав их пуржистым ветром, подкатил к платформе; Клавдия, подталкивая упирающегося сына, молча пошла к открывшейся двери вагона – Дмитрий стоял, не зная, что сказать еще и что делать. Нелепо-то как, черт-те что…
– Дядя! – крикнул, обернувшись, мальчик.
– Да! – отозвался Дмитрий, ощутив внезапную радость, что он не оставлен просто так, с обидным, полупрезрительным равнодушием к нему: вот мальчик все же позвал…
Он бросился вперед за ними, к вагону, – Клавдия отдавала проводнику-узбеку билеты; проводник подсадил малыша на ступеньки, тот ловко, по-обезьяньи вскарабкался на площадку тамбура…
– Клавдия, – сказал Дмитрий; исправился, но с трудом далось ему то давнее имя: – Кланя!..
– Устали, поди, ездить? – спросила она как-то через плечо, готовая подняться в вагон (лишь после, спустя минуты, дошло до него – звучала в вопросе насмешка).
Ответил же поспешно и глупо:
– Да нет… и не в том же дело… Приехал – это да.
– Вы легкий, – сказала она, – не устанете.
– Садись, залазь! – приказал проводник. – Две минуты стоянка.
Мальчик из тамбура снова крикнул:
– Дядя!
Он выглядывал из-за проводника, заслонившего собой выход, и в глубине тамбура стояла Клавдия с темными отсутствующими глазами.
– Дядя!
Мальчик, ликуя, показал Дмитрию на удивление длинный обслюнявленный язык.
Вагон прошел мимо… за ним другой, третий… Снежная пыль била Дмитрию в зрачки, их щипало; дрожали освобожденные рельсы, отсвечивая солнцем; и Дмитрий, ссутулясь, мелкой рысцой побежал к переезду, куда должен прийти трактор, – побежал, не уверенный, что ему теперь нужно ехать в «Зарю». Он тряс головой, жмурился, постанывал даже – гаденько на душе было.
Трактор полз через снега будто слепой – так, во всяком случае, казалось Дмитрию в кабине, нырял трактор, тыкался тупой мордой в заносы, его качало, швыряло, бросало, как корабль в штормовом море, с борта на борт… Гриша, двигая рычагами, поглядывал в заднее запорошенное оконце: сани заносило, и он боялся, что порвется трос растеряет бочки. Пытался Гриша завязать беседу (приходилось из-за шума двигателя кричать); но Дмитрий был хмур, нахохлен, отвечал односложно и неохотно – замолчал Гриша, насвистывая веселый мотивчик.
«Нет во мне какого-то живого механизма, – думал Дмитрий и не мог отрешиться от только что пережитого – как они встретились у поезда; жгла эта встреча. – Нет такого механизма… Слаженно крутятся все шестеренки, звенит, словно трамвай, моя машина, несется по твердым рельсам: эй, люди, встречайте, это я! Мне улыбаются, я улыбаюсь. Я улыбаюсь – мне улыбаются… Пишу, печатаюсь, вот опять что-то написать должен… Эй, это я!.. Я, который ездит и пишет, который приехал и уедет, который захочет – напишет, захочет – нет… Который с вами и без вас, который со всеми вместе, но сам по себе… А живой механизм – это когда поломка обязательно, когда буксуешь, перевертываешься вверх колесами, техосмотр нужен и капитальный ремонт… А мне она сказала: «Легкий… не устанете…» Может, вправду не устану?..»
Вспомнилась почему-то собственная комнатушка на Аэропортовской улице, заваленная книгами, с иконами на стене, которые насобирал осенью в северных деревнях, – и потянулся мысленно туда, в Москву, представив, как стоит в тесной прихожей у общего квартирного телефона, звонит кому-нибудь: в издательство, например, или Вике, обещая ей хороший вечер, а может, Сашке или Феликсу, договариваясь встретиться в ЦДЛ[28]28
ЦДЛ – Центральный Дом литераторов.
[Закрыть]… Тут же пришло на память, как однажды – давно это было, первый сборник тогда выпустил – он письмом приглашал в гости своего бывшего редактора Акулова, обещая сводить его в Дом литераторов, показать знаменитых на всю страну писателей… Акулов ответил витиевато, какими-то ненатурально-слащавыми фразами, вроде униженно расшаркивался; Дмитрию больно за него стало, больше ему писать не стал. А славный он мужик, несмотря ни на что, Акулов, со слабым доверчивым русским сердцем – из таких веревки вьют. Уехал, по слухам, в Казахстан или Киргизию с новой женой. Уехал, а то бы Дмитрий сейчас навестил его – поговорил бы всласть!
– Послушай, – громко сказал Дмитрий, – ты эту… ну эту, Клавдию, бухгалтершу вашу, хорошо знаешь?
– Отчего ж не знать, – обрадованно отозвался Гриша, – соседи!
Гриша взял у Дмитрия сигаретку, оторвал от нее желтый мундштучок фильтра – курил, щуря простецкие ясные глаза; ладонью смахивал испарину с лица, оставляя на розовых щеках темные отпечатки пальцев – дорога давалась трудно.
– Бывал в ваших местах когда-то, – сказал Дмитрий; оправдываясь, сказал: – Помню Клавдию. Девочка совсем была…
– В старину она, может, девочкой была, – засмеялся Гриша. – Как помню, Клавдия, она и есть Клавдия…
– Ты молодой – поэтому.
– И вы не старый.
– Ну, брат, разница!.. Сколько ж детей у нее, у Клавдии?
– Считай, ни одного.
– А этот?
– Приемыш.
– Ну? А муж?
– Объелся груш…
– Что ж, она, Клавдия, всегда… без мужа?
– Так уж и всегда!..
У Гриши, наверно, не было охоты разговаривать на эту тему; однако спрашивали: хоть отрывисто, полупренебрежительно – отвечал:
– У нее ж первый мужик был Толька Загвоздин. Он тихий, Толька Боцман…
– Кто?
– Прозвище такое – Боцман.
– А…
– Тихий, а пить стал – куда что делось! С ножом за ней бегал, дрались они…
– Дрались? – коченея от холодного возбуждения, переспросил Дмитрий.
– По-простому если сказать – дрались. Спасалась она от него…
– Где же он сейчас?
– Боцман-то? В Рязани, на заводе. Но это он подался в Рязань, когда Клавдия с учителем спуталась…
– Как спуталась?
– Приехал новый учитель, она жить с ним стала…
– Почему ж «спуталась»? А если полюбила?!
– А я знаю! – Гриша сплюнул в пол кабины, замолчал.
Дмитрий опять полез за сигаретами, еле справился бесчувственными пальцами с целлофановой оберткой на пачке; тоже помолчав, сделав несколько глубоких затяжек, спросил у Гриши:
– Где ж он, тот учитель?
– А помер, – ответил Гриша. – После гриппа осложнение на мозг – в неделю убрался. А сильный мужик был, из хохлов, высоченный… Однажды видел я через окно – он Клавдию по горенке на вытянутых руках носил… А она хоть сухая, но все ж при теле баба.
– Бог ты мой, – тихо сказал ледяными губами Дмитрий, – судьба-то…
– Судьба, – согласился разговорившийся Гриша. – Она и вдарилась тогда в водку от этой судьбы. После учителя-то… И куда там Тольке Боцману, хоть он мужик, – давала прикурить! В армию, помню, я уходил, самогона три четверти запасли…
– Не нужно об этом, – сказал Дмитрий. – Пьет сейчас?
– Нет. Года три, пожалуй, как выпрямилась. Пацанишку в детдоме взяла… А тут наш деревенский приехал – Иван Иваныч Симаков, без ног, на протезах… Летчик, в аварию попал. Поженились они, а у него одна пенсия сто семьдесят с чем-то рублей…
– При чем тут пенсия? – срываясь на досаду, перебил Дмитрий. – Нашли друг друга… как люди!
– А я знаю? – Гриша ответил. – Живут само собой в достатке, без шума, радиолу вечером крутят…
Трактор ревел, скрипели и трещали сзади сани, загруженные грязными железными бочками; сияла во всей своей ослепительности снежная равнина, и небо было свинцово-тяжелым, низким; полз впереди, стремился туда, где край неба соединялся с землей, рваный тракторный след, пробитый Гришей еще утром. Вдалеке стряли в сугробах тонкие столбы телефонной связи; бугрились, как бородавки на ровном, выпирали из снегов полузанесенные скирды.
Дмитрий был взволнован, и тяжело давили на него слова, сказанные Гришей про Клавдию, – слова голые, в суровой правдивой обнаженности, будто громко и не задумываясь высекал их Гриша на поверхности камня, и высек надежно, а камень этот сейчас перед Дмитрием – навис, огромный и темный. Дмитрий попытался вызвать в себе какое-нибудь воспоминание, способное облегчить, пролить бальзам на раны, – воспоминание из тех далеких дней: ведь тогда он был мальчишка, только-только молоко на губах обсыхало, а мальчишкам должно многое прощаться… Однако приходило на ум прежнее – вся эта история с фельетоном про Тимохина; и оказывается, у человеческой памяти есть подлое свойство: она ничего не выбрасывает, не теряет из своих миллионных кладовых, бережет до определенного момента, неожиданно с медвежьей услужливостью выдает на-гора́ то, о чем, казалось, накрепко забыто, о чем в конце концов можно было бы забыть…
Вот и сейчас Дмитрий, качаясь на тракторном сиденье, спрятав от Гриши лицо в поднятый воротник, с предельной отчетливостью у в и д е л тот день, когда сидел в кабинетике редакции за «Ундервудом», сочинял фельетон… Материал поддавался неохотно, будто разнокалиберные патроны не желали входить в один винтовочный магазин, – и незримое присутствие Клани, мысли о случившемся мешали. Про Кланю думалось тепло, с необъяснимым томлением в груди и во всем теле, а еще была тайная опасливо-настороженная гордость за себя – была она: все ж я мужчина!.. И отгонял прочь ощущение постыдного и унизительного, что горячими наплывами как бы извне, со стороны накатывалось на него и поджигало жгучей краской щеки: удирал, оставив на бугре Кланю, показав спину, – удирал! «Гарун бежал быстрее лани…»
И злясь, бил Митя пальцами по буковкам, высекал мстительно на машинке хлесткие слова – строчку за строчкой…
«…Бежал он в страхе с поля брани…»
Строчку за строчкой! Про травополку и что Тимохин против кукурузы. Об автопокрышках и баллонах, купленных на черном рынке. О массовом пьянстве накануне посевной, да еще с церковным песнопением (тут, конечно, приврал)! И про то, как избиваются в «Заре» колхозники и молчат про это, боясь председательской мести (тут, конечно, «дофантазировал»!).
Косые лучи входившего в силу весеннего солнца тревожили через окно белобрысый Митин затылок; сбоку, за соседним столиком, икал и покряхтывал неопохмеленный Поварков, названивал по телефону старик Курилкин, собирал информацию, – Митя же сочинял, Митя творил…
Заряд вдохновения иссяк где-то к обеду; оставив недопечатанную страницу в каретке «Ундервуда», Митя сходил домой, был накормлен бабушкой, прочитал центральные газеты, пришедшие, как всегда, с запозданием на сутки. В газетах столичные журналисты писали остро и красиво, смело подавали факты, – позавидовал Митя. И, вернувшись в редакцию, он стиснул зубы, собрал всю волю в кулак и торопливо допечатал заключительный, «ударный» абзац фельетона – про необмолоченные скирды, которые председатель при уборке п о ч е м у-т о оставил неучтенными и которые погибли от мышиного нашествия… Заголовок фельетону дал спокойный: «Ухабы». Акулов подправил: «Тимохинские ухабы». Подумал, зачеркнул прежнее, назвал по-новому – «…Закон не писан!».
…Все те дни оставили ощущение огромного неба над головой, под которым свободно и хмельно дышалось, и знал Митя, что скоро он уедет отсюда, «из страны березового ситца», – прости-прощай, былое, здравствуй, грядущее! В мае его вызвали в Рязань на месячный семинар; на весь июнь оставили стажироваться при отделе информации областной газеты; а вернулся в июле – со слезами на глазах Акулов подписывал приказ об освобождении от работы Д. С. Рогожина «в связи с выездом на учебу». Уезжал Митя в университет, уверенный, что там его ждут…
Тогда-то Митя и получил письмо из «Зари», написанное на тетрадочном листке высокими угловатыми буквами. Кланя сообщала, что вначале сильно сердилась на него, Митю, за Тимохина, за то, что не сдержал слова, но вот сейчас поняла: «общественное выше личного». Письмо было суховатое, в нем даже приводились цифры социалистических обязательств, взятых колхозом с приходом нового председателя, и лишь в конце странички, где и места, считай, не осталось для букв, уместилась кое-как прозрачная фраза:
«С нашего бугра вся дорога видна, гляжу я на нее…»
Митя долго – уже в Москве – носил это письмо в заднем кармане брюк, а после оно истерлось на сгибах, запотнилось – выбросил скатанным комочком в уличную урну. Хотел, правда, ответить Клане, да где уж там: столица – деспот, взяла к себе, обо всем заставит позабыть… И к тому ж на первых порах свирепо приходилось драться за право жить хотя бы относительно сытым – не сразу отыскал, где бы печатали, платили два-три червонца в месяц… Карабкался упрямый Митя по нескончаемой лестнице вверх, некогда было перевести дух, вниз посмотреть. (Иное дело сейчас, когда уже не Митя – «молодой писатель» Дмитрий Рогожин…)
– Они? – спросил Дмитрий, ткнув пальцем в направлении завидневшихся темных дворов: вроде сбившееся в кучу непонятное стадо посреди белой безграничной пустыни.
– Наши, – кивнул Гриша.
– Слушай, – сказал Дмитрий, – получилась, говоришь, у нее жизнь с этим… летчиком?
– Вы про Клавдию? А чего ж! – Ухмыльнулся: – Присушила она вас, с чего б?
– Любопытный просто я.
– Любопытный! – Гриша рассмеялся злорадно как-то, облизнув обожженные стужей губы. – Мы, поглядеть, все любопытные… Из армии уезжал когда – так с чемоданом через забор прыгал, будто не домой, а в самоволку смывался.
– Чего ж так?
– Она у проходной ждет, а я через забор!
– Ловкий ты парень…
– А чего ж!
– Не думаешь, что надломил ее на всю жизнь?
Спросил, чувствуя в себе нарождающееся раздражение, вызванное не только нагловатым откровением Гриши, а еще его сытым румянощеким лицом, в котором уже не видел прежнего простецкого выражения. А спросив, тут же осекся, вяло подумал: «А судьи кто?.. Умеем благородно гневаться… научились по книгам! А сам такой же стервец!..»
– И не скучно без подружки?
– А мы с подружкой! – легко отозвался Гриша, обрадованный, кажется, что не нужно отвечать на прежний вопрос – Как же без этого, иль не живые?
– Колхоз, Гриша, ничего?
– Нормальный. Свой кирпичный завод строим.
Хотел Дмитрий узнать, что с Тимохиным, работает или нет, жив ли, но с какой-то суеверной опасливостью остановил себя: увижу на месте. Началось – так нужно испить чашу до дна…
В поселке «Заря» (и колхоз тоже «Заря» ) мальчишки катались на лыжах и санках прямо с крыш сараюшек и надворных пристроек – такие сугробы намело. Расчищенные тропинки, ведущие к крылечкам домов, колодцам, проезжей дороге, своей глубиной и хозяйской продуманностью напоминали окопные ходы сообщений, прорытые по правилам военно-инженерных наставлений. В звонком осторожном инее стояли высокие тополя, и даже корявые осокори с обрубленными ветвями-култышками, припушенные узорчатой снежной красотой, смотрелись достойно, не портили всеобщего праздничного вида… А уплотненный снег под кожаной обувью озорно взвизгивал, и от этого мороз казался еще крепче, но не пугал, а как бы звал помериться силенкой: кто кого – он, мороз, или наперекор ему горячая кровь взбодренного человека… Вон один прошел: полушубок нараспашку, лицо и обнаженная шея кирпично-красные, а в голых, без рукавиц пальцах твердо зажат газетный кулек – нет этому человеку дела до ртутного столбика термометра, опустившегося к цифре 25!
Дмитрий невольно улыбнулся – как все это похоже на то, о чем мечталось в Москве: вот приеду и увижу… Он шел к конторе колхозного правления; не мог никак вспомнить, где же стояла тонкостенная избушка Тимохина, в которой он когда-то пил топленое молоко, и где была избушка Клани, не находил взглядом… Усадьбы как-то поредели, просторнее стало, но чуть ли не каждый хозяин отгородился от улицы штакетниковым заборчиком, наличники окон разрисованы в голубое, белое, зеленое, а крыши – не как раньше, не под солому – шиферные в основном и под железо есть. «Выправились, денежки завелись», – подумал Дмитрий.
В новом, вытянутом, как барак, и по-барачному разделенном на тесные клетушки здании была дверь со стеклянной табличкой: «Председатель тов. А г а п к и н С. И.», куда и ткнулся Дмитрий. На счастье, председатель оказался у себя, сидел за двухтумбовым столом – маленький сам, желтолицый, тощий телом, с задорным хохолком седоватых волос (как на портретах у генералиссимуса А. В. Суворова).
– Я, конечно, рад приветствовать писателя в нашем колхозе, – стесняясь и радушно сказал председатель после того, как с уважительностью подержал в руках фирменное удостоверение редакции журнала. – Рад, хотя ведь мы не какие-то особенные, заслуживающие описания в книгах…
– Нет-нет, не о книге речь, – тоже застеснявшись, поторопился объяснить Дмитрий. – Посмотреть хочу, сравнить… А напишу если – очерк будет, рассказ, возможно…
– Понятно, – подхватил председатель, – малый жанр, значит. Но что ж, не хвалимся, а надо – покажем!
Он вроде бы бесцельно (однако Дмитрий его понял) покосился за себя – стояло за узкой председательской спиной утяжеленное золотыми кистями знамя; на полуразвернутом полотнище читались шитые буквы: «…трудовой славы…»
– В меру сил, – сказал председатель. – Движение вперед.
Он ровно и быстро пояснил Дмитрию, какой силы колхоз «Заря» по экономическим показателям, какие перспективы имеются, что построено и будет заложено по весне… Тут же мимоходом сообщил, что он хоть и пришлый для этих мест, из тамбовских, но уважением пользуется, и очень помогает ему полученное образование: учился в физкультурном техникуме и специальной школе милиции.
– Дмитрий Сергеич, – попросил председатель, – дам сейчас человека – займитесь, если можно, осмотром нашего производства, так сказать… А я должен подготовиться – мероприятие сегодня проводим. А после уж тут!..
– Конечно… ради бога! – воскликнул Дмитрий. – Я один готов. Прогуляюсь, подышу…
– Что вы!.. Минутку!
Председатель постучал точеным кулачком в стену, на этот стук просунулось в дверь чье-то неопределенное серое лицо и тут же, получив указание разыскать Зою Васильевну, скрылось. А Зоя Васильевна находилась, вероятно, в этом же помещении, пришла сразу – кареглазая девушка лет двадцати с небольшим, коротенькая фигурой, обтянутая шерстяным свитером, в лыжной шапочке с пушистым помпоном и ужасно деловая по виду: хмурила бровки до морщинок на переносье, губы поджала, спросила строго у Агапкина:
– В чем дело, Степан Игнатьич?
– Большое дело, – ответил председатель; и Дмитрию пояснил: – Заведующая библиотекой… Зоя Васильевна. – И, подумав, добавил: – Наш культурный кадр.
– В чем же дело? – нетерпеливо переспросила девушка и посмотрела на Дмитрия так, словно бы сказала: вы, разумеется, приезжий, из начальства какого-нибудь, однако и мы себе цену знаем…
– Вот, Зоя Васильевна, – председатель вежливо показал на Дмитрия, – посетивший нас товарищ имеет тоже отношение к культуре – писатель!
Зоя Васильевна вспыхнула, вздрогнули изображения круторогих оленей на ее неприметной груди, протянула Дмитрию узенькую потную ладошку.
Быстрая Зоя Васильевна вырывалась вперед, оглядывалась: не сильно ли отстает писатель, мелькали перед глазами Дмитрия ее коротенькие тугие ножки в подшитых валенках. Кивал успокаивающе: я тут, поспеваю…
Сводила Зоя Васильевна на свиноферму, после на МТФ (молочнотоварную); еще в холодное кирпичное здание с закопченными стенами, где ремонтировали трактор, – показывала, знакомила с людьми, не утрачивая прежней озабоченности на раскрасневшемся личике.
На свиноферме Дмитрия поразила свирепая, «толстомясая», смахивающая на бегемота свинья – свиноматка по кличке Диана; прошлой ночью недоглядели, и Диана сожрала все свое потомство – тут же, как только поросята вышли из нее… А у доярок, когда к ним заглянули, была послеобеденная передышка – пели они, славно пели: «…Поутру рано на заре стоят кони во дворе…» Но застеснялись женщины чужого человека, сломали старую песню; и Дмитрий, выйдя с Зоей Васильевной наружу, сказал:
– Прошу, Зоя Васильевна, миленькая, не надо меня так пышно представлять – совестно как-то… Работают все, а мы праздные… не мы, вернее, я!
Зоя Васильевна дернула плечиком – не ответила ничего. А он нечаянно, когда она не ожидала, заглянул в ее глаза и подивился: сколько грусти-то в них! Это как прикрытие – внешняя сердитость, нахмуренность; тут другое, по глазам видно – глубокое, когда ожидаются или уже коснулись сердца печали, когда тихо и тайно несешь, будто тяжкий крест, какое-то горе… «Не ошибаюсь, наверно, – подумал Дмитрий, – и как же неспокойно призван жить каждый человек; и вот этой маленькой Зое в этих снегах, глухом бездорожье достались свои беды, а она бежит, будто колобок катится, и верит, как все мы, в лучший завтрашний день…»
В ремонтной мастерской пять-шесть механизаторов, переругиваясь, вроде это помогало им в трудном занятии, «раздевали» трактор. Дмитрий окончательно почувствовал ненужность, ложность своего «экскурсионного» обхода хозяйственных служб – был он лишним и холодным среди разгоряченных работой людей; они понимали, что он имеет право ходить вот так, с портфелем в руках, в чистом пальто, спрашивать их о чем-то, и, отвлекаясь от дела, отвечали ему с терпеливой вежливостью. Пробежал мимо старик с мотками ржавой проволоки, сказал громко: «Как бы не замазать, гражданин, посторонитесь!..» Дмитрий спрятал в карман приготовленную было для общего курения пачку сигарет, пошел к выходу… А догнавшей его Зое Васильевне сказал, не сумев скрыть нервозности:
– Что запланировано дальше?
– Вы устали, конечно, – ответила она, – пойдем ко мне в библиотеку. Там тепло и книги.
…Они идут по искрящемуся снегу – она опять немножко впереди, словно заманивает туда, куда ему вовсе и не нужно, – и навстречу из-за угла избы вываливается тракторист Гриша, переодетый в полупальто-«москвичку», с ярким мохеровым шарфом вокруг шеи и в прежней заношенной солдатской шапчонке, не соответствующей всему его «выходному» виду.
– Гуляем! – кричит он с наигранной удалью. – Приветик!
И сует Дмитрию руку, как будто бы не два-три часа назад они расстались.
– Зой, – не говорит, выкрикивает вновь Гриша, – Зой, подь на минутку! Слово скажу.
– Что еще, – морщится она, – выпил?
– Не подносили, – смеется Гриша, смотрит на Дмитрия, подмигивает. И Зое снова: – На одно слово, слышь!
– Отстань.
– Зой!!!
– Я догоню вас, – она кивает Дмитрию.
Он медленно уходит от них, слышит, как гневным полушепотом она отчитывает Гришу, а тот отвечает: «Серьезно… ей-богу!»







