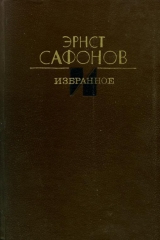
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц)
И не рушит, оказалось – разобрал ее. Мать, повязанная платком по самые брови, брызгает водичкой, заметает мусор; сам Ефрем, в синей майке, кирпичи к кладке готовит, сбивает и соскребывает с них наросты старого раствора. И так ловко дело делает – на ощупь, не глядя, будто для кирпичей, особые глаза у него в пальцах, а другими, настоящими глазами, он на мать смотрит, разговаривая при этом с ней; на него, Ваню, тоже посмотрел – и подмигнул: идет работенка!
– …Скажу тебе, Алевтина, – говорит он матери, – жизнь копейка, хоть и золоченая копейка! Можно впустую ее истратить, можно, наоборот, с пользой… Возьми меня теперешнего, когда я получил в армии техническую образованность, и сложить, например, печку для меня – это тьфу, необязательный придаток, как доппаек, я способен на многие государственные занятия…
– Ты и всегда, Ефрем, был бойкий, – поддерживает мать.
– Какой был – эт-та мы знаем! – Ефрем смеется громко, два крупных белых зуба по-заячьи высверкивают из-под черных усов; наливаются красным шрамы ранений на его теле.
– Чего шляндаешь, бездомник! – кричит мать на Ваню. – Чего это за мода такая – шляндать, когда делов через край!
– Пусть, – заступается Ефрем. – От свободного бега у Ваньца развитие мускулов образуется. Я вот, Алевтина, могу вспомнить про нашего полкового инструктора по физподготовке…
– Сейчас, Ефрем, сейчас, – говорит мать, а сама выталкивает Ваню наружу, за дверь. Тут она достает из-под кофты нагретые бумажные деньги, сует их Ване в ладонь, шепотом наказывает держать крепко, рот не разевать. Нужно Ване в Еловку мчаться, к тетке Кочетихе, за бутылкой для работающего Ефрема.
Однако Ваня, вернувшись в избу, малое время трется возле матери и Ефрема: любопытно, про что тот расскажет, – про военные случаи, может… Нет, на другое Ефрем повернул – про то, какая звонкая улица собиралась прежде и Подсосенках, приходили вечерами еловские девки, патефон под липой крутили, три гармошки играли, шуму и смеху много было, никто не знал, что тяжелая война их ждет, и если бы она, Алевтина, не согласилась на предложение учителя, не вышла бы замуж, то и он, Ефрем, пожалуй, не поспешил бы с женитьбой, холостым уходил бы в армию…
– Говори, да не заговаривайся, – смеется мать; видит, что Ваня еще в избе, – и подзатыльник ему; а сама все смеется, а глаза н е смеются.
– Замешивай, Алевтина, глину, – командует Ефрем.
VI
Через песчаный бугор Ваня пронесся на быстроходном танке Т-34, по лесной дороге, буксуя, проехал на мощном «студебекере», речку Совку в секунду форсировал на торпедном катере, а в Еловку влетел на боевом коне…
– Дае-ешь!.. Эге-е-ей!.. Ну-ка, бабка Кочетиха, наливай горючего – заправимся и в обратный путь…
Однако бабка сказала, что такому прыткому она в стеклянную посудину не нальет, – в резиновую больничную грелку налила. А одноглазый бабкин козел – тот самый, что летом безбоязненно бегает в Подсосенки и напугал Ксению Куприяновну Яичкину, – подкравшись, наподдал Ване ниже спины, причинив не столько болезненное, сколько обидное ранение. «Кровь за кровь, – сказал Ваня. – Смерть фашизму!» И залег в лопухах. Он дождался, когда Кочетиха ушла со двора, а козел ослабил бдительность, и так крутанул козла за хвост, что тот не заблеял, а по-дурному взвыл, и его несмолкаемый дурной рев слышался даже от речки, которую на этот раз Ваня проскочил, не застряв, на генеральском «виллисе»…
Через лес он мчался, сокращая расстояние, напрямик, по чаще; видел худую облезлую лису, тетерева вспугнул, с дятлом – вражеским снайпером – в перестрелку вступил: дятел бил короткими очередями, а Ваня по нему – одиночными… Берег боезапас.
Солнце заваливалось за дальний край леса, когда достиг он Белой горы. С ее вершины по сыпучему песку скатился вниз, – был в этот момент суворовским солдатом (видел на картине, как солдаты Суворова с альпийской горы съезжали, тормозя ружьями и шапки придерживая…).
На краю воронки нашел Ваня оплавленный кусочек железа – от бомбы, конечно.
Маленький он был, когда на первый или второй год войны громыхнуло тут, у Белой горы, метельной ночью. Сам-то не помнит – от матери слышал, что по всей деревне разбрызнулись оконные стекла, печные трубы завалились, а у Машиных от сотрясения рухнула задняя избяная стена, придавила черную ярочку, и кирпичный шуваловский амбар раздался трещиной, которую заделали, замазали, но и посейчас она видна, как видны на кирпичах оспяные выщербины от осколков.
Бомбу в темноте сбросил немецкий самолет, заблудившийся, возможно, освобождая себя от груза, – сбросил и полетел дальше; подсосенских же он напугал так, что в деревне даже собаки, заслышав самолетный гул, сразу же, сломя голову, в лес мчались…
А воронка от бомбы – громадная, на дне ее ржавая, подернутая маслянистой пленкой вода, и холодом от нее несет. Слазить бы туда, потыкать палкой, – осталось чего, поди, от бомбы, да одному боязно. Вздохнув, положил Ваня найденную железку в карман – лишней не будет.
Мимоходом в окно школы заглянул. Никого там, в классе, а на стене знакомая фанерка с красными словами:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ!
Как еще школьный дом от взрыва уцелел! Черепицу на крыше посекло комьями мерзлой земли и осколками, рамы из гнезд вышибло и разметало щепками, а здание устояло, хорошо его немец Карл выстроил! По-нашему – хорошо, по-немецки – «гут». И наше слово, тут же рассудил Ваня, намного лучше – оно как ласковый, осторожный шорох, а их, немецкое, – оно как окрик, будто ленивую лошадь понукаешь… Гут!
Поболтал Ваня грелкой – булькает в ней; мать теперь заждалась: Ефрема обедом кормить положено. Желтые одуванчики зеленым закрываются, лягушки на болотце голос подают – вот-вот вечер придет. Правда, вечер будет светлым, он июльский, летний, к ночи навстречу не поспешит – тихим шажком пойдет. Успеет ли Ефрем печь сложить?
Успеет!
Вбежал Ваня в избу – уже «фонарь», начало дымохода, Ефрем под потолком выводит. Перемазан глиной Ефрем, даже на усах у него глина, и в прежнем он настроении, легком.
– Ух, Ванец, – сказал он, – плесни законные фронтовые! За мирный стахановский труд. Алевтина, разреши!
– Сейчас, сейчас…
Мать, отобрав у Вани грелку, принялась на стол собирать, и тут Майка вошла. Мать дала Майке и ему по горбушке хлеба, по оранжевому куску вареного коровьего вымени и выпроводила на улицу.
Они сбегали к болоту – попугали лягушек, в чижика поиграли, но деревянный чижик улетал далеко, искать его в сумерках было трудно – бросили игру; а тут с бугра спустились и пошли через деревню демобилизованный боец, низенький, широкогрудый, и высокая стройная девушка. Солдат, не заботясь, что кто-то может смотреть на них, задирал вверх острый подбородок и целовал девушку, а девушка смеялась. Он целовал, она смеялась. Ваня с Майкой крались за ними долго, проводили за околицу; девушка оглянулась, заметила их, позвала низким певучим голосом: «Иди, мальчик, сюда, я тебя и весь свет расцелую!» Но, наклонившись, поцеловала солдата, и, взявшись за руки, смеясь, они побежали, густеющий туман скрыл их.
Майка сказала, что никогда такой бесстыжей, как эта девушка, не будет, а вырастет – чтоб никто к ней с поцелуями не лез, по морде враз получит, она разбираться не станет, пусть он, гад такой-сякой, отряхивается после… А Ваня вглядывался в наволочь тумана, который сомкнулся и поглотил девушку, ее длинные косы, ее певучий голос и ее смех. Отчего-то в необъяснимом волнении стучало его, Ванино, сердце…
Майка снова обозвала девушку бесстыжей и еще длинным словом, которого Ваня не знал. Он поймал тонкие Майкины пальцы, больно сжал и заломил их так, что она, заплакав, присела.
– Вот тебе! – крикнул. И убежал.
VII
В избе мать и Ефрем сидят за столом; мать, подперев щеку ладонью, терпеливо слушает, а Ефрем громко говорит, сжимая и разжимая твердый шишковатый кулак, любуясь, какой он у него.
– …Я им, жуликам-прохвостам, погоди, председателем стану, я им заделаю. Я им, Аля, устрою стратегический переворот, такого пинка дам, что будут лететь, свистеть и радоваться… Не расхищай, ясно! Не расхищай, падлюки!..
– Ефрем!
– Извиняюсь, культурненько извиняюсь, Аля. Ванец объявился! Вот тебе, Ванец, чарка, а вот огурец!
Ефрем раскатисто захохотал, поймал Ваню за рукав, к себе привлек. Пахнет от Ефрема табаком, луком, сырой глиной; он по-прежнему в синей майке, заляпанной раствором.
– Дядю Володю, можть, с гармонью позвать? – высвобождаясь из рук Ефрема, оглядывая стол, предлагает Ваня.
– И то! – веселея, торопливо поддерживает мать. – Позовем Володю…
– Не надо, – сказал Ефрем. – Мы обыкновенно трудимся, не гуляем.
– Позовем, – повторила мать.
– Не надо, – Ефрем нахмурился. – Мы что? Печка не доделана… А тут момент такой – про колхозные дела… Поговорим, обсудим. Как люди… На меня, между прочим, если характеристику, Аля, составлять, то, между прочим, лично имею тридцать две благодарности от Верховного Главнокомандующего. Их что, благодарности эти, за оттопыренные уши, что ль, давали?!
Он снова ловит Ваню, и, как мышонок, Ваня в его лапах; исходит от Ефрема густое горячее тепло, его дыхание – нагретый за день ветер, который шевелит, путает волосы на Ваниной макушке.
– Ты, Ванец, цену себе знай, – говорит в Ванину макушку Ефрем; Ване вдруг хочется прижаться к нему крепко, глаза закрыть, но стесняется Ваня. А Ефрем сам прижимает Ваню к своей влажной груди. – Ты, Ванец, в единственном числе молодой мужик у нас в Подсосенках. Остальные, Майка моя и прочие, – кто? Они называются женский пол… Это прекрасно, конечно… На фронте всякие мысли я думал. Тот убит, такой-то, пишут, тоже убит, третий смертью героя… Считал, что и Володька Машин не в плену, а так… как другие. И кто же на деревне оставался-то? Я каждый день под смертью ходил, руками ее трогал, да еще Сергей Родионыч, папанька твой, хотя, к слову, он и не совсем нашего адреса, но все же… Убьют нас, думал, закопают на чужой стороне, а то и не закопают, горелым дымом взлетим – вот тебе и каюк всей мужской подсосенской породе! Э-э, думал, чего это я, какой же каюк, когда там для будущих невест Ванька Жильцов растет!..
– Ефрем!
– Я ничего, – усмехается Ефрем, – я, Аля, к тому, что куда ж обществу и прочим без мужика…
– Ладно, – сухо говорит мать. – Завтра, Ефрем, завершим.
– Зачем же, – возражает Ефрем. – Раз плюнуть осталось… А завтра мне в район ехать.
Он отодвигает Ваню в сторонку, поднимается с табуретки, велит матери налить воды в корыто, а Ване говорит, чтоб к Майке бежал, темноты Майка боится: сидите себе там, играйте или спите, сюда не бегайте – чтоб под ногами не путаться, чтоб, одним словом, порядок в танковых частях был… Достал из кармана фонарик, протянул Ване: жги, да не очень, батарейку жалей. Без фонарика, возможно, не пошел бы Ваня к Майке, но с включенным фонариком – дело другое…
VIII
Майка, само собой, обрадовалась, что он пришел, простила ему обиду, даже не заикнулась про нее; и долго они ходили по темному огороду, вслед за лучиком карманного фонарика. Тонкий лучик бледным кружочком высвечивал разные разности – заснувших божьих коровок на склоненных стебельках травы, мелкие пупырчатые огурчики, спрятавшиеся под теплые материнские листья, еще высветил мокрую бородавчатую жабу с выпученными стеклянными глазами и противным широким ртом, – охотилась жаба за насекомыми и червяками.
– Тише, – шептала Майка.
– Тише, – повторял Ваня.
И было так тихо, что они отсюда, с огорода, слышали, как на поле, в овсах, испуганно попискивают мыши, а в избе у Вани идет разговор: Ефрем (он же папа) и мать (она же тетя Алевтина) говорили между собой:
– …Никогда не думал, Алечка, что когда-нибудь вот так на руки польешь мне, утирку чистую самолично подашь…
– К чему, Ефрем, сейчас-то?
– Мягкий я стал после войны…
– Н-нет, Ефрем, не мягкий…
– Я, конечно, понимаю…
– Вот и хорошо.
– Все старание, Алечка, в печку вложил. Первые блины мои. С пылу-жару…
– А это – милости прошу… завсегда, Ефрем.
– На блины-то?
– На блины…
Майка громко причмокнула, и тишина нарушилась; сказала Майка:
– Нам бы, Ванечка, но горячему блину с тобой. Гороховому!..
Лучик фонарика тускнел – питание в фонарике было на исходе; Ване захотелось домой, однако он рассудил, что надо подождать, – мать позовет; и они с Майкой пошли в избу. Майка, не пожалев, зажгла огарок толстой зеленой свечки, которую отец привез с войны.
От горящей свечки в избе пахло так же сильно, как на цветущем лугу, но иначе, вроде бы одеколоном. Ваня объяснил Майке буквы «Ш» и «Щ». И хотелось уже спать. Он зевал, и Майка зевала. А когда он на минуту закрыл глаза, а потом снова их открыл, Майка спала, уткнувшись лбом в стол, коленями упираясь и скамейку.
Свеча почти догорела, в избе от нее стоял сладковатый запах. Ваня дунул на фитилек, погасил пламя и, оставив дверь открытой, выскочил под звездное небо.
Он увидел вблизи, у кустов бузины, два расплывчатых силуэта, и тут же донеслись до него хотя и негромкие, но возбужденные голоса. Один голос он узнал сразу – то Ефрем говорил; и другой, прислушавшись, узнал: с Ефремом спорил дядя Володя Машин.
Ваня прошмыгнул к плетню, опасливо нащупал пяткой, нет ли крапивы, и, присев здесь, стал слушать…
Ефрем. Не тревожь, понял!
Дядя Володя. Свинья ты.
Ефрем. Осекись! Задену…
Дядя Володя. Она же мать, жена… Ты зачем? Мало еще она тебя по морде… расцарапать бы всю! Ты ж Сергею Родионычу обиду нанес.
Ефрем. Ну вот что… ничего не было, а ты, Володька, замкнись. Не было ж. Не было! Замкнись, Володька.
Дядя Володя. А полез. Это я нечаянно помешал… Нет, мало она тебе по морде! Еще б!
Ефрем. Замкнись!.. И вообще, если в широком разрезе, Машин, многое бы сказал тебе… Приглядываюсь, к примеру, нехорошая какая-то задумчивость имеется в твоем характере. Появилась такая непонятная задумчивость. Что скрываешь?
Дядя Володя. Чем же тебе не нравится моя задумчивость, Остроумов?
Ефрем. Вроде ты жизнью недоволен, Машин. Да!
Дядя Володя. Я эту жизнь перестрадал и ценю…
Ефрем. Нашу ли жизнь ценишь!
Дядя Володя. Нашу, нашу…
Помолчали.
Ефрем. Нет. Володька, против меня ты слабак. Я, между прочим, рук не подымал.
Дядя Володя. Я тоже, говорю, не подымал!
Ефрем. А чего кричишь?
Дядя Володя. Не подымал, говорю. Меня израненного взяли…
Ефрем. Пущай так… А что сейчас увидел – не было такого. Замкнись, прошу, Володька. Не нас она выбрала, и не ей мы нужны.
Дядя Володя. А зачем ты?!
Ефрем. Снова-заново! И так муторно… Знай, Володька, повторяю, свое место. Замкнись.
Дядя Володя. Грозишься?
Ефрем. Не грожусь. Однако у меня не задумчивый характер. Я его не в плену закалял, Машин, сказано тебе…
Ване почудилось, что дядя Володя всхлипнул. Махнув рукой, он пошел от Ефрема.
Ефрем задумчиво постоял, покурил и тоже пошел к себе в ограду.
А Ваня тихонечко пробрался в сенцы своей избы и стоял там, прижимаясь лицом к подвешенной связке пересохших березовых веников. Он стоял долго, пока мать не вышла в сени, не наткнулась на него, – вскрикнула, узнала, отнесла на кровать, прилегла рядом. Она целовала его, а он отодвигался, даже толкнул ее больно локтем и, сморщившись, уснул. Горячий дождь капал на его щеки, шею, и он бежал куда-то – за девушкой с длинными косами, которая тревожно и горько шептала: «Мальчик мой… солнышко!»
IX
На взгорке заполыхала рябина, далекие грозы за лесом шумят, и над Подсосенками сухо рвется бесцветное небо, зарницы по ночам играют; Ваня с Майкой по два мешка лесных орехов насобирали, дядя Володя Машин скошенный овес на коровник возит, – август!
А тут рожь подоспела, первые бестарки зерна на ток свалили, зазолотился он, засиял в солнечной пыльце, – крутят бабы гремучие барабаны веялок, шум, гвалт, и встрепенувшимся кочетом носится по току, вороша валки, покрикивая на баб, громыхая коваными дверями склада, дед Гаврила. Губы у него фиолетовые от химического карандаша, – слюнявит карандашик, записывает на бумажке, считает, пересчитывает, ахает в восторге и удивленье: урожай как довоенный, будет хлебушек, бу-удет, а то уж и забыли, что такое урожай!
Ваня и Майка воробьев, скворчиков и ворон от зерна гоняют, зарываются в его тепло, лежат, наблюдая, какая веселая это работа, когда хлеба много. А мать – она тоже сейчас здесь, а не в Еловке за счетоводческим столом – предупреждает: рожь хоть и мягкая, сама на зуб просится, однако горстями с жадностью не ешьте – заворот кишок получится…
И в один из таких приятных дней подсмотрел Ваня, как Ефрем Остроумов Полятку Суркову в кустах трепал, зверем на нее наскочил.
Полятка обедать с тока шла, приотстав ото всех, а Ефрем навстречу ехал. Завидев его, Полятка за кусты дикой сирени шмыгнула, присела там, а Ефрем, соскочив с тарантаса, тоже туда метнулся. Он молча хватал Полятку за широкую сборчатую юбку, а та, пугливо смеясь, отстранялась, по рукам его била, а Ефрем не смеялся, был зол лицом. Изловчившись, он ухватил ее за резинку трусов, обтягивающих полную молочно-белую Поляткину ногу, дернул за резинку, оборвал ее, – желтым ручейком потекло на землю зерно…
– Поиграли, – хрипло сказал Ефрем, – готовь, Полина, харч в дальнюю дорогу за казенный счет… Запрокурорят тебя, дуру, лет на пяток… закон знаешь!
Тут Полятка заплакала, стала руки Ефрема ловить, прощенья просить, он оттолкнул ее; матерясь, велел подобрать все до зернышка, на ток отнести…
– Ну нар-род! – крутил головой, усаживаясь в тарантас, и никак дрожащими пальцами цигарку не мог свернуть.
А все ж простил Полятку – никто ее никуда из деревни не увез.
X
Однажды на рассвете проснулся Ваня, уколотый щетиной чьего-то заросшего лица, – проснулся, сжался в комочек, долго век не размыкал, не веря еще…
– Когда ж ты у меня такой большой вырос? – тихо спрашивал отец. – Здравствуй, Иванушко.
Открыл глаза – худого, остроносого и очкастого человека увидел, в белой бязевой рубахе он, синих галифе, и во рту у него зубов почти нет. Не папка, может?
– Папка, – плача и смеясь, счастливо говорит мать, – папка наш вернулси-и-и!..
И закрутилась разноцветная карусель, все поплыло, заиграло на разные голоса, все понеслось и поехало, просторно стало и холодно до мурашек на спине, и розовый свет за окном показался праздником, – папка вернулся!
Отцовский китель с узкими серебряными погонами висит на спинке стула, а на стуле – офицерский планшет, еще пистолетная кобура из кирзы, и в кобуре пугач для Вани, точь-в-точь как настоящий милицейский наган с барабаном, – и стреляет пробками! Ба-бах!.. Сначала Ваня раза три выстрелил, потом отец… бах-бах-бах!.. И дым, и огонь высверкивает…
– Деревню перепугаете, – говорит мать, – избу сожгете, оглохну я!
Так она говорит, а хочет, наверно, сказать: стреляйте, стреляйте! Спряталась за печку – крепдешиновым платьем, выходным, шуршит, из флакончика на себя одеколоном брызгает… Голос у нее высокий, радостный, хотя и рассказывает отцу о нерадостном.
– Приятеля твоего, Сереженька, – доносится из-за печки, – лесничего Егорушкина, без обеих рук привезли, при одной ноге…
– Да ну?!
– А Мишка Сонин, писала тебе вроде, Сереженька, погиб…
– И Михаил?!
Отец морщится и кривит лицо; Ваня, обследовав его китель, не нашел, чего хотел, – спрашивает, пугаясь:
– Где же медали твои?
– Нет медалей, – отец руками развел.
– Одни, что ль, ордена? Спрятал?
– Одни ордена, – поспешно соглашается отец.
– Ты кто у нас? Диверсант?
– Диверсант он, господи, пристал, липучий… диверсант, – вмешивается мать, выйдя из-за занавески; разнаряженная вышла, никогда ее Ваня такой не видел, даже ленточка у нее в волосах; и она стоит, смотрит на отца, а он на нее, она смотрит, и он смотрит; наконец отец взялся очки протирать, а Ваня сказал ему:
– Где же зубы ты потерял?
– Цинга съела, – ответил отец. – Не вырастут – железные вставлю.
– Красиво будет, – рассудил Ваня.
– Живенький мой, – ласково говорит мать, – живенький…
– Живой, – отец подтверждает; кончиками пальцев потрогал брови у матери. Покашлял.
– Живенький, живенький, – упрямо повторяла мать.
Ваня после затишья снова – неожиданно за спиной у матери – выстрелил из пугача. Мать ойкнула, схватилась за грудь; отец обнял ее за плечи.
– О ума сойти, Сереженька, – закрыв глаза, еле слышно произносит мать.
XI
Собрались, как водится, изо всех тринадцати подсосенских дворов; вынесли стол на улицу, под старую липу. С липы на стол падают зажелтевшие от бездождья листья и зеленые мохнатые червячки, тоже порожденные сушью. А на столе – кто что принес с собой и чем Алевтина Демидовна, мамка Вани, расстаралась: даже две банки американских консервов есть – видом как деревенский холодец, и творог в мисках, грибки соленые, простокваша в кринках и еще другое, что можно пить, – в разных посудинах. Ване в кружку квасу налили, забористый квасок – вырви глаз! С кем не чокался? Ваше здоровье!
Громче всех кричит дед Гаврила – сивая бороденка на сторону сбилась, размахивает стрелкой зеленого лука, внимания к своим словам требует. Сам он костлявый, уколоться об него можно, а слова его – круглые, мягкие, вроде бы даже покрашенные они, как пасхальные яички.
– Бгатцы! – взывает дед. – Я за всех скажу!.. Все мы тута и ты, Сеггей Годионыч, с нами, такая всенагодная любовь тебе оказывается… А еще скажу я…
Так, букву «р» не признавая, помнят подсосенские старики, граф Шувалов говорил. И считают в округе: Гаврила – он графских кровей, незаконный только, нагулянный Шуваловым, потому и привез тот его сюда, к немцу Карлу, подальше с глаз…
– Ггаждане, – беспокойно зовет дед Гаврила, – товагищи!
– Ти-хо, вы!..
– Говори, дедушка…
– Вот я и говогю… Што в войну-то? Забудешь? Их похогонных одиннадцать штук извещений для нас было!.. А игде сын мой?! Игде?!
Дед Гаврила томится – горячим пеплом подернулись его тоскливо отрешенные глаза; бабы сморкаются, а одна из них встала и слепо пошла в сторону, в неясную тень вечера.
– Лизавета! – тихо окликнул дядя Володя Машин.
– Да, да! – встрепенувшись, отозвалась она, убыстряя шаг, удаляясь. – Иду, иду-у!..
– Куда идешь-то, – снова тихо сказал дядя Володя, – до Сталинграда, знать, далеко, Лизавета…
А у отца, замечает Ваня, такой светлый взгляд, что сумрак позднего часа не загасил его лица, оно выделяется среди других приметным подвижным пятном, и отец жадно разглядывает каждого; он сидит во главе стола, тощий, с приподнятыми плечами, а мать крепко уцепилась за рукав его кителя, будто боится, что он уйдет. Поднявшись, отец говорит, покашливая, про великую победу, про то, что лучшие сыны России остались лежать на поле брани, и наш долг, говорит он, принять на себя все, что уже не суждено сделать им и что обязаны сделать мы сами для восстановления нарушенной жизни… Он говорит, что, возвращаясь в родные Подсосенки, заглянул в райотдел народного образования, решил там все необходимые вопросы, дети будут учиться, и это великолепно, когда утром зазвенит школьный звонок, возвещая о начале спокойного трудового дня, – пусть привычно и громко звенит наш школьный звонок!..
Послышалось тарахтенье тарантаса, он выкатился из полутьмы на видное место. С тарантаса соскочил председатель колхоза Ефрем Петрович Остроумов, разнуздал жеребчика, бросил ему беремя свежескошенной травы… Он идет к столу: осветившие небо багрецы отраженно полыхнули по его орденам и медалям, и очень весел скрип его хромовых сапог. Он сказал, вглядевшись, шутливо и старательно выговаривая слова:
– Здравия желаю, товарищ младший лейтенант административной службы! С прибытьем!
Обнялись отец с Ефремом, троекратно расцеловались. А дядя Володя Машин, отвернувшись, заиграл на гармони, залпом выпил из стакана и, продолжая играть, запел тонким, срывающимся голосом, как какой-нибудь прохожий инвалид, которому в шапку нужно бросить:
…Был я ранен, и капля за каплей
Кровь горячая стыла в снегу.
Немцы близко, но силы иссякли,
И не страшен я больше врагу…
Жалостная песня; Ваня потихоньку к отцу пробрался, возле него пристроился, и Майка откуда-то вывернулась, рядом со своим отцом села, больно ткнула Ваню ногой под столом, он ей отплатил – зачесалась, заерзала, и еще не так ей, злючке-гадючке, надо, побольней бы, чтобы не орала днем, что его, Ванин, отец старик, ему целых сорок лет…
…силы иссякли,
И не страшен я больше врагу…
– Отвоевались, Сергей Родионыч!
– Так, Ефрем… Я, конечно, сбоку… В тайге, в экспедициях находился. Топограф. Трудно было, замерзали, два товарища моих замерзли, цинготный голод к тому ж, а дело делали.
– Тыл – фронту!
– Не совсем, Ефрем, я ж военный был… Однако не в окопах, понимаю…
– Кому-то надо… А мы повоевали!
– Вижу!
– По загранице, Сергей Родионыч, прошлись. Помнить будут!.. А Володька даже ихней рабской жизни отведал – плен! А сколько нас осталось-то, Сергей Родионыч, – где они все?..
– Нет их, Ефрем, светлая память им…
– Вася и Сенечка Куркины, Михаил Сонин, Бычков… Трофим Трофимыч без вести пропал. Ваня Сурков до капитана дослужился, в танке сгорел. Гришуня Маслов в партизанах погиб. Конюхов тоже без вести… А как Гришка Конюхов на гармони играл, помнишь, Сергей Родионыч, небось? Володька – не спорю, однако сравнишь разве?..
– А Коля Бурдин?
– Под Москвой в сорок первом.
– Кулешов…
– Кулешов в Сталинграде… Как я, сапер… Видал, ушла, как тронутая, Лизавета… Он робкий был, а я ведь какой – я его с Лизаветой за полгода, почитай, до финской свел. Женитесь, говорю! На ту, финскую, ушел он, с этой не пришел…
– Ванечка, – шепчет Майка; двигалась, двигалась она – уже рядышком сидит. – Какая у тебя мать пригожая, серьги у нее блестят!
Ваня отмалчивается, а слушать приятно: пригляднее его мамки нет женщины за столом! Вот она всех угощает, и все ее благодарят; и поет она – голос сильный, чистый, надо всеми голосами парит, за собой зовет… Дядя Володя с душой играет, он на мамкин голос мелодию настраивает.
…Вставай, вставай, молоденький казачок,
Вставай, вставай, молоденький казачок,
Немцы едут, коня вороного возьмут,
Немцы едут, коня вороного возьмут,
Коня возьмут – конь еще будет,
Коня возьмут – конь еще будет.
Тебя убьют – мне жаль тебя будет,
Тебя убьют – мне жаль тебя будет…
«Убили немцы казака? – переживает Ваня; в песне ничего об этом нет. – Не убьют! Он их, поди, шашкой! По рогатым каскам – р-раз!.. А папка-то не воевал с немцами, а фотокарточку присылал – с наганом там!..» Тревожащая смутная досада на сердчишке у Вани. Чего там! – хорошо, что вот он, отец, дома, дождались его наконец, а что с фашистами он не перестреливался, не убивал их – это обидно. Зачем было тогда на войну ходить?.. Вон на Ефрема Остроумова хоть не смотри – завидно: то ли посуда на столе звенит, то ли награды его… А Ваня обыскался – и планшет тайно проверил, и сумку, и мешок отцовский, хоть бы один орден у отца был или две-три медали! Обидно…
– Ванечка, – шепчет Майка, – у тебя руки длиньше, достань мне ту консерву… Страсть ее люблю! Отец твой тоже заметный, ей-богу, очки у него красивые, круглые, это я давеча нарошно про него…
Зажгли две лампы по краям стола (керосину колхоз выделил); ночные бабочки летят на лампы, крылышки обжигают, падают, но если хватает сил взлететь снова – опять притяженно рвутся к манящему и гибельному для них огню. Отец поднял одну, спаленную жарким накалом лампового стекла, положил на ладонь, спросил тихонечко, а Ване слышно: «Из ночи к свету, да? Чего ж увидела?..» Мать тут же накрыла отцовскую ладонь своей, – отец вздрогнул, и подмечает Ваня, как незаметно для других мать улыбнулась отцу, теснее прижалась к его плечу. Он отозвался улыбкой. Мать шепнула: «Они, бабочки, глупые, ты их не жалей…» – а вслух сказала:
– Споем, Сережа, как бывало. Сыграй, Владимир.
– Устал, – ответил дядя Володя и переложил гармонь с коленей на скамейку.
– Какой тогда разговор, – сказала мать, наклонив голову, – отдыхай. Можно и без песни…
– Можно, – упрямо согласился дядя Володя, и было ожидание в нем: ну-ка, что еще скажете мне?
– Дорогие хорошие женщины! – вставая, громко произнес председатель Ефрем Остроумов. – В день ликования подымаю официальный тост за вас, поскольку вы, как говорится, основная сила… В этом весь вопрос, когда я в роли руководителя думаю об ответственности за хлебозаготовки. Сто лет трудоспособной жизни вам каждой и наш мущинский поклон! И, пользуясь обстановкой, напоминаю, что завтра всем собраться после выгона коров у риги, где я распределю задания. Это я к тому, чтоб по дворам мне не ходить, кнутовищем в окна не стучать… Понятно, бабы?
– Ой как понятно!
– Спасибочки на добром слове, Ефрем Петрович!
– А евсеевский клин когда зачнем жать?
– А ну-тко я тебя поцелую, Ефрем Петрович, покуда Нюшка в больнице…
– Ха-ха-ха… Вот так Полина!
– Знает кошка, чье мясо съела.. Подсластилась!..
Подруженька моя Поля,
Тебе радость, а мне горе,
Тебе радость, ты спозналась,
А мне горе – я рассталась!..
И-и-ихь-ах!..
– Ну, Полина, дай!
И-эхнь!.. Сохнет-вянет в поле травка,
Разлучить хочет мерзавка.
Разлучить-то не придется:
Седьмой год любовь ведется!
– Чего, бабоньки, веселимся?
– Полька, бестыжа-а!
– А!
– О-е-е-ей, лю-ю-ди-и!.. Жи-и-ить ка-а-ак! Жи-и-ить!
– Не рви душу…
– Пущай себе. Плачь, Настя, плачь, наши вдовьи слезы не проглотишь…
– Ванечка, мальчик сладкий, золот, дождалси папаньку, дождалси!..
– Алевтина, грибков подложи…
Ваню покачивает, вроде он по речке плывет, по тугим волнам, взбитым внезапным зеленым ветром, который иногда налетает из-за леса, поверх его заградительной высоты, пригибая и раскачивая верхушки деревьев; и спать не хочется, а будто в полусне он, – и плывут, взыгрывая на невидимых перекатах, стихая на отмелях, разговоры, разговоры…
– …Слабость сперва была, по первому году, а опосля обвыкся. Тротил, ртуть гремучая, пироксилин – с чем соприкасался-то, Сергей Родионыч! Сапер ошибается один раз, в этом вся штука… Через тыщи смертей прошел – век мне теперь жить!..
– …Нет, как можно! Он, ггаф Шувалов, во фганцузский Пагиж езживал и в гогод Скопин, там в банке состоял. Меня, чего скгывать, бгал с собой, стгог был, пгавда, щипать любил… вот эдак, где помягче…
– Уй, дедок, охальник, руки убери, тоже мне…
– …Как еще на япошек нас не послали?
– …А дождь бу-удет. Утки седня полоскались шумно, крылами били – бу-удет…
– …Раненый приехал он, осенью было, купаю его в корыте, глянуть невмоготу, исстрадалася вся… И опять забрали его, в ездовые, отписывал, рука слабо действовала, неплохо, отписывал, устроился, в тепле, еще начальником молодой лейтенант у него был, Петей звали лейтенанта, земляк, почитай, из Калуги, сынком мой его называл… А ко Дню Красной Армии похоронка, прибила она меня… И зачем же его, немолодого, вторично брали, какая в том нужда была…
– Была, выходит, Варя…
– …Нам бы гвоздей, цементу машины две, оконного стекла – свинарник бы построил, овчарню, конюшню… А я колхоз принял – в кассе ровно двадцать три копейки наличными, не вру, Алевтину спроси, она счетовод, не даст соврать…







