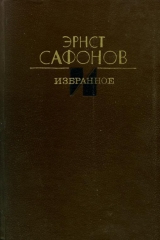
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
– Ай-яй! – повторил Тимохин, осуждая вроде и тут же жалея. – По морю яко по суху… Поди, из-за нее, чудесницы полей, будь она неладна, приехали?
«Тебе бы так… приехать! – подумал Митя. – А молодец: свои антикукурузные настроения сразу выкладываешь…» Вслух же ответил:
– Посмотреть, как к севу…
– Такая ваша должность, – согласился Тимохин. – Однако требуется обсушиться. Пойдемте, близко живу. Баба, правда, в избе угару напустила, да, полагать нужно, сошел угар-то…
Протоптанные тропинки в деревне уже подсохли, мягко вспружинивали; пахло на улице пирогами, творогом, и кое-где ощутимо пробивался из дверей самогонный душок; на другом конце порядка играла гармонь и стройные голоса выводили: «Соловей мой, соловеюшка, соловеюшка, вольна пташечка…»
– Весело живете, – не без скрытой значительности заметил Митя.
– Есть немножко, – смущенно подтвердил Тимохин.
Митя, дабы не терять времени, пустил в ход собственноручно выработанную «методу» – как лучше и не вызывая подозрений вытянуть из собеседника необходимые сведения. Сказал с равнодушной интонацией в голосе:
– Впервые у вас, а вот подходил когда, вроде знакомого увидел. Мучаюсь сейчас: кто ж такой? Ведь встречал раньше, а не припомню… Сидел он сейчас с другими на бревнышках, в пограничной фуражке и клетчатом пиджаке…
– А! – бесхитростно воскликнул Тимохин. – В клетчатом, в зеленой фуражке… Да это Загвоздин Васька, бригадир наш полеводческий… Он как бы это… тоскует, глупо, факт, однако переживает: вчера жена ему четвертую девку родила… А встречать-то – на районном совещании каком-нибудь, поди, встречали. Его премировали…
– Возможно, – поддакнул Митя.
Никогда раньше не встречал, разумеется, Митя этого человека, но теперь-то, после подтверждения Тимохина, уж точно знал одного из тех, кто в горячую предпосевную пору занимается пьянством, используя для такой цели поповскую Пасху, – Василий Загвоздин, бригадир полеводов! Запомнит. «Один – ноль в нашу пользу», – отметил удовлетворенно про себя.
В маленькой избе Тимохина, собранной из тонких бревнышек, обмазанных по пазам глиной, угарного дыма уже не было – исходил от стола пряный аромат свежевыпеченного кулича, прикрытого чистой утирочкой, зазывно золотилось пленкой топленое молоко в кринке. Митя сглотнул неловкий ком и отвернулся – съежившийся желудок требовал своего, но и неудобно было: приехал-то не за положительным очерком – за фельетоном… Нет, тимохинский хлеб не для него, поперек горла встанет. Тимохин от души накормит, а ты ж после, выходит, его же салом ему по сусалам…
– Скидайте с себя, – предложил Тимохин, – развесим ваше имущество над жаром – в вид придет…
Митя разделся до трусов, а тихая жена Тимохина дала ему черный сатиновый халат (в таких на фермах ходят животноводы – «спецодежда»), и сказала она, кивнув на стол:
– Покушайте, пожалуйста.
– Правильно, – засуетился Тимохин, – наготовила она тут, напекла… Кому праздник, а мы и так съедим, подсаживайтесь…
Он метнулся в чуланчик, вынес оттуда графин, но Митя так протестующе замахал руками, так твердо сказал: «Нет-нет!» – хозяин затанцевал на месте, оправдываться стал:
– С устатку-то, после дороги…
– Нет!
– …от гриппа вроде вам… У меня, к примеру, язва, не потребляю, а вам-то, предполагаю, с устатку…
– Не могу.
– Тогда молочка выпейте, – сказал Тимохин, пристыженно унося графин на старое место.
– Молоко у вас аппетитное, – улыбаясь, сказал Митя, – стаканчик, спасибо, выпью.
– На здоровье…
Стакан, видимо, был мелким, а молоко действительно было вкусным – жадно налил Митя себе еще и по третьему разу налил; жевал пирог, рассматривал фотографии на стене, вправленные в одну общую рамку, – разные фотографии давних лет, любительские в основном: юные и старые лица на них, голопопые младенцы, толпа у гроба, снимок военного времени… На этой военной фотокарточке Тимохин был в пилотке, нахлобученной на уши; смотрел Тимохин в фотоаппарат добродушно, с легкой улыбкой и вроде бы чуточку досадуя, хотя и стесняясь сказать, что оторвали его от дела… Митя, любивший читать и слушать о войне, показал на снимок, поинтересовался:
– Воевали?
– Так… сбоку, – ответил Тимохин. – В саперах, по плотницкой, можно сказать, части… Мосты строили, бункера, еще для начальства… Четыре года.
– Награды имеете?
– За топор, што ль? – Тимохин, рукой махнул. – Эт кому медали положено – за стрельбу, разведку… Вот ранетый я, само собой, четыре случая… Одно тяжелое – в живот. Но опять же ведь как? При бомбежках и артналете…
Тут в дверь постучали; высокий девичий голос спросил:
– Дома вы, люди?
– А-а, Кланя, – узнал Тимохин. – Заходи, Кланя! – И пояснил негромко Мите: – Наш комсомольский секретарь, птичником заведует.
Кланя вошла – как солнышком осветила затененные углы тимохинской избенки, и Митю, конечно; стыдясь, запахивал он на груди сатиновый халат, спрятал под лавку босые ноги, а в сердце – почувствовал – что-то стронулось. Бывает же на свете такое!..
…Сотрясая станционное помещение, прогромыхал мимо без остановки товарный состав. У Дмитрия болел бок от лежания на жесткой скамье, затекли ноги, полушубок сползал с него и не грел. Дмитрий же улыбался в холодную темноту, смотрел в нее прищуренными глазами, вырывая из далекого минувшего времени картинки своей радужной юношеской жизни. Впрочем, радужной ли? А наверное, да. Ведь тогда, как только и бывает в юности, мир еще не виделся контрастно и резко, был он расплывчатым, мягким, заполненным светом – ходил Митя не уставая, радуясь своему присутствию среди людей и полагая, что все так же радуются, что есть на земле такой человек – Митя Рогожин.
Дмитрий угадывал сейчас себя прежнего – семнадцатилетнего. Сколько же забавного было в том пареньке, чистого и нетронутого! Но уже цепко, жадно вглядывался мальчик в окружающее – учился хитрить, и какая-то ложная многозначительность не по возрасту рано пробилась в нем. Он верил, что суждено ему многое, не так, как остальным, кто пока окружал его, – им пахать, сеять, до конца дней работать в районной газете, рожать детей в местном роддоме, не уезжать далеко… А ему? Мчаться вдаль, и эта сияющая даль откроется для него вот уже завтра, через год, может, от силы через два… И порученная ему поездка в колхоз «Заря» просто временный эпизод; он сделает все как надо, потому что председатель Тимохин по образу жизни и действий весь как на ладони, а он, Митя, весь в будущем…
Опять мимо станции проскочил состав – теперь, похоже, скорый: мелькание огней снаружи, через снежную завесу, громкие, встряхивающие сонное царство зимы гудки… Дмитрий вдруг подумал, что сейчас, по прошествии почти полутора десятков лет, он излишне пристрастно судит о т о м пареньке Мите Рогожине. Был он, конечно, самонадеянным и по молодости глупым был, мечтал о высоком, казался себе безгрешным и очень осуждал грехи других… «Да, – вслух сказал Дмитрий, однако невольно сказанное вышло с досадой, – все-таки субчик… Стыдно!»
Тогда Митя Рогожин, стремясь выглядеть равнодушным, выпытывал у Тимохина:
– Под кукурузу, разумеется, лучшие земли отводите?
– Все равно ж не возрастает… лучшие, можно считать…
В голубых тимохинских глазах было томление.
– Где ж эти земли?
– А за бугром…
– Я же шел по этому бугру. Глина!
– Все равно ж не возрастает…
– А какое вам дано твердое задание?
– Двести пятьдесят гектаров.
– А там и восьмидесяти не будет…
– Дак все равно ж!..
Тимохин сгасал; врать он, видно, не умел; попросил, вздыхая:
– Вы особо не расписывайте, а то меня в районе и так скребут в хвост и гриву… – Добавил: – Образование-то – три класса и четвертый колидор… Курсы – так они што?! Для бумажки… Насчет клевера иль, допустим, вико-овсяной смеси у отца в крестьянском хозяйстве обучался, а с южной царицей в толк не возьму, не наших кровей она…
– Науке верить надо, – посоветовал ему Митя, – научным рекомендациям.
В «Заре» на следующий день после пасхального гуляния уже пахали под яровые на выборочных местах: по возвышенностям, взгоркам. Надсадно, будто тужась, гудели тракторы, тонули колеса плугов в грязи, мерил глубину вспашки Василий Загвоздин – злой как черт, в сбитой на затылок пограничной фуражке, распахнутом ватнике. Митя ходил с ним рядом, задавал вопросы о разном; что-то не понравилось бригадиру, спросил хмуро:
– Под преда нашего копаешь? Зря! Мужик не для себя живет.
– Интересуюсь вообще, – не слишком уверенно ответил ему Митя.
– Он себе в карман не положит, – сказал Загвоздин. – Ты его не тронь.
– Посмотрим, – спокойно ответил Митя. – Прессе факты важны, а не эмоции.
Василий Загвоздин на это отмолчался – сразила его, возможно, Митина фраза; плюнул он себе под ноги и бросился от корреспондента прочь – наперерез трактору, потрясая кулаком, крича, чтоб тракторист сбавил скорость… А разговор с Митей у них еще состоялся – позже, через три дня.
– Не касайся Кланьки, – угрозливо сказал ему Василий.
– Откуда ты взял? – смалодушничав, хотел отвертеться Митя; но тут же понял, что в деревне все на виду, и осердился: – Не указывай мне, Загвоздин!
– Не касайся, – повторил тот. – У нас за эти дела знаешь что? На серьезе, понял, говорю!
Повернулся Загвоздин и пошел, поблескивая подковками сапог. Митя видел его широкую спину, длинные, оттягиваемые вниз тяжестью кулаков ручищи – зябко стало, противный сквознячок по позвоночному столбу пробежал, и пожалел Митя, что сотруднику районной редакции не положено иметь при себе оружие, хотя бы браунинг завалящий: всякое ж может случиться при выполнении задания!
…Третья ночь у Мити такая – напряженная, будто струна. Густая синева льется в избу сквозь тоненькие занавески, брешут вдалеке собаки, скрипят ветлы у завалинки, а на печи рядом вздыхает и кашляет древняя глухая бабка, да слышно, как древесный жук стенку точит, и вдвоем на скамейке сидят они: Кланя и он. Ночь весенняя – в волнующем, что-то обещающем ожидании; шумит в невидимых протоках вода, чьи-то шаги снаружи… Нет, мимо!.. И ненастоящее, голубовато-матовое лицо Клани в сумраке, а на лице тревожно-пугливая улыбка. Он пододвигается к ней, берет ее руку, гладит пальцы – тонкие, заветрившиеся в работе, с заусенцами и порезами, тоже тревожно-пугливые, как ее улыбка, словно проходят через эти пальцы слабые электрические разряды. В густой сини сказочно увеличены, бирюзово подсвечены глаза Клани, кажутся они глубокими, убегающими, вроде той зеленой воды, шум которой в недальних оврагах то глуше, то призывней…
Митя чуть раньше пытался ее поцеловать, но она неловко и резко высвободилась от него, и вчера было так же. Нужно Мите уходить в контору колхозного правления, где он ночует на продавленном диване. Там по стенам бегают черные тараканы, снизу, из-под половиц, тянет сырым холодом; там Митя будет долго лежать без сна, с беспокойными мыслями; а забывшись, где-нибудь на рассвете проснется, как от толчка, и снова прекрасное и стыдное представится ему: будто бы Кланя тут, возле, они вдвоем… Он встанет с дивана, плеснет в лицо водой из ковшика, начнется новый день, Мите нужно добывать очередные факты для фельетона, и, если повстречается на людях с Кланей, будут они избегать смотреть друг на друга…
Кланя старше Мити на год, тоже закончила десятилетку в Алексеевке, потому что в «Заре» лишь неполная средняя школа. Живет Кланя сейчас со старой бабушкой, а мать умерла прошлой весной неожиданно, во время дойки (дояркой была), от сердечного приступа. Кланя хотела поступать в учительский институт – такая беда. Осталась она, никуда не поехала. Тимохин уговорил принять птичник, выбрали ее секретарем комсомольской организации, и, наверно, попробует Кланя сдать экзамены на заочное отделение сельхозинститута, на зоотехнический факультет… Так сдержанно Кланя рассказала Мите, а он горячо поддержал ее: правильно, нужно учиться дальше! Признался, что сам будет поступать на факультет журналистики Московского университета, это уж точно, другого пути для себя не видит. Тут Кланя заметила: «У тебя талант, а у меня ничего нет, родилась без этого, необыкновенного мне не требуется…» Мите польстило упоминание про его талант; он упрекнул Кланю за «приземленность», что она боится ставить перед собой большие цели, и тогда-то впервые попытался ее поцеловать, но ничего не вышло.
Все-таки под окнами избы кто-то ходит, а может, это чудится Мите – просто слышно, как оттаивает земля, в ночной тишине рождаются, гаснут, сменяются новыми легкие звуки весны; падают последние, затаившиеся в укромных местах сосульки, набухшие почки вербы и осокорей лопаются сочно, радостно.
– Ах, какая жизнь, – вдруг нетерпеливым шепотом говорит Кланя, – одна я все и одна, и ты меня не убеждай… У тебя по-другому… И уходи ты!
Он теряется – от внезапного отчаянья в ее голосе, от того, как брезгливо и сердито выдернула она свои пальцы из его ладони; вспомнил тут же, какие у нее глаза днем – серые, с фиолетовой поволокой, грозовые, и даже когда смеется она – глаза не смеются. Тут же подумал, ощутил, вернее, насколько она сильнее и умнее, чем он считает ее, какой он еще мальчишка перед ней, перед прожитой ею здесь жизнью, – какой мальчишка, неумный, наивно-надменный!.. Газета, университет, большие цели!.. Разболтался! Дурак!
– Слышишь, – говорит она спокойнее, сама берет его руку в свою, как бы прощения просит; он уже тих и робок, поостывший, изобиженный не ею, сам по себе. – Слышишь, Митя, больно-то бывает как, когда зима кругом, темно, а ты чего-то ждешь, не зная чего?..
– А ты не жди, – бормочет он.
– Как же? – удивляется она, убирает руку. – Ты вот тоже что-то ждешь, надеешься…
– Уезжай отсюда.
– Куда? – спрашивает она. – Мне теперь не хочется.
– Чего ж ты ждешь?
– А!.. Так! – громко, с прежним отчаяньем отвечает она; завозилась старушка на печи – Кланя палец к губам приставила, опять нашла Митину руку, потянула его с лавки. – Поздно… пора…
– Какая у вас комсомольская организация? – спрашивает Митя, стараясь хоть как-то задержаться. – Сколько человек?
– Шесть.
– Всего?
– Мы бедные.
– Делаете что?
– Воскресник по снегозадержанию провели… концерт в клубе…
– Еще?
– Завтра скажу…
Она смеется – тихо и вымученно: идет на полшажка впереди Мити к двери, высокая, повыше его, покачивая узкой спиной, – он унимает дыхание и, когда они вступают в непроглядную черноту сеней, рывком притягивает ее к себе. Ее губы сами нашли его – целовала крепко, жестко притискивая ладонями Митино лицо к своему, и очень быстро, словно боясь, что это может скоро кончиться. Он чувствовал ее горячее напрягшееся тело, резинки и застежки над ее коленями; кружилась голова, слабо отстраняла она от себя его нетерпеливые вороватые руки.
– Уходи, Митя.
И когда звонко стукнула за ним щеколда, Кланя осталась в сенях, а он оказался на улице – не верил Митя, что так все было… Однако было же!
И утром, занимаясь делами, он ходил с шальной головой, глуповатая улыбка – ни к месту, при серьезном разговоре с кем-нибудь – рождалась на его лице, он не мог справиться с ней.
Можно было отправляться в обратный путь, и надо было б – из редакции больше чем на три дня Акулов никогда не отпускал; а необходимые для фельетона примеры уже лежали на страницах Митиного блокнота: многое он разузнал. «Заря» – колхозик средний, только-только выбился из долгов, прореха на прорехе тут, есть за что критиковать председателя, если к тому ж это требуется. Правда, скромный и, по всему заметно, работящий Тимохин как личность не совсем втискивался в рамки типичного фельетонного героя. Митю это немножко смущало и злило, он радовался, если попадалось вдруг что-нибудь такое, свидетельствующее не в пользу Тимохина… Он все записывал – про травополку, за которую здесь цепляются; о том, что в нарушение финансовой дисциплины покупали за наличные у частника резину для колхозного «ЗИСа» (проговорился Мите шофер); и про то, как Тимохин летом на глазах у других ударил кнутом по лицу молодого пастуха…
Последнее событие просилось в фельетон: рукоприкладство должностного лица, унтерпришибеевщина! Потерпевший парень, когда Митя с ним издалека заговорил про этот случай, взглядывал волком, отнекивался, выгораживал Тимохина (свои они тут все!): дескать, виноват я сам, напился, в беспамятстве поколотил старуху мать, а брошенное в поле стадо разбрелось, двое суток собирали его верховые – вот и осердился Тимохин… «Однако ж было кнутом?» – допытывался Митя. «А поделом, – сказал пастух, – он всего-то легонько, для острастки… Я буйный, прямо фашист, когда вот такая шлея под хвост попадет…» Митя заставил парня расписаться в блокноте; расстались они – Митя, довольный уточнением факта, пастух, недовольный Митей и в особенности собой.
Так что фельетону быть, пора, как говорится, и честь знать, откланиваться надо…
Митя слонялся по деревне, заходил на фермы, в контору правления – люди работали, а он был чуждый всем, на него уже косились, догадываясь, возможно, что напишет он не про хорошее, а про плохое… Тимохин избегал Митю, да и Мите было совестно от вопрошающего взгляда его голубых беззащитных глаз – радовался, что Тимохин старается держаться на расстоянии.
По красному глинозему, разъезжая ногами, Митя взобрался на бугор и, пройдя с полкилометра, вышел к колхозному птичнику. Белыми стайками бродили куры, выщипывали зеленые травинки, встряхивались – было тут спокойно, солнечно, и открывался безграничный простор, по которому пунктирно бежали телеграфные столбы… На птичнике немая женщина, месившая в корыте куриный корм, жестами и гримасами объяснила ему, что Клани здесь нет и нынче не будет – уехала в другую деревню.
Перед вечером Митя, волнуясь, прошелся мимо ее окон – в одну сторону дороги, затем обратно; окна темнели, и позже в них не засветился огонь, дом казался притихшим и холодным от отсутствия живых людей. Когда совсем стемнело, Митя постучал в дверь, вначале тихо, после настойчиво, – покашляла глухая бабка внутри, Кланя не отозвалась… Он ушел на скрипучий диван в пустую контору правления, долго не спал, светло и торжественно стояла перед ним в темноте Кланя, высокая длинноногая девушка с острыми холмиками груди, выпирающими из-под темной кофточки, была она как бы в непонятном сиянии, с очень гордым поворотом головы, напоминающая чем-то святую, но смущающая своим телом – сошла она, похоже, с картины какого-нибудь художника эпохи Возрождения, любившего радость жизни и земную красоту… С такой Кланей в сознании Митя и забылся сладким сном своего чудесного возраста.
Утром же дозвонился до него Акулов; Митя кричал ему в трубку:
– Порядок. Обстоятельства… да. Завтра постараюсь быть. Еще день, ладно?
Акулов, конечно, не отказал ему.
До обеда Митя досаждал бухгалтеру – требовал от него данных по отчетности за прошлые годы и за нынешний; бухгалтер – лысенький чистый старичок – доставал из шкафа нужные папки, пахло от него лампадным маслом и молочной едой, он был угодлив, внимателен к словам Мити. Неожиданно Митя спросил его, почему же они пользуются услугами леваков – покупали незаконным способом автопокрышки; и бухгалтер, поперхнувшись, долго молчал, вытирал платком влажный рот, пока наконец не посоветовал обратиться за разъяснением к товарищу председателю… Когда же Митя выходил на крыльцо, услышал, как благообразный бухгалтер явственно, четко выговорив по слогам, сказал ему в спину длинное матерное ругательство. Митю это развеселило: тайные силы прорастали в его мышцах, нахохленно и опасливо стояли перед его взором серые деревенские избы, и Тимохин, показавшийся из проулка, завидев Митю, вдруг резко свернул в сторону… «Удар короток, и мяч в воротах!..» – произнес Митя и зашагал к околице, откуда крутая тропинка ведет на бугор, а на бугре, известно, птичник…
Так же, как и вчера, бродили здесь куры, пачкая известковыми пятнами вытоптанную плешь бугра, стреноженные лошади паслись неподалеку, собачонка крутилась возле дверей птичника, но ни Клани, ни ее немой помощницы тут не было; никто не откликнулся, не появился, когда он подал голос.
Митя сел на перевернутую колоду, налетевший теплый ветерок приятно толкался в лицо, ерошил перья на курах; Митя решил, что он отсюда никуда не пойдет – хоть до вечера будет сидеть: к вечеру птичье поголовье нужно загонять, Кланя появится, они поговорят, а возможно, не только поговорят – ведь как она целовала его в ту ночь, в сенцах; это же понапрасну не бывает, он, Митя, ей нравится!
Митя листал блокнот, вчитываясь в свои записи, пытаясь найти то, что даст запевную строку для фельетона, – Кланя не уходила из головы. Митя думал о ней, и вовсе не безгрешно думал, испорченный молодой замужней женщиной Екатериной Авдеевной, он хотел многого. А Екатерина Авдеевна позвала его к себе минувшей осенью; целый месяц, пока ее муж – офицер военкомата – был в санатории, Митя под хлещущим дождем, таясь, пробирался в ее квартиру, потрясенный и безумный, подчинялся ей, и она, стиснув матовые ровные зубы, со слезами восторга учила его – по ее выражению – «мужским обязанностям». Митя вспомнил ту осень, мягкие ковры, оранжевый свет абажура, все-все, что пронеслось неповторимым, диким и обжигающим мгновеньем, слившим воедино все дни дождливого октября, – и, поднявшись с колоды, распугивая кур, стал ходить по мягкому бугру, слыша, как колотится сердце, ощущая свою нерасторжимую связь с апрельским высоким небом, тяжелой, вздыхающей иод ногами землей, со всем, что есть вокруг и далеко от него…
Кланя появилась на бугре, когда солнце померкло, скатывалось вниз, куры тянулись в открытую Митей дверь птичника, шумно вспрыгивали на жердочки насеста.
– Я снизу увидела, как ты здесь ходишь, – сказала Кланя и засмеялась коротко: – Ходит, гляжу, ходит…
– Еще попозже б пришла, – сказал Митя.
– Кукурузу калибровали…
Она сняла корзину со стены, нырнула в дверь птичника – собирать яйца по гнездам; он было подался за ней – крикнула ему из сумрака:
– Не входи, куриных вшей наберешься!
– А ты?
– То я…
Она вскоре вернулась на минутку; протянула ему на вытянутых ладонях пяток яиц, еще достала из кармана жакетки кусок круто посоленного черного хлеба, завернутого в обрывок Митиной газеты «Колхозная жизнь». Было кстати – в животе посасывало. Митя опять сел на колоду, пил сырые яйца; вкусно хрустела на зубах крупная соль – ждал Митя, когда Кланя освободится, скличет и загонит на место последних непослушных кур.
– Где вчера была?
– От тебя пряталась!
– Не стыдно?
– У кого видно! А у меня ничего не видно.
– Лихой ты товарищ!
– А мы тут все такие – за рупь двадцать не возьмешь…
– Молодцы, – сказал Митя; смущала, отталкивала Кланина напускная бравада, грубоватая, дешевая; чужое это было в ней; и сказала она вдруг, согнав с лица ненатуральную веселость:
– Ты правда под нашего Тимохина яму роешь, Митя? Мне Загвоздин про это…
– Загвоздин! – взвился Митя. – Загвоздин твой! Он мне грозился ноги пообломать… за тебя! Почему это он так, твой Загвоздин?
– Какое ему дело до меня, – зло и как бы не Мите, а себе самой сказала Кланя. – Тоже мне… приглядывает!
– Вот-вот, – поддакнул Митя. – Попробует, конечно, только пусть – не таких…
– Не хвастай, – перебила она. – Ты хвастливый, Митя, от этого скучно делается.
Он покраснел, мучительно, по-мальчишески переживая ее замечание; она же будто оправдывалась – про Загвоздина говорила:
– Всех делов-то, что его брат со мной десятилетку заканчивал. Ну ходили, понимаешь, в школу в Алексеевку, туда-обратно… Что надо парень, не рукастый…
– Какой?
– Значит, рукам волю не давал – вот какой.
– Не то что я…
– Не лезь, Митя, пусти. Пусти же! Обижусь. Ты меня не знаешь – обижусь, это навсегда. И до чего же вы нахалы, мужчины…
– Не все. Я такой отрицательный. Сама ж говоришь, есть не рукастые.
– Толя в армии сейчас, на подводной лодке.
– На флоте.
– Он лодкой управляет.
– Лодкой командир управляет, а твой Толя медяшки чистит и палубу драит…
– Кому-то и такое надо делать… Вот я… я за курами ухаживаю. А ты карандашиком вот…
– Пресса!
– Я не в укор – можно и с карандашиком… Только зря ты, если насчет Тимохина…
От деревни сюда, на возвышенность, тянуло влажным дымком, глухо и призывно, расшатывая, наверно, стойло, тревожа до крови кольцо в ноздрях, трубил племенной бык, и засветились огни в окнах, уже не сиреневый полусвет, а черные тени, как солдаты, бежали по окрестности, залегали в углублениях – день отходил, утрачивался, ощущалось дыхание близкой ночи.
– Пройдемся? – Митя предложил.
– Чего расхаживаться-то… и куда?
– По бугру вверх, вверх… куда глаза глядят?
– Пошли.
– Давай руку.
Кланя шагала рядом как диковинная птица-человек – сильно, упруго отталкивалась длинными ногами от земли, была чуткой, настороженной, и горячие искры невидимо сыпались и гасли, когда Митя случайно касался ее бедра. Они взбирались выше, выше – к первым звездам шли; молчали, и все молчало вокруг – буйный бык затих, и деревня притаилась, и вешние ручьи; никаких звуков и никого кроме…
– О чем ты думаешь, Митя?
– О тебе.
– Скажешь еще: влюбился! Скажешь – соврешь!
– Не совру.
– Ты, Митя, чужой, со стороны – на денек-другой приехал. Не обо мне думаешь – о себе.
– Плохой, по-твоему!
– Почему? Ты мне нравишься, но ты чужой…
– Все-таки нравлюсь…
– Я тебя сама поцелую…
Шли к звездам, а звезды стояли на месте; шли далеки-далеко, но по кругу, и круг был бесконечным, и в центре его черным пятном лежал птичник – вдруг закричал там петух, высоко взял и сорвал тем голос, и другой петух коротко и сердито крикнул: порядок наводил будто…
– Ты Тимохина не знаешь, Митя, вот он тебе и не понравился.
– Зачем нам сейчас Тимохин?
– Он хороший человек, Митя. Он за колхоз, за людей переживает. Он малограмотный, конечно, но очень переживает…
– Зачем нам!..
– Я видела, как он плакал, Митя.
– Кто плакал?
– Тимохин.
– Пьяный?
– Не пьет он.
– Слабак тогда. Тряпка.
– Не знаю… Говорю, за дело переживает… А вот в тот раз, в январе еще, мы с ним на поле ездили, к скирдам… Не расскажешь никому?
– О чем?
– Не расскажешь? Я верю, Митя, смотри…
– Ну что?
– К скирдам мы поехали… Два необмолоченных скирда было оставлено в зиму… Приехали, раскрыли первый скирд, после второй – Тимохин сел прямо в снег и заплакал.
– Уже слышал – плакал, заплакал… А отчего?
– Надоело – могу помолчать.
– Что ты! Жутко интересно рассказываешь, только медленно.
– В общем, мыши исстригли, как ножницами, солому, зерно обсыпали, пожрали… Ужас мышей этой зимой! Вот и плакал Тимохин в снегу – страдал за колхозное добро…
– А кто ж позволил оставлять необмолоченный хлеб?
– Не знаю.
Стало душно Мите – расстегнул пуговку у горла, снял куртку, на землю бросил; сели, прижавшись друг к другу. Кланя колени к подбородку подтянула, обхватила ноги руками, гибкая, тонкая, чуточку раскачиваясь, отстранялась со смехом, когда он, наклоняясь, целовал ее в шею, в теплую ложбинку за ухом.
– Уедешь ты, Митя.
– И снова приеду.
– К нам не наездишься…
– Летом на мотоцикле. Или ты когда – по делам комсомольским, так зачем-нибудь…
– Нет, – сказала она, – не приедешь.
– А ты хочешь, чтобы приезжал?
– Хочу.
– Посмотри – звезды…
– Митя, как я боюсь…
– Чего?
– Мне тут жить, Митя…
– Будем жить, будем жить…
– У тебя, ой, пальцы холодные!
– Сердце горячее…
– Боюсь, Митя! Ой, зачем?
– Не буду…
– А сам… зачем же ты? За-чем!
– Мы с тобой…
– Митя! Митенька!!
Ее запрокинутое лицо было белым – кусочек нестаявшего снега в темноте опустившейся ночи; совсем послушно, с закрытыми глазами, не сопротивляясь, она отдалась власти его рук, и не сразу он понял, что она девочка, впервые вот так, – были они уже за той чертой, переступив которую невозможно вернуться назад… Она не проронила ни слова после; только, кажется, плакала – сухо, не лицом, а где-то там, внутри себя; приподнявшись, сидела, глубоко откинув голову с растрепавшимися волосами, опираясь на ладони за спиной, и запомнил он, что широко, по-бабьи были разбросаны в стороны ее длинные ноги.
И еще он запомнил, как на прямом срезе бугра, в отдалении, вдруг замаячили тусклые фигуры трех-четырех человек – с кольями или ружьями на плечах, и высветился пугливый огонек папироски; хрипловато, без тревоги, равнодушно даже, сказала она:
– Бить тебя идут. Беги.
– Что ты…
– Убьют. Беги. И он побежал…
Гнались за ним; огромными прыжками мчался бригадир Василий Загвоздин, и шибче наподдал Митя – просвистела над его головой, подобно копью, тяжелая палка.
Спасла ночь, скрывшая за тучами луну; спас овраг, куда Митя скатился, собирая на себя липкую стылую грязь: «Ого-го-го-го!..» – на разные голоса, грозно, озорно, мстительно катилось за спиной.
…Внезапная четкость воспоминаний о себе давнем, о своей юности, все полузабытое и вновь отчетливо воскресшее в памяти и смущение, которое он вдруг почувствовал, заставили Дмитрия Рогожина встать с неудобной скамьи – ходил он по станционному залу, усмехался, не до сна было.
Буран на улице утихомирился, лишь ветерок-последыш время от времени лениво взметывал снежок, перебрасывая его через черное серебро рельсов. Дмитрий, выйдя из помещения наружу, с интересом и надеждой всматривался в белое поле, будто оно могло успокоить или утешить, – ах, ведь не все так просто, забавно, красиво, как ему думалось еще вчера в Москве, а потом в поезде, где он великодушно стерпел старческое брюзжание полковника, где волнующе коснулась его души молодая женщина-проводница!.. В рассветной серенькой мгле белое поле муарово переливались, на вершинах барханных уступов проблескивали узкие, как сабельные клинки, льдинки, и кое-где дрожали на них алые капли, упавшие с неба, подкрашенного багрецами. Пришли чужие строчки, вычитанные или, может, услышанные за столиком в клубе литераторов: «Все бросишь за продымленные зори, за гулкие транзитные пути…»
Появился дежурный, сморкался и кашлял за спиной у Дмитрия, скреб метлой по платформе; сказал сиплым простуженным голосом:
– Тебе повезло, товарищ, не хуже космонавта. Без задержки улетишь. Звонили из «Зари» – билет они на ташкентский заказали… Выехала сюда на тракторе ихняя бухгалтерша с ребятенком, а ты с этим трактором туда – пожалуйста!
Они покурили вместе, одинаково позевывая и вздыхая по причине личного одиночества, что ли; и Дмитрий охотно ответил на вопросы дежурного: быть ли военным столкновениям на границе или замиримся; отчего могло получиться, что в Алексеевке у почтальонши родилась девочка с признаками мальчика; куда подевались известные люди, которым дали отставку, и сколько им платят пенсии?.. Еще поинтересовался дежурный, кто он, Дмитрий, по профессии; Дмитрий соврал, что художник.
– Голых девочек в мастерской рисуешь, – хихикнув и с любопытством заглядывая Дмитрию в глаза, сказал дежурный. – Рисуешь ведь! Вам же полагается… Иль врут?







