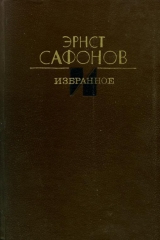
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
Студент в редкие свои приходы всегда разувался в прихожей, оставаясь в носках, и теперь по линолеуму тянулись вслед за ним в комнату мокрые отпечатки ступней. Сапоги просили каши, были они дырявы в союзках и с переломанными подметками. А он в них – по снегу, по слякоти… Герой! «Те мои, что у меня в вагоне слямзил, куда дел? – мысленно спрашивал его Здислав, даже не сомневаясь, что именно он, Студент, их «слямзил», а если не сам он – его предшествующий двойник. – Те сапоги из такого товара были – не сносить!» И однажды, когда из комнаты Юрека привычно доносилось «бу-бу-бу…», – он выбросил изжившую себя обувку Студента на помойку, а на это место, у порога, поставил свои новые («запасные») зимние ботинки. Студент, уходя, молча обул их, ничего не спросив и не сказав, словно так и должно было быть. Здислав тоже не удивился – ведь подтвердилась его догадка: такие люди не крадут, они просто б е р у т, они берут, не задумываясь над тем, хорошо или плохо тому, у кого взяли, и вообще о том, у кого взяли, какой он вообще… Взять – и не оглянуться. Политики. Так они себя называют?
Юрек, глядя мимо, поверх его плеча, предупредил: будет кто меня разыскивать, кроме Студента и Куска, всем отвечай, что не проживает такой здесь, давно уехал со своей подружкой в деревню, куда-то под Лович, меж Ловичом и Кутно, обещал написать, но не было еще письма, и какие, дескать, сейчас письма… Юрек смотрел мимо, а он – в воспаленные постоянным недосыпанием глаза его и не находил в них прежнего любопытства, прежней молодой жадности к жизни: лишь возбуждение и упрямую решимость отражали они.
Дни тянулись тускло, хотя каждый час был туго натянут – стрелой на звенящей тетиве, и потому где-то что-то ежечасно происходило: там вышли с транспарантами на мост… там подожгли… там поймали… там разгромили… там исписали лозунгами стены… там убегали-догоняли… Боязливо повизгивал городской снег под солдатскими башмаками, седой иней игольчато топорщился на зеленой броне военных машин.
Здислав упрямо ходил в литературный музей, в холодной пустоте залов стучал по дереву словно дятел: тук-тук, тук-тук…
Сам как деревянный – по дереву.
А внутри его одеревенелости – будто раскаленный железный штырь…
И опять – по прошествии недели-другой – в предвечернюю пору прошмыгнули в квартиру Юрек и Кусок со Студентом; у Юрека под мышкой был длинный сверток; и опять по обыкновению доносилось из-за двери: бу-бу… бу-бу… У исстрадавшегося по Юреку Здислава ухо как бы само по себе росло, фантастически удлинялось, этим своим удлиненным концом-присоской впивалось в стену: о чем они там, что теперь-то? Ох, доиграешься, парень, ой, ребятушки, получите вы себе, без чего, видит бог, вам было бы лучше… Но о чем они? Не разобрать. Ничего не разобрать через приглушенное «бу-бу». Ну-ка, ну-ка… «Шуруп прав… возьмешь, Кусок, на себя… ждут нашего сигнала… все-все выйдут… мы в засаде, так постановил центр… обеспечение… что мнешься, Шуруп?..» И вдруг – через неразборчивое бормотание, через перехлест нервозных голосов – одно слово пронзающим лучом сквозь сухую штукатурку стены ослепило мозг, сознание Здислава, и он отшатнулся, клацнули его зубы; он вскочил, заметался, наталкиваясь на мебель. Всего одно слово: с к в о р е ч н я.
Господи!.. Они же там, в с к в о р е ч н е, в той самой башне собираются, прячутся, сходятся, они там… Пять-шесть лет назад он водил туда Юрека: смотри, где мы с бабушкой жили, смотри, твоя мама, как птица, родилась в с к в о р е ч н е, тут была у нас л е с т н и ц а в н е б о. Здорово, правда? Давай крикнем: «А-а! Э-э-э!..» Слышишь? Эхо там отвечает: «Да-а! Где-е-е?» И не это вовсе. Это сама башня отвечает и спрашивает: «Да, жили вы здесь. А где сейчас вы, куда подевались? Где-е?..»
Юрек, Юрек… Т ы п р и в е л э т и х и д р у г и х т у д а? Привел! Вы там гнездитесь?
В висках стучало: там-там, там-там!
Отвернулся он, когда парни одевались в прихожей; ждал, напрягшись, что, может быть, Юрек подойдет, что-нибудь скажет… хотя бы самое простое: «Пока, дедуля» – или: «Не скучай!» Но ничего тот не сказал – лишь торопливо простучали их каблуки по каменным ступеням лестничного марша.
Ушли…
Он тупо сидел на стуле посреди комнаты, затемняемой ранними сумерками зимы.
Сидел, сидел…
Пробивалось – в опасении, отчаянии – предчувствие…
И, поднявшись, направился он в комнату Юрека. Дверь не поддалась. Запер ее Юрек уходя, чего никогда не делал. Здислав, вооружившись стамеской, отжал замок. Комната дохнула ему в лицо прогоркло-кислым запахом выкуренных сигарет и еще чего-то такого, что, вероятнее всего, было занесено сюда с улицы, казалось чужеродным в среде домашнего обитания. Может, толом пахло? Но где тот продолговатый сверток, с которым Юрек вошел сюда и без которого ушел?
Здислав быстро отыскал его – за спинкой дивана. Развернул мешковину.
Меж фанерных пластин, плоско зажатый с двух сторон, покоился немецкий – минувшей войны – автомат с отнятым, положенным параллельно стволу диском-«рожком». Хищно светилась темная вороненая сталь в темном же пространстве тесной комнаты.
Тот самый «шмайсер», что до этого забыто, покинуто и мертво лежал в надежной смазке под балкой башни-с к в о р е ч н и; тот самый, который он спрятал туда в сорок пятом, рассудив, что какая-никакая, а все-таки вещь, не пролежит места… Ему ли не узнать его!
Не пролежал… И опять – через сколько лет-то – этой терпеливой автоматической машинке, готовой выплевывать из себя смерть, дано узнать тепло напрягшихся человеческих ладоней. Как собака любит руки своего хозяина, так это холодное и совершенное по заложенным в него возможностям железо любит уверенные руки стрелка, вжимается в них с той же собачьей преданностью. Дайте мне эти руки, возьмите меня! Возьмите – я готов!
Ах, Юрек, Юрек…
Здислав думал.
За окнами, скрежеща по брусчатке траками, прогрохотал танк, экипаж которого, вероятнее всего, перед наступлением комендантского часа занимал заданную позицию.
Здислав, обложив автомат фанерками, запаковал его на прежний манер и, одевшись, с этим свертком вышел на улицу.
Улица пахну́ла в лицо морозной свежестью.
Скользили ноги на обледенелых камнях сквозисто продуваемой ветром площади.
Пересекая площадь, он шел на белесое пламя костра, над которым грели руки трое вооруженных молодых десантников.
Они смотрели на него.
Один из них выпрямился и положил палец на спусковой крючок.
– Здравствуйте, товарищи, – вскинул он в военном приветствии руку к козырьку своего отороченного мехом кепи. И, бережно опустив сверток к ногам десантников, сказал: – Тут автомат. Сдаю.
Кивнул и сутулясь пошел опять через площадь, но уже в другую сторону.
– Эй… эй, подождите! – окликнул его резкий простуженный голос – Что за шуточки? Документы!
Он, приостановившись, обернулся:
– Зачем?
– Действительно автомат, – громко произнес другой десантник, распотрошивший сверток.
– И я говорю – автомат! – сказал Здислав. – Пока, товарищи.
– Сдал – пусть себе идет, – вступил в разговор третий солдат. – Ступай, ступай, пан.
Здислав, улыбнувшись, пошел…
– Эй, – неуверенно крикнул ему в спину тот, первый, с простуженным голосом. – Эй, пан, предупреждаю: через пятнадцать минут наступает комендантское время.
Ноги, как прежде, скользили…
Здислав спешил.
Жался к домам, почти бежал, теперь уже задворками, одному ему известной (как сократить) дорогой…
Вдали от уличных фонарей было серо и глухо. Подсвечивал снег.
И безлюдье… Военные посты и те вдали, на пересечениях улиц, возле больших зданий, на широких дорогах. А тут – дворы с черными дырами лазеек.
Аспидные ветви деревьев были как обугленные руки распятых мучеников на мглистой плоскости занемевшего неба.
Куда он бежит? Кого хочет упредить, спасти?
Себя?
Вот она, с к в о р е ч н я, вот она!..
Прочный и высокий из кирпича-камня монолит, застрявший посреди старой сосновой рощи. Она, башня.
Вой ветра – будто волчий вой. Как жутко он воет, этот зимний ветер, как трясет он землю, ударяясь о стволы деревьев. Это деревья трясут землю.
Дрожь по земле.
Однако непоколебимо стоит башня, непоколебимо и равнодушно: не вздрогнет!
Темная, темная, темная…
В темном окружении…
Неужели Мария не боялась жить здесь, откуда она, беременная, брала силы и смелость каждый день лазить наверх?
Вон туда, туда, на самый верх!
У них же была лестница… лестница их семейной жизни… л е с т н и ц а в н е б о…
Была, была!
И вот она… нет, другая… она, она!.. нет-нет, другая, совсем другая, стоит, подпирая округлый бок башни.
Лестница!
Черт возьми, лестница!
Запаленно дыша, оскальзываясь на перекладинах, Здислав полез по лестнице наверх, и, задирая голову, он уловил промельки скудного желтого света в щелях заделанных досками бойниц.
Там, там, наверху…
Сейчас, сейчас…
Да слышно же, слышно, как они там, наверху, галдят: бу-бу… бу-бу-бу…
Подожди, Юрек, подожди, я вам скажу… Я скажу вам!
Крикнуть бы…
Но высушенный волнением рот был туго забит порывом ветра, и когда Здислав, оторвавшись от перекладины, потянулся к кирпичному карнизу, он услышал испуганный голос Юрека: «Нас выследили! Где, где Кусок?!»
Из ослепляющего света – при отброшенном деревянном щите – возникли чьи-то руки, с силой оттолкнувшие лестницу, и она, увлекая за собой Здислава, на какие-то доли секунды зависла торчком в воздухе и тут же, вращаясь вместе с землей, полетела куда-то над ней…
Ударившись затылком об лед, он не ощутил боли – лишь успел осознать, как от страшного взрыва на черные и красные осколки разлетелся земной шар. И ничего больше.
P. S. Полноты ради повествование нужно дополнить еще одним эпизодом – примечательным в своем роде, но применительно к происшедшим событиям, возможно, несколько запоздалым.
Вот он, этот эпизод…
Спустя месяцы летним утром у запертых дверей квартиры Здислава Яновского появилась довольно экстравагантная супружеская пара: толстая женщина в излучавших чистый благородный свет бриллиантах и худой мулат с оливковым лицом, обтянутый белым чужестранным мундиром с золочеными пуговицами и густыми эполетами. Стародавние жительницы дома с изумлением признали в богатой важной даме с далеко выдвинутой вперед и большой, как прилавок магазина, грудью давно исчезнувшую дочку столяра Яновского Веронку, которая, понятно, оставалась в их памяти худой, с плоским животом, без какой-либо заметной (не как ныне) задницы и уж конечно без таких умопомрачительных драгоценностей на шее, в ушах, на запястьях, которые сейчас, сверкая и переливаясь на ней, могли поспорить с ярким солнцем.
Но это на самом деле была она, Веронка, потому что, прослезившись, посморкавшись в кружевной платочек, она сама же подтвердила ошеломленным старухам:
– Это я. А это мой генерал.
Мулат при этом любезно улыбнулся, шаркнул ногой в черном лаковом ботинке со шпорой.
Тут все старухи стали вслух и вразнобой вспоминать, когда же они в последний раз видели пана Здислава и его внука Юрека, и выходило, что давно не видели. А самая молодая из старух сказала, что кто-то кому-то когда-то говорил, что пан Здислав и Юрек подались в деревню, где можно жить без продуктовых карточек, можно покупать мясо и молоко, и эта деревня вроде бы под Ловичом, между Ловичом и Кутно. Там и следует их искать. Не исключено, впрочем, что сами они не сегодня завтра вернутся, потому что сейчас в Варшаве совсем не то, что было вчера-позавчера…
Пани Веронка достала из сумочки бумажную салфетку и написала на ней следующие слова (эта салфетка до сих пор хранится у той самой – молодой – старухи):
«Миленький папочка и милая моя крохотулька Юрек я так изнервничалась вся из-за вас что уговорила моего генерала по пути в Париж заглянуть в Варшаву но вас мы дома не застали отчего все мое существо разрывается я рыдаю хотя надеюсь что возвращаясь из Парижа опять наведаюсь к вам а пока бессчетное число раз целую моих бесценных папочку и крохотульку Юрека».
Внизу под этими словами Веронка пунцовой губной помадой изобразила три сердечка, причем одно из них повыше, над двумя другими, и все их соединила рисунком мотоциклетного руля, так что то сердце, верхнее, обведенное кружочком, стало как бы мотоциклетной фарой.
После этого Веронка прошла со своим генералом к поджидавшему их белому открытому автомобилю с иностранным флажком на радиаторе, с шофером-негром за рулем, и они укатили.
Наверно, прямо туда, в Париж.
1986
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗВУКА И СУТИ
О прозе Эрнста Сафонова
Судьба всегда больше человека. Она начинается задолго до рождения каждого из нас. Немыслимым образом изгибается пространство, спрессовывается или растягивается время, – и все для того, чтобы именно в этом месте и в этот час встретились двое, которым уже с у ж д е н о дать жизнь, наделить судьбою третьего.
Но судьба больше человека еще и потому, что не завершается с его смертью, а продолжается, пока хотя бы одна душа сохраняет память о нем, пока хотя бы в одном теле живут те же клетки, те же гены, – зерна рода.
Она непостижима, но постигаема. И каждый серьезный писатель рано или поздно приходит к необходимости размышлений о ней – через осмысление жизни духа человеческого, таинственных движений души, – всего того, что возвышает нас над бытом, образуя и круг, и свод нравственного бытия. Это – в традициях российской словесности.
Высокая обязанность отечественной литературы поддерживать уже сам по себе у р о в е н ь (и этический, и философский, и художественный) таких поисков, размышлений, суждений характерна и для творчества Эрнста Сафонова. Наиболее ярко, может быть, даже предельно явно (в смысле именно предела психологического проникновения) это воплощено в одном из лучших, на мой взгляд, рассказов прозаика – «Лестница в небо».
Да и в других произведениях тоже, и, наверное, не в меньшей степени, – тут достаточно внимательно перечитать хотя бы книги «Под высоким небом», «Мгновения жизни», «Прожитый день» и другие или такие конкретные произведения, как «Осень за выжженными буграми…», «Старая дорога», «Дети, в школу собирайтесь!..», «Прожитый день»… Но именно «Лестница в небо» дает и повод, и основания говорить о своего рода новом качестве прозы, не отметающей, не отрицающей, как это порою бывает, накопленного и созданного ранее, а как раз органично продолжающей предшествующее: так на сочном стебле появляются все новые листья, однако ж затем, на самой маковке, распускается и цветок, чтобы, в свою очередь, превратиться со временем в целую кладовую семян – новых будущих стеблей.
…Надеюсь, и читатель, и автор «Избранного» с пониманием отнесутся к тому, что разговор начат не с биографических подробностей (военное детство, работа в газете, общественная деятельность) и даже не с хронологии творчества (какие книги и когда выпущены). По сей день пребывая в полной уверенности, что не только внутренняя, духовная жизнь писателя, но даже и вехи его внешней биографии всегда находят отражение в произведениях, из книг узнаю об их авторах гораздо больше, чем из самых подробных биографических справок. Поэтому и говорю в первую очередь о них – о книгах, ибо убежден, что именно они являются и формой, и способом существования писателя, – тем единственным, по чему сейчас и потом будут судить о нем.
Эрнст Сафонов выпустил немало книг, и эта, которую вы держите в руках, – в известной мере итоговая, но далеко не последняя из написанных и изданных. Такая же мысль появится, вероятно, и у тех, кто видел снятый по его повести художественный фильм «Не забудь оглянуться»! – одно из интереснейших и глубоких произведений о трагедии человека, вернувшегося с афганской войны. По всем внешним меркам и критериям подпадающий под литературное определение «представитель поколения «сорокалетних», он, именно как прозаик, все же избежал «обойменной» участи, – когда фамилия к месту и не к месту упоминается в одном и том же плотном, словно зазубренном ряду. Да, о нем писали и говорили, его книги не оставались незамеченными, вызывали интерес и у читающей публики, и в литературной среде; но говорили о н е м, а не об «одном из литературной генерации». И это ценно. Не потому, конечно, что прочие «сорокалетние» хуже, – нет, их имена давно и по праву на слуху; а потому ценно, для меня, в частности, что это – индивидуальный путь и к читателю, и к известности, и к признанию. Не в обиду другим, я именую подобное «ненасильственным путем в искусстве», – другого, в сущности, и нет, если привлечь такую категорию, как время.
Именно на этой стезе мы практически не встречаем конъюнктурных, в угоду моменту написанных книг. Ибо не могут быть конъюнктурными жизнь и смерть, добро и зло, любовь и ненависть, – категории, размышлять о которых критику позволяют только произведения определенного философского, художественного уровня.
Может быть, и по этой причине тоже, начиная говорить о прозе Эрнста Сафонова, первым словом избрал я слово «судьба». Это слово – одно из ключевых в творчестве прозаика, читаем ли мы его книги «Мужчины», «Дождь в пригоршнях», «Деревенская история», «Личная жизнь», «Казенные люди» или все тот же рассказ «Лестница в небо».
Что для него и его героев судьба – несвобода выбора? предопределенность? темная сила, с которою нет смысла состязаться?
Или то, чем были Мойры для греков и Парки для римлян?
Или слепой фатум?
Или же всеобщая справедливость, которой нет дела до имени каждого из нас и которая следит лишь за чашами весов, чтобы возмездие соответствовало содеянному?
Не исключая перечисленного, все же для героев Эрнста Сафонова судьба – одновременно и нечто иное, в чем совмещены, пересечены сферы небесного предопределения и земного бытия, свободы воли, но и – несвободы действий; ибо у них, у этих героев, чрезвычайно развито не только «чувство эстетического стыда» (Л. Толстой), но и чувство этической сообразности.
Впрочем, почти об этом же, но с привлечением конкретного примера, ясно написал и сам Э. Сафонов: «Первые годы моего детства пришлись на войну, я вырастал, можно сказать, на ней – на ее жутких дорогах, через унижение страхом и голодом и через осознание всесильности человеческого добра. Нет маленького добра, нет большого, есть человек, живущий п о п р а в д е, и он всегда сурово, справедливо добр. Такого человека, смею надеяться, можно найти в моих рассказах и повестях. Он мне близок».
Запомним: «с п р а в е д л и в о добр», ибо справедливость для Э. Сафонова – категория не только одного лишь морально-правового сознания. Это прослеживается уже в одном из ранних произведений, в автобиографической повести «В нашем доме фашист» (1966), где шестилетний Вася, так и не вкусивший запах детства (его заглушили гром и гарь войны, бессилие, страх, голод, ненависть, смерти, смерти, смерти), все же сохранил в душе тот Рубикон, через который не должно перебраться омерзительное зло, ибо оно не вечно. Естественно же, ничего не зная о Канте, маленький герой словно по постигнутому философом закону живет: «Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей». И ведь она п о ч т и исчезает – вот в чем трагедия, излом, надругательство. На его глазах вешали, сжигали заживо, расстреливали, насиловали, в него, шестилетнего, стреляли: «Они слились в грохот, в одну, две или три пули, невыносимо остро расщепившие его ноги»; но вся эта грубая сила, вся эта, попирающая здравый смысл мразь не смогли сокрушить психику ребенка с его бескомпромиссным отношением к добру и злу на уровне одной лишь правды, одной лишь справедливости. Не случайно повесть завершается несколькими строками от автора (он же – выросший герой):
«…Это так и живет во мне.
Фашист, пригнувшись, с автоматом в руке, облизывая пораненную ладонь, уходит вдаль.
Он ступает сапогами по моему сердцу, и оно, вздрагивая, напрягается».
И будет напрягаться, пока будет жить, – не только от боли, но и от невозданности, ведь еще Достоевский отмечал, что «высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда ее».
Именно поэтому война не стала для Э. Сафонова т е м о й, а осталась болью души, затянувшейся, но от этого не переставшей ныть раной.
Сам он скажет потом, спустя двадцать лет после создания автобиографической повести, так: «Многое, много… н а в с е г д а».
И вспыхнет немыслимым вызовом разуму уже послевоенный взрыв бомбы в повести «Дети, в школу собирайтесь!..».
И никогда не забудется бывшему фронтовику, ефрейтору Черкалину, тот страшный, смертный, последний бой («Под высоким небом»).
И прокатится на своей коляске сквозь всю повесть «Тонкие натуры» обезножевший на войне Тимоша.
И помянут, не забудут за Родину погибшего Александра Степан Чикальдаев и Ефим Сальников в «Африканском баобабе».
И умрет, все же успев передать молодому Павлу «зов издалека …смутное желание что-то понять, изменить в своей судьбе – не просто жить под этим бесконечным дождем, а понять», безвестный одинокий Василий Борисович, не умеющий позабыть погибшего на войне однополчанина («Прощай, старик!»).
И осиротит все та же война, аукнувшаяся в повести-хронике «Хлеб насущный», малолетнего Гарифа, скольких еще оставив страдающими и без вины виноватыми.
И всю жизнь, всю жизнь будет преследовать она же Здислава Яновского («Лестница в небо») и искорежит его, измотает, погубит…
Нависшая над детством писателя война вошла затем почти во все его книги уже не столько биографической канвой, сколько именно знаком судьбы: человек, который знает, что мог скорее погибнуть, чем выжить, обречен на размышления об этом противоборстве, тех силах, тех закономерностях и случайностях, которые сохранили его в мире. Одни обращают свой взор к Богу, другие склонны видеть причину в собственных заслугах; герои же Э. Сафонова ставят на человека, на людей, живущих по правде и по закону справедливой доброты. Это трудно, ибо надо иметь веру. Это даже опасно, ибо надо не бояться ошибок и быть готовым к ним. Но другого выхода и другого пути просто нет.
Говоря об этих героях и ситуациях, Е. Лебедев отмечал, что «жизненный материал, с которым имеет дело Э. Сафонов, в сознании широкого читателя так или иначе связан с именами В. Астафьева, В. Белова, Е. Носова, В. Распутина, В. Шукшина. После них трудно, очень трудно сказать свое слово в области нравственных проблем. Однако Э. Сафонову удалось это сделать, ибо он понимает очевидную для любого настоящего художника истину: кроме него самого, у него нет и не может быть соперников. Э. Сафонов состязается не с В. Беловым или В. Шукшиным, а с самим собой и в этом состязании по-своему открывает нравственную истину…»
Цитирую для того, чтобы не пересказывать лишний раз своими словами мысль, с которой безусловно согласен.
Однако же, кроме жизненного материала, который очень важен, как фундамент, существует и материал художественный, как бы мы его ни называли – писательским ли мышлением, почерком ли, стилем, системой ли образов.
Конечно, в творчестве настоящего писателя они не могут существовать отдельно, иначе получится или «голая» публицистика, или мало кому интересное эстетство. Но и сотворить из них единый сплав, по которому сразу угадывалось бы авторство, – тоже мастерство, основанное и на поисках, и на труде, и, если хотите, на интуиции – той самой, о которой критик Анатолий Ланщиков как-то сказал, что «художественная интуиция – это не случайный жест фортуны, а награда за то гигантское внутреннее напряжение, которое поглощает все ресурсы души».
Так вот, этот именно, и только сафоновский «сплав», из которого отливаются лики героев и оттачиваются стрелы метафор, привлекает своею неброскостью, что ли, своего рода как бы привычностью: да, мы так живем, так говорим; да, мы почти такие же, и вокруг нас такие же люди, как герои его повестей, – с теми же заботами, с тою же «некрасивой» жизнью и красивыми мечтами… Значит, это – и о нас?
Думаю, что так. Только, как это и всегда бывает в серьезной литературе, бытовая деталь или ситуация, пропущенная через художественное сознание, становится уже небанальной деталью и возвышенной ситуацией, возвращаясь к читателю в совершенно новом качестве; так оживает мертвый кристалл от попавшего на его грани солнечного луча и, ожив, радует глаз целым спектром.
Вот, казалось бы; самая что ни на есть рядовая, во всяком случае, не столь уж выдающаяся история: молодой литератор впервые привозит жену в родной поселок, где и сам-то бывает год от года все реже. Природа, забытые вещи навевают воспоминания; вид старых знакомцев заставляет задуматься о быстротечности времени; настраивает на элегический лад глухо падающая в саду перезревшая антоновка («Осень за выжженными буграми…»).
Чужие люди неторопливо проходят мимо, не слишком уж и задевая, – как спокойный свет ночных звезд. Вот разве что юная Зинка, запоем читающая Экзюпери, мечтающая о небе, о полетах, об аэроклубе, но вынужденная быть при больной деспотичной матери, – как маленький звездный взрыв на акварельном этом небосводе. Но и этого уже достаточно, чтобы поселились в душе героя волнения и тревога, присущие, в общем-то, каждому положительному персонажу произведений Э. Сафонова, если на его пути встречается непонятая, страдающая натура.
При внешней незатейливости сюжета эта маленькая повесть удивительно колоритна; так и хочется написать – сочна. Ее как-то по-особенному вкусно читать, вспоминая при этом целый ряд разновеликих мастеров пейзажа – от Бунина до Лихоносова. И вдруг понимаешь, что не движение сюжета, а движение характера, развитие самого по себе духа, которому не прикажешь, где и как ему бродить, – вот что таинственно завораживает и прельщает. И потому, дойдя уж до последней страницы и вновь вернувшись к началу, совсем иными глазами, с благодарностью даже, как за неожиданный праздник, перечитываешь замечательные в простоте своей строки: «…Чем дольше я не бываю здесь, тем ярче, полней, томительней для души мои встречи с этой старой бревенчатой радостью. Разнообразие корявых стволов усыхающего сада, тяжелая золотистая тыква на огороде, терпеливые лопухи под забором, и все, что делается внутри дома – от тиканья допотопных ходиков до заботливой просьбы выпить лишнюю кружку молока, – все насыщено особым, даже сентиментальным настроением, возвращающим к детству».
И потому с такою понятной болью и грустью, без препон впускаешь в себя завершающее повесть признание: «…Я обманывал себя, что не страшно уходить из отчего дома, – подумаешь, каких-то шесть-семь часов езды от Москвы, скоро снова приедем, вырвемся, найдем время, честное слово…»
И как все же надолго они запоминаются: тот поселок, гора, та длинноногая Зинка, хотя – что в ней такого уж, кроме маленькой драмы да большой мечты?
Что? Наверное, та самая нематериальная душа, без которой грош цена всем нашим материальным ценностям.
Как в этой, так и в других повестях герои Э. Сафонова рвутся на простор, к природе, к земле, и редко когда – наоборот, в большой город. И это так же не случайно, как не случаен изумленный внутренний выдох героя все этой же повести, нашедшего в чулане пыльную, без начала и конца книжку: «Прочитаешь вот это – тесно в груди станет, тревожно и вместе с тем весело, словно нашел дорогой для тебя давно потерянный предмет. Нашел, и сразу невозможно поверить, что вот он, вновь с тобой… «Батюшки, – думаешь в растерянности. – Пушкин! Где ж я все-таки был столько времени?! Пушкин…»
Как это невзначайное, незапланированное свидание с лучшим явлением родной культуры, так и свидание с родной природой раскрепощает, высвобождает душу; нередко герои, да и сам автор просто опьянены ею, – по крайней мере, без проникновенного понимания вряд ли возможны столь точные наблюдения и столь теплые описания.
Здесь как нельзя более к месту подходит оценка Леонида Бежина, относящаяся, правда, к другому произведению Э. Сафонова, историческому роману «Казенные люди», но, на мой взгляд, вполне распространяющаяся на всю прозу писателя с ее «развернутыми и интонационно выверенными, пластически выпуклыми и рельефными описаниями, яркими метафорами и сравнениями»: «Э. Сафонова как прозаика отличает и элегическая задумчивость интонации, и легкая ирония, и зрелищность образа, однако стиль никогда не становится для него самоцелью, и он не столько в ы п и с ы в а е т окружающее (обстановку, людей и т. п.), отдаваясь словесной стихии, сколько концептуально выстраивает произведение…»
Да, именно такие, в добром смысле слова в ы с т р о е н н ы е – и «Золото долгих песков», и «Хлеб насущный», и даже – «Тонкие натуры». Но, думаю, не только в концептуальной завершенности, а скорее всего и вовсе не в ней кроется привлекающая прелесть лучших лирических рассказов и повестей Э. Сафонова. Не в демонстрации мастерства (к чему лишний раз подчеркивать то, что и само собою подразумевается), а в той этико-эстетической атмосфере, в какой только и может жить д у ш а; ибо в ней, этой жизнетворной атмосфере прекрасное в природе стремится слиться с возвышенным в человеке (как в «Осени за выжженными буграми…»), а безобразное отторгается, изгоняется. Не зря же почти полностью ушла природа из рассказа «Крыша над головой отца», ушла – от героя; нет, не потому, что этого желал преуспевающий актер областного ТЮЗа Василий Тюкин, – это сама природа отодвинула от себя героя, подменившего жизненные критерии, ценности, добровольно согласившегося на подтасовку: должок вместо долга, временная правдивость вместо единственной истины, сиюминутная выгодная честность вместо постоянной чести.
А и всего-то проблем – взять да и съездить в деревню, к отцу, помочь подремонтировать избу, тем более что уж и брат письмо прислал: «Это, Вася, одна просьба, последняя, и тебе ее нужно уважить, чтобы не похоронить нам стариков в дырявом жилье, ибо будет нам стыдно на похоронах».
Стыдно… Но стыд в Тюкине уже начал вырождаться в стыдливость, что вовсе не одно и то же. А тут, как на грех, как на испытание, – соблазн: выигрышная роль. И он сделал свой выбор, решив отделаться денежным переводом вместо той реальной помощи, которая от него ожидалась. Оказалось – навсегда, ибо вскоре принесли и телеграмму, из которой следовало, что «отцу уже ничего под этим небом не требуется».
Однако и здесь автор оставляет своему герою надежду на выход, на переосмысление своей жизни, на раскаяние и обновление, – в самой последней фразе появляется, словно вдруг, темный зимний рассвет: так и в душе Тюкина – еще темный, но все же – рассвет.
В потоке жесткой современной прозы, словно бы принципиально не признающей ни лирики, ни, тем более, сентиментальности, рассказы Э. Сафонова (особенно ранние) подобны теплому течению, ибо автора привлекает не только сама по себе ситуация, сюжет, но прежде всего – характер героя, его душа, его умение или неумение жить в ладу с собою и с миром. Я бы назвал это – прозой обещания, в том смысле, что умному, вдумчивому читателю она обещает и дальнейшее развитие чувства, и мысли, – уже после прочтения, когда книга отложена, но еще держит в поле своего притяжения. Это относится и к «Африканскому баобабу», и к «Прожитому дню», и к «Старой дороге», и к «Петрову»…








