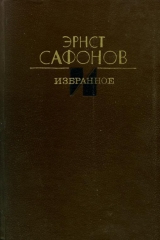
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
– Покуда, однако, жив я, ребяты, – опять вслух произнес Степан – покуда действую…
Седьмое мая – такой уж это день у него, седьмое мая… Он вылил немного из бутылки в стакан и выпил. Посмотрел на чернеющие силуэты самолетов. Стоят себе самолеты, должны стоять. Он при них, они при нем.
А седьмого, в ясный майский день, их десантная рота находилась возле танков, в польском лесочке, и так тепло было – шинели поскидывали, разулись, развесив по кустам мокрые портянки, давая отдых натруженным, зашелудевшим в беспрерывных маршах ногам. Они – Колька Пущиков из-под Оренбурга, донецкий шахтер Иван Ржевский и он, – босые, в распоясанных гимнастерках, только что отобедав, стояли за «тридцатьчетверкой», курили, а танкист сидел на броне, неумело играл на немецком аккордеоне. Они слушали его и потешались. «Ну, пехтура, – сказал танкист, раздувая тонкие, обкусанные огнем, в ожоговых рубцах ноздри, – ну, братики, как пойдем в атаку, вскочите на броню – я вас через елочки-осиночки, через то, где погуще, проволочу. Чтоб вас ветками по мордам и ж… нахлестало за ваши смешуечки насчет танковых войск!» Иван Ржевский шагнул к гусенице, протягивая руки: «Одолжи, сержант, инструмент – покажу тебе настоящую игру…»
Будто вот так, в протянутые руки свои, и принял Иван ту шальную, наугад, видно, выпущенную, да прицельно сработавшую мину. Последнее, что увидел Степан, – именно их, Ивановы руки, обнявшие белесый высверк огня.
Моложе, поглупее когда был, Степан, бывало, рассказывал кому-нибудь – как тогда это произошло, как стояли, о чем говорили, как ударило, и он, один изо всех, чудом остался в живых. И если за стаканом рассказывал – текли у него слезы, а то и рыдал он – в своей непонятной другим любви и преданности Кольке, Ивану, тому с изувеченным носом незнакомому танкисту… Но вовремя остановился – рассказывать. Дошло до него, что люди, слушая, отворачиваясь от его слез, не видят в этот момент, как хотелось бы ему, ни Кольки Пущикова, ни Ивана, ни танкиста, а лишь одно прет им в глаза, застилая любой другой свет: напился, мол, инвалид, психует… Однажды вот так, уловив на случайном лице брезгливо-жалостливую улыбку, чьи-то пренебрежительные слова: «Верьте ему больше… это ж Чикальдаев!», он, вмиг протрезвев, закаменел: «Штоб я хоть ищо раз вам… сволочи!»
Степан опять немного налил в стакан и опять долгим взглядом обвел самолеты. На месте?
Из тарасовского клуба, что сиял на пригорке десятком высоких, залитых электричеством окон, долетали сюда, к вагончику, перепады громовой музыки. Такая ревущая музыка, казалось, могла расшатать стены, и впрямь, когда Степан всматривался, ему чудилось: клуб дрожит.
– Жизнь давно тихая – музыкой гремим, – сказал себе Степан, чувствуя неясную и вроде б даже одобрительную зависть к тем, кто сейчас в клубе, в свете люстр, в потной духоте разгоряченных танцами тел, и парни там в белых рубашках, пестрых галстуках, девушки полноногие, в куцых, по моде, юбчонках, лакированных туфлях, и никакой нужды, никаких болячек у них, как и должно быть в пору юности – такой хорошей и такой короткой у человека… Седьмое мая – и как ему про другое не вспомнить? Тоже ведь танцевали, тоже ведь… приспосабливались, применялись, тоже счастья хотели. Да.
В конце лета сорок четвертого года, повалявшись в госпиталях, вернулся он в свое Прогалино, к хворой матери. От невынутых осколков свищи на спине никак не зарубцовывались, в голове от малокровия будто комариный звон стоял. Но лишь только, бывало, у кузни послышится гармошка – туда, где девки с семечками, подле них ребята-стригунки лет по пятнадцати-шестнадцати вьются… С фронта пришедших трое было: гармонист Ванюшка Тестов с простреленной грудью – умрет вскоре; еще Илюха Красноперов, кузнеца сын, тоже матушка-пехота, с выбитым глазом, сейчас председателем сельсовета работает, Илья Ананьич; да сам он, однорукий, значит, с изувеченной ногой, с продырявленной шкурой. Ванюшка играл «страдания», «Семеновну», танцы разные – тустеп, полечку, другие довоенные – с притопом которые, с кружением. Девки смеялись, потряхивались, будто куры у зерна, себя вовсю показывали, и хлоп-хлоп какому-нибудь стригунку по шее, по горбу: не лапай – сопливый еще лапать-то!
– Было дело, всякая прелюдия, – вслушиваясь в яростную клубную музыку, бормочет Степан и в старый плащишко кутается: от влажной весенней земли заметно холодом тянет.
А небо заискрилось звездами.
Степан выжал из бутылки в стакан последнее, но, задумавшись, не выпил.
Седьмое мая, а Мария, поди, тоже забыла, что есть такой день: он в молодости-то и ей рассказывал, но потом, замкнувшись для всех, для жены тоже исключения не делал. Сам помнит… сам-то все помнит… Свою беленькую, выжженную хлоркой госпитальную гимнастерку с орденком Славы – помнит. В ней приходил на те самые танцы, стоял с улыбочкой на губах, стесняясь своего пустого рукава, заправленного под трофейный, с пупырчатой бляхой ремень. Илюха Красноперов, тот на выбитый глаз черный чуб начесывал, маскировал и к девкам без стеснения подходил: всё на месте – чуб торчком! Он Илюхе табачку, он к нему с разговором, чтоб тот рядышком постоял, не одному чтоб спиной корявый осокорь подпирать, но Илюха, закурив, оправив пиджачок с медалями, лихо кидался к атаку – девки с радостным визгом не от него брызгали, а к нему… В две руки, чего ж, всех обхватишь и удержишь.
А он стоял, улыбаясь; к Ванюшке Тестову подвигался ближе, к его гармони; смолил цигарку за цигаркой – до угарной дурноты в слабой после ранения голове. И однажды в разгар танцев – Ванюшка чего-то лихое, веселое наяривал – подлетела, обожгла близким дыханием Мария, сказала: «У тебя чего – столбнячная болезнь аль сапоги жмут? А ну пошли!..» Затянула в общий круг, не отпускала; а через два дня они уже целовались за ригой, в коноплянике, у него сердце лопалось, задыхался – от подвалившего внезапно счастья, от боязни, что Мария, опомнившись, сбежит… Приехала она с торфоразработок, куда была мобилизована по трудповинности, и боялась, что снова пошлют на то болото, в те бараки, на чужую для нее жизнь. Хоть там платили, какой-никакой паек шел, не то что в колхозе, но ехать ей туда не хотелось, и как вспоминала плакала. Он целовал ее – она плакала.
А на третий-четвертый день в Прогалине объявился Сашка Сальников, проездом с военного завода на фронт, в свою часть, каким-то образом выкроивший короткое времечко на свидание с родиной, в погонах младшего лейтенанта, в хромовых сапожках, желтой скрипучей портупее, с пистолетом на боку. Степан, как только из окна увидел его, рыжего, с улыбкой во все лицо, понял: пропал… Мария до войны дружила с ним, Сашкой, и хоть тот вскоре уехал в Москву, учился там на токаря, на побывке не был, писем не писал, – что-то меж ними, наверно, оставалось. Вечером на танцах Сашка, увидев Марию, какие-то слова ей сказал, вроде б как поманил, потому что сам вразвалочку, с поджиданием пошел от осокорей, а она, помешкав, оглядываясь, побежала следом. Степан тоже, не помня себя, рванулся за ней. Но ему на плечи сзади прыгнул Сашкин брательник Ефимок, повалил, они покатились, и Ефимку на подмогу вороньем бросились другие стригунки, приятели его: заломили руки за спину, впопыхах, в азарте так надавили на искромсанную, в гнойных латках спину – Степан, охнув, потерял сознание. Очнулся – Ефимок ему из своей кепки воду на лицо лил…
Почти неделю Сашка Сальников скрипел своей новенькой портупеей в Прогалине, наваксенными сапогами и белозубой улыбкой во весь рот сверкал. Патронов много имел при себе: каждую ночь хлопали пистолетные выстрелы за ригой, в кустах, где пруд, у леса. Тешился, салютовал, Марию тешил. Ночной осенней порой особенно все слышно – и Степан слушал.
Меньше чем через год лейтенанта Александра Никитича Сальникова убьют в Германии, уже после Победы, в июле – августе, где-то, как потом рассказывали, на берлинском шоссе, когда он был старшим патруля, – автоматной очередью из машины.
Ефимок – срок подоспеет – уйдет в армию, на Тихоокеанский флот, и застрянет там, на Дальнем Востоке, подавшись после демобилизации в рыбаки; и на корню бывшей избы Сальниковых нынче никакого следа не осталось, затоптали место, потому что напротив позже был поставлен бригадный амбар, возле которого чуть что – по наряду, в праздник ли – собираются все, на ком еще поредевшее Прогалино держится…
– Ничего, – потряхивая головой, будто тем самым отгоняя тревожные, давящие душу видения, произносит Степан, махом выпивает остатки и смеется. То-то, поди, Мария, когда увидела, что он увел поллитровку со стола, костерила его, то-то ей было досадно: из-под носа, для зятя купленную, а он, зять, и грамма из нее не выпил…
А уже совсем затемнело, луна укрылась тучками, самолеты на поле едва различимы, и в тарасовском клубе хоть огней не погасили, но музыки больше не слышно. Степану хочется достать из кармана коробок с орехом, пощупать, потрогать африканский семенной плод, однако он боится: вытащишь – уронишь. Пол в вагончике щелястый, ищи-свищи потом… И почему-то Степану сегодня одиноко, муторно; вот думал обо всем, вспоминал – и растравленное сердце просит чего-то, мается. Чего оно просит? О чем жалеет? Чего ему надо?
Степан силится представить, каким может вырасти африканский баобаб, и вырастет ежели – что будет-то тогда?
Но что для сердца какой-то африканский баобаб? Так, забава, интерес, озорство мысли…
Щемит сердце. Кругом тихо, ни души.
6
В эти минуты лесной дорогой, пугаясь темных бесформенных кустов, обмирая от всякого внезапного шума – сонная ли птица вскрикнет, сучок треснет, – бежала к аэродрому Мария. В одной руке у нее был узелок с едой, в другой гнутая железная кочережка – отбиваться, если что…
«Седьмое мая, – думала она, – поминальный день у него. Один там – чего в голову не придет! И посудину опорожнил – до аэропланов ли ему? Веревочкой прицепят, уведут аэропланы – не расхлебать тогда. Шпионы какие-нибудь, а то хулиганы из Тарасовки. Иль сам сядет в кабину, полетит. Такой день у него нынче – полетит! Только, может, там с одной рукой не справиться? Да ведь приглядистый – как летчики делали, так и он… На комбайне-то катался. Завел и покатил. Судьба не выпала – он жизнь себе, как мальчик, выдумывает. Горюшко-наказаньице!..»
7
В те дни, что молодые перед поездкой в Прибалтику на санаторный отдых жили в Тарасовке, наведывались они еще несколько раз. Но Степан, привязанный к своей пыльной аэродромной работенке, видел их мельком. И не потому, что так уж шибко занят был, – отлучился б на часок-другой…
Не хотелось ему.
При виде зятя, как только они встречались и надо было что-то говорить друг дружке, у Степана сухо стягивалась кожа на лице, застывало оно напряженной маской, и вместо улыбки выходила какая-то оскаленная ухмылка, неприятная и жалкая. Степан пытался быть прежним, придавая своей физиономии радушный, «приличный» вид, однако чувствовал со страхом, что, стоит Виталию сказать ему слово-другое, кожу начинает сводить судорогой, тянуть, будто она усыхала, натягивалась от глаз к скулам, шее, и как ни силился – ни улыбнуться, ни вымолвить что-нибудь свободно и весело… Гипноз, да и только!
Виталий, наоборот, вроде б подобрел, оттаял: при встречах оживлялся, подмигивал заговорщицки, спрашивал:
– Что, Степан Иваныч, скоро удивим?
Одно и то же, как попугай: «…удивим?»
Тоня, слыша это, тревожно и недоуменно круглила глаза:
– Чего это вы, чего? И молчат, противные… Витали-ик, ну!
– Международный секрет, – дразнил Виталий.
Спичечный коробок с африканским орехом грелся у Степана во внутреннем кармане пиджака, и в такие минуты, когда Виталий подмигивал, Степан готов был запустить этот твердый орешек куда-нибудь подальше – чтоб улетел, и черт бы с ним!.. Подумать трезво, к чему, на кой ляд вся эта малахольная затея с баобабом… людей тешить? Взойдет, укоренится – куда еще ни шло… а если не проклюнется, тяжела ему наша земля будет? «А тогда и хрен с ним», – вяло отмахивался от собственных сомнений Степан; крутилась в сознании легкая фраза, слышанная от пилота Эдика: «Идея наша – деньги ваши!..» И тут идея, а в случае чего никакого расхода-убытку!
Эдик однажды лихо подбросил его до дома на заднем сиденье мотоцикла, одолженного им на время у кого-то в Тарасовке, и, увидев у калитки Виталия, сказал ему:
– Привет, товарищ зять!
– Неумно, – ответил Виталий. – Если вам угодно, звать меня Виталий Григорьевич.
– Здравствуйте, Виталий Григорьевич, – поправился Эдик, по-военному приложив ладонь к козырьку фуражки. – Вы, кажется, дипломатический работник?
– Ты познакомься, Эдик, – вступил в разговор Степан. – Это вправду зять мой, Виталий… Григорьич. Он холодильный инженер, из Африки…
– Если я на этот раз хорошо разбросаю неорганические удобрения над обширными колхозными полями, у меня тоже будет шанс полетать над Африкой, – сказал Эдик, ставя мотоцикл на проножки. – Лет через десять, наверное. Или через девять…
Виталий скучающе отвернулся. И подошла Тоня – в ярком, как радуга, коротком сарафане, с распущенными по плечам густыми вьющимися волосами, загорелая, с белозубой улыбкой; с интересом вглядывалась, с кем это они тут, кто это чужой на мотоцикле…
– Ну, – произнес Эдик, – ну…
– Здрасьте, – сказала Тоня.
– Ну… это самое, – произнес Эдик. – Это… откуда вы?
– Из дома, – ответила Тоня, и щеки ее дрогнули в сдерживаемом смехе.
– Из этого?
– Из него самого.
Находчивый Эдик почему-то молчал, одергивая синюю тужурку с золотыми нашивками и золотыми пуговицами; улыбался – и красно зарумянилось его лицо под фуражкой. «Эт такая наша Тонька красивая, – гордо подумал Степан, – эт нам примелькалось, а свежему взгляду – навылет!» И приметилось ему нечаянно, что на какой-то миг плечистый, ладный, белокурый Эдик и дочь его, такая же ладная, словно сестра летчику, увидели что-то глубоко-глубоко в глазах друг друга, вспыхнуло это в глазах на секунду и сблизило их, но Тоня тут же, потерянно и смущенно, свои потупила, а у Эдика напряглись спина и руки в локтях да краска на лице проступила еще заметнее. Виталий, криво сутуливший плечи, зябко обхвативший их ладонями, глядел вроде б в сторонку, на дальний конец дороги, но и его как бы встряхнуло невидимым током – дернулся, резко пошел прочь, в глубь палисадника, придавленным голосом крикнул:
– Тоня, ты мне нужна!
Теперь Тоня румянцем залилась; так и не подняв больше глаз, быстро пошла вслед за мужем.
– Зять, значит? – возбужденно, с коротким смешком спросил Эдик. – Зять, который любит взять. Так, что ли? Грач черный, да?
– А зачем, удивляюсь я тебе, Эдик, про грача? – ответил Степан. – Черный, белый, пестрый какой… ну?! Мы люди.
– Это, батя, я сбился с курса, извини, – садясь на мотоцикл, громыхающе запустив мотор, бросил Эдик. – Это потому, что не могу равнодушно проходить мимо жизненных несоответствий… Привет!
И укатил.
Виталий, когда сели за стол, обедали – ни к кому не обращаясь, вроде б размышляя вслух, – вдруг стал говорить:
– Что за летчики тут, которые на фанерных ящиках летают, мусор сверху на чистую землю сыплют? А что?! Мусорщики! Как еще назовешь? Форма, поглядеть, та же, что у настоящих пилотов, кому-то в глаза может кинуться, затмит, так сказать… а они самого низшего разряда, золотари они. Этот, на мотоцикле который, дубиноподобный… тупой он, уверен, как пень. Потому не на реактивных – на фанере летает. Только слава – летчик! Тупой. И цена его должности – девяносто рэ в месяц. А вычтут – семьдесят восемь на руки… Вдвое меньше шофера!
Степан хотел было возразить, что Эдик – умный, веселый, он только училище недавно закончил и уже сдал другие экзамены – через месяц переводят его на большой самолет… хотел, но, остановив взгляд на дочери, сдержался. Тоня щипала кусочек хлеба, словно цыплятам крошила, не замечая, что всю уже клеенку перед собой обсыпала крошками, и по ее лицу было видно, что казнит себя, и от слов мужа ей горько и стыдно. За себя стыдно. Какая она глупая, оказывается, какая плохая. Глаза у нее были виноватые, красные – плакала, видно, когда до обеда ходили они с Виталием возле дома, и тот, горячась, все руками размахивал, что-то втолковывал, доказывал…
Эдик после снова доставлял его, Степана, с ноля к домашней калитке, но уже не выпадало, чтоб молодые в этот момент были в Прогалине. Эдик вертел шеей, смотрел в окна, как-то даже зашел водички испить – и уезжал ни с чем. А Степан, понимая, радовался тихо, что Тони нет. Зачем ее податливую, мягкую душу пугать? Мужнина жена, не девка… Но самого, чувствовал, тревожило вот это схваченное ненароком – как Эдик и Тоня там, у ограды, окунулись в глаза друг другу, как что-то – хотели они или нет – не секунду толкнуло их навстречу друг другу… Он думал, что они как раз такие, как на плакатах рисуют, – здоровые, сильные, красивые, молодые мужчина и женщина; их, Эдика и Тоню, тоже можно срисовать, поставив рядом, а под ними пиши что хочешь – про пятилетку, про достойную встречу всенародного праздника, про подъем урожайности: все на такой плакат посмотрят, мимо не пройдут.
Но Виталий с Тоней скоро отбыли на свой курорт – подремонтироваться перед возвращением в Африку, а Эдик (дело холостое!) увлекся Лидией Ильиничной, дочерью Ильи Ананьича Красноперова, председателя сельсовета. Лидия Ильинична – учительница в Тарасовской школе, а родительский дом, где живет она постоянно, здесь, в Прогалине, – вот Эдик взялся ее по вечерам подвозить… Ничего, конечно, девка Лидия Ильинична – кругленькая, грудастенькая, губы крашеные, глаза синие, в отца своего кудрявая, да только росточком не вышла: хоть на каблуках, а Эдику по локоть. Не то что Тоня… Да ему ж, Эдику, не жениться, наверно. Прислонится на время – и уйдет. Улетит на крыльях.
А между тем май перекатывался на вторую половину: зацвели сады, в белом молочном тумане гасли ночами, не набрав силы, «черемуховые» холода, дуб, переждав заморозки, выбросил листья, и как только стало вовсю сушить, припекать землю – ударили звонкие грозы. С громами, стеклянно раскалывающими небо, с короткими шумящими ливнями, радостно омывающими зелень. Такие майские дожди хлеба поднимают.
После одного из них, гулко встряхнувшего все живое поутру, Степан, как только солнце вытопило верхнюю влагу, почва опять стала комковатой, не липла к подошвам, направился к облюбованному местечку на огороде.
Он разгреб пальцами взрыхленную землю, ощущая ее жаркое нутряное тепло, потыркал прихваченным кухонным ножом, делая лунку, и положил в углубление африканский орех. Не глубоко и не мелко. Полил из банки навозной жижей, осторожно засыпал; стал втыкать вокруг радиусом в метр тонкие колышки. Часто, с малым просветом, чтоб даже цыплята не пролезли.
Неслышно подошла Мария – в переднике, резиновых сапогах. Собралась на ферму, значит.
– Ты что это, отец?
Лузгала семечки, смотрела.
– А! Орех посадил, – ответил он, поднимаясь с колен.
– Тронутый ты, ей-богу, – сказала Мария. – Разве орех на огороде вырастет?
– В лесу-то растет!
– То в лесу. Там климат для него…
– Природа – она, знаешь…
– Тебя знаю. Да мне что… забавляйся!
– А тогда какие вопросы имеются? – Он вытер пальцы о штанину, подставил ладонь: – Сыпани подсолнухов-то… Вопросов тогда никаких, вот што имеем…
Оба сплевывали шелуху с губ, стояли, вбирая в себя чистый свет и солнце нового утра.
8
Дни бежали по-летнему быстро: успевай оглядываться! Июль всходил на порожек. На полях и огородах кудрявилась, буйно шла в рост всякая растительность, трава вдоль дорог и на лугах была такой густой, сочной, что влажно зеленила сапоги.
И лишь африканский орех не показывал признаков жизни.
«Дерево, – успокаивал себя Степан, каждое утро осматривая свою «плантацию», как прозвал про себя то заветное место. – Дереву проклюнуться – не морковке хвост выкинуть…»
Был уже такой интерес: выглянет росток или нет, и если не объявится – черт с ним, потери впрямь никакой, а объявится – надо будет проследить, к осени в кадку, может, пересадит он его, пусть в избе перезимует, а затем уж, как войдет в силенку, снова на волю…
Молодые после санаторного отдыха опять уехали в Африку. Машину Виталий оставил в Тарасовке у матери: сват Григорий перед смертью отгрохал за избой бетонированный гараж – два трактора войдут. Надорвался на этом гараже: белые мухи летали, и он спешил – штукатурил, отделывал, шифером крыл. Сам, в одиночку. От корыта с раствором унесли в дом, когда упал, – и больше уж не поднялся на ноги.
Виталий в день отъезда попросил Степана показать, куда он высадил орех, и тот повел показал… Зять совет дал: полиэтиленовой пленкой сверху прикрыть, чтоб к африканскому микроклимату приблизить, там же духота, парящий зной. «Не знаю, не знаю, – говорил Виталий, – что там, как… Однако, Степан Иваныч, только смелым покоряется мечта, лично я желаю успеха!»
И руку тряс.
Расставались на этот раз, как никогда, душевно.
Что-то к лучшему стронулось все-таки в зяте – Степан почувствовал это. Да ведь, подумать, непросто все это, омывает душу волнением – прощанье с родиной, дальняя дорога, перелет через моря-океаны, через агрессивные нам территории.
Трещал по вечерам мотоцикл Эдика, распугивая прогалинских кур; сверкала загорелыми коленями Лидия Ильинична, лихо восседая на заднем сиденье в пилотской фуражке с крылышками.
Степан тоже по-прежнему носил такую фуражку, хотя при аэродроме уже не состоял – перевели кормовозом на ферму. Два самолета, отработав, улетели; третий, в двигателе которого что-то переломилось, стоял там, на поле, прикрытый брезентовым чехлом. Ждали ремонтную аэрофлотскую летучку. Потому-то Эдик остался. При самолете и при Лидии Ильиничне.
Степан жалел о своей аэродромной должности. Там была ответственность, было дело, непохожее на все, чем занимался обычно.
Там не скучно было.
Сразу после войны он хотел найти себе подходящую работенку, такую, чтоб все-таки видели тебя и чтоб при одной руке по силам была. Поехал в район устраиваться на курсы колхозных счетоводов… Документов об образовании не было – заставили диктант писать. Заведующий райзо, такой же однорукий, как он, из воевавших офицеров, поглядел на листок с диктантом, спросил со вздохом, сколько у него, Степана, классов за плечами. «Поболе, чем пять, – сказал Степан, уже зная, что провалился. – Ды шестой колидор!» Повернулся и пошел, чтоб не увидел заведующий, как губы у него затряслись.
А больше никуда не совался.
9
Тарасовский мальчонка на велосипеде привез вечером Степану бумагу из сельсовета, подписанную председателем Ильей Ананьичем Красноперовым и скрепленную печатью. А печать есть – уже документ по всей форме.
Документом предписывалось Степану Ивановичу Чикальдаеву быть завтра, в воскресенье, к 10.00 утра в Тарасовском сельском Совете депутатов трудящихся на торжественном вручении наград – и желательно уже при имеющихся наградах, если таковые у вызываемого лица есть.
Степан не понял, кого это должны награждать, при чем тут он, а потому перед сном заглянул на огонек к Красноперовым. Однако самого Ильи Ананьича дома не было – еще не вернулся со своего рабочего места, жена и Лидия Ильинична, грустно читавшая на диване толстую книгу, ничего не знали про такое мероприятие, и Степан ушел ни с чем.
Просыпался он всегда в пятом часу, в полшестого уже приходил на ферму, когда ни Марии, ни других телятниц там еще не было, и начинал трудовое утро с подвоза воды. Запрягал Орлика в дроги с бочкой, ехал на пруд, там черпаком наполнял бочку, отвозил, приезжал, снова отвозил и снова… По пятнадцать бочек утром и столько же вечером.
Одна такая ферма осталась в колхозе – без водопровода, допотопной постройки. Ее сносить хотят, как неперспективную, удаленную от центральной усадьбы, но пока, наверно, боятся: чем тогда пожилых прогалинских женщин занять? В Тарасовку их не заманишь. И Степан при них, несмотря что с одной рукой, все равно как исправно действующий хороший механизм: он вместо водокачки, он корма доставляет, он, короче, мужская сила тут. Ведь мужиков в Прогалине – раз-два-три… Кроме него, Степана, тот же Илья Ананьич, но он при ответственной должности; Тимоха Кила из-за своей подозрительной болезни всю жизнь то весовщиком, то в кладовщиках; его сын, Виктор Тимофеич, главный колхозный агроном; сосед Степана, через плетень, Гуигин – отставной старшина военного музвзвода, только недавно в Прогалине поселился: купил здесь дом. Играет на трубе да пчел разводит. Есть еще старики, но они уже сами по себе – древние очень.
И повестку из сельсовета одному ему, Степану, доставили.
Он проснулся с этой мыслью: ехать в Тарасовку! – и оказалось, что продрых. Ходики седьмой час выстукивали. С чего-то он так разоспался? И Мария не толкнула…
Сон! Такой сон перед тем, как проснуться, привиделся – смотрел в удовольствие, разнежил его сон. Будто ходил он, постукивая прутиком по голенищам сапог, под зеленым шатром африканского баобаба, солнце вовсю светило, птицы щебетали, и с пригорка ехала открытая красная легковая машина, направляясь к его избе. Люди в машине не сидели, а стояли, аплодировали, размахивали руками, соломенными шляпами и белыми фуражками. Степан ждал, зная, что сейчас будут его награждать чем-то хорошим за выращенный в огороде баобаб…
Как всегда, видение оборвалось перед самым приятным – получением награды. «Перебьемся, – торопливо брызгая водой в лицо, с усмешкой сказал себе Степан. – Конец в сельсовете досмотрим!»
Когда управился на ферме, уже девятый час шел. И Мария вдруг надумала: ты едешь в Тарасовку – меня подвезешь, я оттуда на Дувакин хутор к сестре пойду, год у них не была, а сегодня у Елизаветы день рождения… Договорилась тут же, чтоб ее подменили на целый день, до завтрашнего утра.
Пока жена гладила кофту, собирала сумку, Степан облачился в новую рубаху, темно-зеленый, полученный от зятя костюм, прицепив к пиджаку потемневшую Славу и медаль за Победу со Сталиным на ней.
Казалось, что Мария по бабьей привычке долго возится, готовя себя в дорогу, опоздает он из-за нее – понукал то и дело и, ругнув в досаде, выскочил за дверь. Подергал, проверяя, упряжь на Орлике – так, для порядка; пошел в огород, над которым с гудением летали соседские пчелы.
Перешагивая картофельные грядки, приблизился к своей «плантации», нагнулся и… замер, ощутив, как гулко и пугливо толкнулась в висках кровь.
Подсохшая земляная корочка в центре огороженного круга чуть вспучилась, раздавшись по сторонам трещинками: что-то изнутри подпирало ее, выбивалось на свет! Не дыша, он осторожно колупнул корочку ногтем – и тут же увидел белый и острый, как шило, кончик ростка.
Мать честная, проклевывается!
Сон в руку!
Дал все же, дал орех завязь!..
Опустился на колени, смотрел…
Заостренная крошечная головка, тонкая игла, пробивающая себе дорогу!
Что же будет через неделю, через месяц?
Верил – не верил. Не верил – верил. А вот, пожалуйста, факт… Может, не вырастет, а завязь на нашей русской земле дал. А почему б ему не вырасти, ежели похлопотать возле него?! Утвердится побег, станет стеблем, прутиком, тростиночкой – на зиму, перед первыми холодами, как уже думал, в кадку его, в домашнее тепло. Проконсультироваться у ученых – запрос в газету… Ответьте опытнику, присоветуйте… Не очень-то у нас в деревнях баобабы растут! Тут уж всеобщий интерес…
Сердце подрагивало в волненье.
А Мария кричала из избы:
– Отец, ты где? Поехали, отец!
Шел к ней – улыбка рот растягивала.
Но ничего не сказал. После…
Запрыгнул на телегу, но тут же мысль обожгла: а что какая-нибудь птица склюнет росток?
– Тпрру-у-у!
Сорвался, снова затрусил за избу – на погребец, где, вспомнил, у запасливой Марии лежал большой кусок полиэтиленовой пленки. Им, набросив на колышки, и прикрыл «плантацию».
Мария спросила:
– Животом маишьси?
– Головой, – бодро отозвался он.
– Эт ты всю жизнь, – подкольнула она. – И то: от живота скрючило б, а ты сияешь, как вон твоя медаля. Один звон!
– Ты мне лучше денег дай, штоб в случ чего не срамотиться… Складчина, возможно, какая, всякие взносы. И не рупь, што ныне на рупь сделаешь!
– Два?
– Для полного счету три.
Мария, покопавшись в сумке, дала четыре. И сказала:
– Смотри!
Солнце смывало утреннюю синь, обесцвечивая небо; бока ровно бегущего Орлика атласно завлажнелись от пота; да и Степан через пиджак почуял, что припекает вовсю, в воздухе накапливается духота – к грозе, знать. Телегу подбрасывало на неровностях, из лесной чащи налетела клубящимися облачками мелкая мошка, густо вилась над разгоряченным крупом мерина. Рябили в глазах долгие ряды берез, зажавшие с обеих сторон узкую извилистую дорогу, которая скоро вырвется на просторный луг, покажет тарасовские избы.
«Вот, – мысленно говорил себе Степан, – лето за летом, год за годом… начнешь вспоминать, вроде б хорошо, как положено, как у других все… а штоб чего-то такого – и не вспомнишь! Орлику тринадцатый год пошел, тоже, небось, перед глазами у него одна дорога да вода, которую с ним возим… Вот я баобаб себе выдумал, интерес, значит, а он, Орлик, чего… у него даже кобылы не было, он мое ухо, ласкаясь, губами теребит, ему тож требуется, штоб уважали, любили, ценили его, а кнутом-то што?.. Кнут – дурак!»
– Молитву читаешь – бормочешь-то? – толкнула локтем Мария. – Гляди, Ирка-почтарка на лисипеде катит – не задень, сдай в сторонку.
Почтальонша Ира, поздоровавшись на ходу, проехала было мимо, да опомнилась.
– Чикальдаевы, – крикнула, соскакивая со своего самоката, – чего это я? Ум отшибло? Вам письмо. Газеты-то в дверь брошу, а письмо возьмите. Тонька ваша не успела уехать – уже в Африке. Пишет!
– Ой-ти, – радостно засуетилась Мария, – письмо? Давай его, Ираида, а я тебе за эту радость… погоди, нащупаю вот в сумке… тройку яичек дам.
– Зачем мне ваши яички? – протянув конверт, нерешительно сказала Ира, слизывая кончиком языка бисеринки пота с верхней губы. – Раскокаю яички – все газеты в яичницу перемажу. Ну их в баню!..
Но все ж взяла, умостила свое молодое, большое и сильное тело на пружинном велосипедном седелке и, вертя педалями, покатила дальше. А Степан придержал Орлика – пусть шагом идет, пока Мария будет разбирать вслух дочернины строчки.
«…и еще сообщаю вам, – поделилась дочь, – что работа тут прежняя, на достройке холодильного комбината, и дали нам теперь под жилье полдома с тремя комнатами и кухонькой, и все кругом свои, русские, кроме некоторых армян, и еще москвичи есть. Виталик в своей группе за старшего, дел у него много, нервничать приходится: это не так, то не так, за одним погляди, другому скажи, третьего учи, четвертому замечание сделай, за пятым проверь. Он похудел, ест плохо, я исстрадалась, как он плохо ест…»
– Жилистый, не помрет, – вставил Степан.







