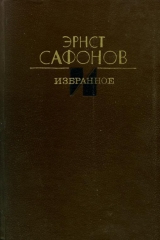
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
ТОНКИЕ НАТУРЫ
НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Было за полдень, когда с косогора к дебаркадеру торопливо съехал на своей тележке безногий Тимоша Моряк и свистом вызвал Глеба.
Ткнув черным от сапожного вара пальцем куда-то за себя, Тимоша крикнул:
– Фрол Татьянку изничтожает! Беги, убьет!
Глеб подумал про ружье, что висело у него над кроватью, еще о том, что он без рубахи, лишь в майке, и кеды на нем без шнурков, – секунду об этом подумал и, перемахнув на берег, кинулся в деревню.
До деревенских изб, сбившихся в кучу, укрытых сизыми ветлами и тополями, – с полкилометра. Глеб бежал через выжженный зноем коровий выгон, огромное солнце било ему в глаза, он проклинал легкомысленную обувку, слетавшую с ног, и до боли в висках терзали его два вопроса: «За что?» и «Как вступиться?..»
Однако, когда избы были уже близко и деревья, будто расступившись, приоткрыли их, Глеб, унимая рвущееся дыхание, перейдя на скорый шаг, увидел, что Фрол Горелов сидит на скамеечке у крыльца и курит. Как и не приключилось ничего – дымит себе, глубоко затягиваясь, и только рожа у него красней обычного: вроде как после бани с хорошим паром и березовым веником… А может, напутал что Тимоша?
Нагнул голову Глеб и, чувствуя сбоку цепкий Фролов взгляд, свернул к Тимошиной избе, толкнул незапертую дверь. В полутемном, о два оконца, Тимошином жилье пахло сапожной мастерской: кожей, гуталином, клеем, жженой резиной, – густо пахло. Напился Глеб теплой, застоявшейся воды из ковшика; сел, успокаиваясь, на лавку. Наверно, Цыганочка, приемная дочь Тимоши, школьница, помогает на какой-нибудь колхозной работе: пол не метен, грязная посуда на загнетке. Помогает и зарабатывает: на долгую зиму много чего надо.
Уходить Глеб хотел, когда сам Тимоша подкатил к избе; упершись в землю деревянными лопаточками, чуть приподнял на сильных руках свое обрубленное тело, перевалился за порог. Облизнул пересохшие губы, поморгал усталыми глазами и не то чтобы улыбнулся, но как-то порадовался выбритым лицом – заметно было.
– Вырвалась от него, – доложил. – Сбегла. Тебе скажу: в Славышино, к тетке Лександре подалась. На попутной.
– Из-за чего ж, Тимош?
– А ты газету не читал? У-у?! Погоди, в кармане она у меня. Возьми.
– Газета?! Понятно.
– Отольется ему еще, – Тимоша погрозил темным пальцем в окно.
И Глеб в окно посмотрел. Фрол убрался с крыльца, а на улице – знакомый Глебу мальчишка с велосипедом. «Возьму-ка я на час велик да махну в Славышино», – решил он, пожимая на прощанье жесткую Тимошину ладонь.
– А ты на стенку, Глеб, погляди. Чего я изобразил, погляди!
На большом листе бумаги – на обратной стороне плаката – цветными карандашами были нарисованы вспененное волнами седое море и стреляющий из орудий краснозвездный военный корабль.
– Как?
– Сильно́.
Тимоша, радуясь, засмеялся.
…Парнишка не отказал Глебу, и десять километров раскатанного большака, хотя и по жаре, быстро накрутились на велосипедные колеса. Славышино встретило тишиной: известная для страдного времени тишина – народ в поле, уборкой занят; но тетка Лександра, к счастью, пребывала дома – в подоткнутой юбке возилась на огороде.
– Нету у меня никого, – хмуро ответила она; выказывая нежелание разговаривать, нагнулась над грядкой – не смущалась, что задранная юбка высоко оголила по-мужицки сухие, жилистые ноги. – И не стой тута, парень, не затмевай свет! А пужать захошь – пужаные…
Так и уехал Глеб ни с чем. «Ведьма, – беззлобно обругал про себя тетку Лександру, – факт, у нее Татьянка. И любит она Татьянку…»
А в сердце пробивалась тревога. Как предчувствие.
Утром на реке, по обыкновению, два солнца. По одному с каждого берега.
К этому времени или чуть раньше Глеб уже на ногах. Он видит, как резко выкатывается золотой, малость оплывший шар из-за синего бугра, на котором вековует деревня Русская. Сто́ит золотому шару зацепиться за сухие ветви отжившей вербы – тут и вспыхивает солнце на другом берегу. Оно не настоящее, обманное, его порождает первое солнце: это слепяще и недвижно виснет поверху червонный, как бы надраенный толченым кирпичом купол реставрированного монастырского собора.
А если поутру солнце двойное и небо недосягаемой высоты – быть ясному дню. И что бы там ни было – даже вчерашнее происшествие, – рождение такого дня Глеб встречает, может, и смутным, однако обнадеживающим ощущением предстоящих перемен; ленивые со сна мускулы его крепкого молодого тела после разминки на палубе дебаркадера обретают спокойную силу.
Покорно обходят дебаркадер коричневые волны, бегут за песчаный мысок, – там Глеб за каких-то два часа нахватал спиннингом девять пестрых холодных щук. Медностволые сосны наступают на песок – весь берег заполонил бор; в реке рыба, а в полусвете хвойной чащи под теплыми листьями таится белый гриб, произрастают грузди, маслята, волнушки и прочий дармовой природный гостинец. Опята да сыроежки в этот щедрый грибной год вообще обречены на червленье; только и срезает их по своей первоначальной жадности и восторженности заезжий городской люд; а продерутся такие дачники в глухие углы – опоражнивают заполненные на опушках корзины, мнут рахитичные шляпки опят тяжелыми подошвами и глупеют вконец, потому как здесь-то избыточно идет в руки настоящее добро…
Смотрит Глеб: фальшивое солнце, монастырское, на месте, а просто солнце – оно уже ярче и высоту набирает. Из Русской вослед за рыжим стадом шагает на выгон пыльный столб, пастухи кнутами стреляют. Пробудилась деревня: весело курчавится над крышами печной дым, топором кто-то тюкает, трактор взревел, заглушая все, но еще рань.
«Что у Гореловых теперь? – раздумывает Глеб. – Вот и переиначила Татьянка…»
Объявится она, даст знать ему, Глебу. Обязательно. Гонит он прочь тревогу, гонит неловкость, которая пробивается изнутри, неясна и смущает его. Не виноват он вроде перед Татьянкой, а все одно как виноват.
Взглянул на часы – пять скоро. Теперь привык подниматься с рассветом: служба заставляет. Он – дежурный по дебаркадеру, которому в Окском пароходстве присвоен собственный номер и который в официальных бумагах именуют речным вокзалом. Глеб – и дежурный, и шкипер, и кассир (продает билеты), и сам себе начальник: по недавнему штатному расписанию, принятому в пароходстве после лихорадочной кампании «за экономию», не положено никому на дебаркадере ни над дежурным, ни под ним значиться…
Сам дебаркадер хоть и двухэтажный, а все же тесный, небольшой и давнишней постройки. Такие в редкость сейчас. Обвешан по бортам новенькими спасательными кругами, выкрашен еще белой краской и – со стороны посмотреть – покоится на воде надежно, осанисто. Карнизы замазали лепными гнездами ласточки, и весь пол, то бишь верхняя палуба, всегда в несмываемых кляксах, восклицательных знаках и запятых известкового цвета. Не рушить же из-за этого птичью семейную жизнь.
С палубы идет Глеб в свою комнату (каюту), надвигает на ржаные отросшие волосы фуражку с крабом, садится за вахтенный журнал – зарегистрировать новый день.
Скрипит трап, и дебаркадер оживает от голосов. Из деревни пришли мужики. Глеб на верхотуре, этажом выше, но слышит, как рассаживаются они по лавкам, – теперь достанут из карманов мятые пачки «Прибоя», «Севера», недавно завезенных сигарет «Аврора» и зачнут дымить. Пока не причалит самоходная баржа из леспромхоза и не увезет их на работу. А до ее прихода заведенным порядком разговоры разговаривают: к примеру, на что окунь вечером берет, отчего у кубинского сахара особый привкус, сколько чаю можно выпить за один присест, кому нужны фестивали и какую пользу получит Фрол Горелов, ежели продаст туристам свою лодку…
А Фрол Горелов, будь всё как раньше, сейчас бы уже протиснулся в дверь к нему, Глебу. «Будь здоров, Глеб». – «Здравствуй, Фрол Петрович». Он так делает, Фрол: берет стул, гасит окурок о тарелку, на которой стоит графин с водой, и молча начинает слюнявить новую цигарку. Он навещает часто, через день-два, – с той поры, как однажды на зорьке увидел в своем амбаре дочь Татьянку с дежурным по дебаркадеру… (И какой черт занес их тогда в амбар; тоже – выбрали местечко!) И в эти свои посещения Фрол ничего не говорит, так только – несколько слов про погоду, рейсовое расписание или о чем радио в последних известиях сообщило; теребит желтым закуренным ногтем щеточку усов, с красного мясистого лица смотрят на Глеба цепкие глаза…
Обычно после ухода леспромхозовской баржи Глеб ссыпает пепел с тарелки, утыканной Фроловой цигаркой, ополаскивает ее и долго не может освободиться от тоскливой неловкости, порожденной в нем спокойным, выжидательным взглядом гостя…
Приоткрывает Глеб дверь, чтобы слышать лучше, о чем они там, внизу; не прежний шмелиный гул – различимы голоса, отдельные фразы отчетливо доносятся.
Так и есть, об этом.
– …Утерла Фрола, ай и девка…
– …На отца поднялась. Убить не жалко!..
– …А для кого – для нее ж, подзаборницы, старался…
– …Фрол когтистый… Тот еще жук…
– …Прижал ее во дворе, лупцует, значит, а мать вкруг избы носится, голосит: «Спасите! Кто ж драную замуж возьмет… Караул!»
– Гы-гы-гы…
– …Драная, стал быть…
– Ха-ха-ха…
Не знает Глеб, куда в бессильной ярости деть себя, – крутится-раскручивается словцо-поношенье: «драная…»
Ржут, тешатся. Извечная деревенская жестокость – такая, что мимоходом, для собственной забавы, от нечего делать; а уехали – позабыли… Глеб расправляет на коленях газетный лист; через всю страницу крупные заголовочные буквы: «ЧТО ПОСОВЕТОВАТЬ НЕЗНАКОМОЙ ДЕВУШКЕ?» – и помельче: «Письмо в редакцию».
Он ясно видит Татьянку в тот, запомнившийся ему день, когда она прибежала к дебаркадеру, – стояла на берегу выжидала.
– А мы на току зерно перелопачиваем, вот! – сказала она ему и загорелыми руками развела.
От этих загорелых рук, от улыбающегося лица Татьянки, ее слов: «на току», «зерно перелопачиваем», золотистых по своей летней окраске, – от этого и оттого, что она пришла, все кругом будто бы запомнилось мягким ослепительным солнцем, и он утонул в нем, и было весело и удивительно легко.
– Ну тебя! Что глаза жмуришь, – все улыбалась она. – Знаешь, сколько книг из района привезла. Приходи, почитать дам.
Он поймал ее пальцы – они были шершавые и почему-то холодные, подержал их на своей ладони. Видел: хочет что-то еще сказать Татьянка, серьезное что-то, – прикусила губу, покраснела и сказала все же:
– Отправлю я письмо.
Уходила – смотрел вслед. Поднималась по тропинке: ладная, крепконогая, и стоптанные тапочки шлепали ее по пяткам… И он думал, что упрямый, рисковый у нее характер, и про письмо думал – какой толк в таком письме; хотя – и с этим нельзя было не согласиться – газеты всегда советуют, указывают, подсказывают, отвечают на вопросы, и в редакции, конечно, сидят люди, специально для этого подобранные…
Ровно и спокойно оттиснуты строчки:
«…Мучаюсь и понять не могу, что возле меня правильно, что неправильно. Мало я еще жила и училась, не разобраться самой… Мне восемнадцать лет, окончила среднюю школу. Я комсомолка. Хочется учиться, отец же говорит, что и десятилетки хватит. При желании, дескать, можно и без науки добывать деньги, что он и делает – дома, с огорода, браконьерствуя на реке и вообще по принципу: «где что плохо лежит…» А в колхоз, учит, – ходи, чтоб усадьбу не отрезали. И не только в нашей семье подчинено все деньгам…»
Подписи нет, лишь две буквочки: «Т. Г.» – инициалы, а деревня и район указаны; в Русской же три десятка изб, из девчат только она, Татьянка, с десятилеткой… Какие уж тут «инициалы»!
И редакция откликается – шрифтом пожирнее, в рамку взятым:
«Хозяйство частника и общественно полезный труд. Вот проблема, которую поднимает письмо. Не стоит ли разобраться, что способствует пережитку собственничества приспосабливаться к нашим современным условиям? Отец девушки, само собой, не родился стяжателем. Что же толкнуло его на путь легкой наживы? Девушка ждет помощи. ЕЙ НЕОБХОДИМО НАШЕ УЧАСТИЕ, НАШ КОЛЛЕКТИВНЫЙ СОВЕТ. Давайте подумаем вместе…»
У излучины, на быстрине, тягуче кричит теплоход. По басовитому гудку можно определить: «Новгород». А леспромхозовская баржа отчалила.
Из своей комнаты вышел Потапыч, выходит и Глеб – вместе спускаются вниз. Под грузным телом Потапыча деревянная лестница расстроенно скрипит, он почесывает в распахнутом вороте лохматую грудь, спрашивает:
– Никак идет?
– Идет.
После, когда «Новгород» пришвартовывается, Потапыч и Глеб таскают с него ящики с пивом, консервами, а щеголеватый чернобородый капитан, высунувшись из белоснежной рубки, предлагает им в обмен на пиво «приличной годности» нейлоновый трос.
– В воде не мокнет, – неуверенно торгуется капитан. – Ну не пять бутылок – три. Законно, а?
Потапыч, шевеля толстыми губами, пересчитывает полученные ящики: груз для него, он, как и Глеб, тоже здесь самостоятельная фигура – заведует при дебаркадере буфетом.
Теплоход, зло гукнув, бежит дальше, оставляя за собой лучистую дорожку.
Они смотрят, как режет «Новгород» застывшую водную гладь, смотрят на спускавшихся с косогора женщин в лопушистых платочках, на светлый от прозрачных солнечных лучей сосновый бор, и Потапыч со вздохом говорит:
– Красота. – И добавляет: – Дай газетку-то. Про Фрола.
На дебаркадере народ, как заведенный, толчется целый день. И ночь прихватывают. Тут на катера и с катеров; в буфет снуют – посидеть с дружками за граненым; и просто мужики из деревни собираются – для словесного роздыха после леспромхозной, колхозной или домашней работы. А бабам – тем и вовсе Потапыч за любезного благодетеля: продукты у него виднее, разносортнее, чем в деревенской лавке.
Приезжают к очередному рейсу из отдаленных мест – на подводах, газиках и грузовиках; приезжают утром за почтой на три сельсовета, которую в брезентовых мешках доставляют из города первым катером.
Много знакомых по округе у Глеба и Потапыча, особенно у последнего.
Вот, направляясь в районный центр, за буфетным столиком делает передышку некто маленький ростом, но важный с виду: при галстуке и фетровой шляпе, несмотря на жару, и с разбухшим кожаным портфелем. Он сосредоточенно рассматривает пузырьки в кружке пива, слушает, собрав складки на лбу, о чем толкует ему Потапыч, подсевший подле с влажной тряпкой на сгибе руки.
«Так можно располагать, Кузьма Ларионыч? Иль какой ответ мне дадите?..»
«У меня правило: своих не обижай!.. А мы иль не свои?»
Отходит от него Потапыч, довольный переговорами; улучив момент, подзывает Глеба, шепчет:
– Обстоятельно пообещал. Даст кровельного. Без него железа не достать, разве через райпотребсоюз… В его власти.
Старик спит и видит собственный дом, в который, согласно его мечте, он и Глеб должны переселиться с дебаркадера. Он, когда задерживается здесь баржа с распилованным лесом, гладит пальцами свежие доски, нюхает их: так по сердцу ему запах древесины.
Глеб равнодушен к затее Потапыча, а в последнее время и того больше: разговоры о новом доме для него – будто ноющая зубная боль. Однако, боясь обидеть старика, он отвечает: «Это дело!» А сам хочет уйти, поскольку заметил, что Потапыч настраивается рассуждать долго и неспешно. Глебу известно – рассуждения Потапыча всегда идут далеко: из чего и как, к примеру, складывается жизнь, какой в ней интерес. У него, Потапыча, интерес состоит в том, что он и Глеб – оба при деле, живут вместе, хотя могло бы иначе – худо, по-сиротски. Война тяжелым танком проехала по народу, так смяла всякую правильность и обжитость, что по сей день не все выпрямилось. Из ихнего, самохинского рода уцелели от войны двое. А когда-то Потапыч был один. Любит он вспоминать, как долго мыкался, не счесть, какой душевный и прочий расход принял, пока не разыскал на далекой целине своего племяша Глеба…
– Погоди, Потапыч. Вроде кто за билетом стоит, схожу…
И хочешь, а не уйдешь от неприятного для тебя человека! – не сам навстречу попадется, так на углу о нем разговаривают… На палубе, попрохладнее где, примостились деревенские, из Русской, – пожилой, Захар Купцов, и тракторист, только из армии, Федя Конь; Захар доказывает Феде:
– Отец-то у Фрола еще тот революционер был! Когда затеяли погром круговой, он, старший-то Горелов, первым делом через реку и – в монастырь. С ружьем. Здоровый сам был, кредитный, черт… Пужанул монахов, прибил, бают, одного, а сам за иконы…
– Зачем еще?
– Дура, монастырь первым на Руси, можть, значился! Иконы-то в золоте, драгоценных каменьях.
– Фрола когда судили за растрату, конфисковать могли.
– Выжиги! Эти, держи карман, отдадут… Ишь, родной брат ему враг, и дочь в газете обрисовала…
Глеб крикнул им:
– Нашли место, на ящик с песком сели, приминаете! Пожарный инвентарь, не видно, что ль?
Федя Конь, вставая, отряхнул брюки, огрызнулся:
– Подумаешь, казенного песку на заднице унесем. Лучше, нежли орать, «жигулевским» угости.
…Посредине реки, рождая у берегов крупную зыбь, неслась зеленая моторка, и но ее окраске, четкому стуку сильного двигателя Глеб издали определил: Спартак.
Старший инспектор рыбнадзора на крутом вираже подлетел к дебаркадеру, металлический нос лодки мягко ткнулся в дерево, и мотор тут же смолк. Глеб, перегнувшись, подал было руку – помочь взобраться на настил, – Спартак отмахнулся.
Он сидел, будто вросший в лодку, облизывал с губ речные брызги, и Глеб позавидовал: не только имя, но и обличье героя дали Спартаку родители. Красив инспектор могучим разворотом своих плеч, лицом, которое выражает и упрямство и готово на добрую улыбку, да и одежду он носит не по-здешнему узкую, тесно облегающую его гибкое тренированное тело.
– Ты особая натура, Глеб. Тонкая и дремучая. – Он предупреждающе поднял руку. – Я передумал. Ты, конечно, и не искал тихой жизни, но ты действительно и не знаешь жизни лучше.
– Ты брось, – Глебу хочется ответить пообиднее, он не знает как; в памяти всплывает фамилия Спартака, и ему мстительно показалось – обида уже в само́й этой фамилии; он повторяет: – Брось. Слышишь, Феклушкин, а Спартак Феклушкин…
Инспектор промолчал – подошли, оперлись о перила Захар Купцов, Федя Конь, еще кто-то из слоняющихся.
– Привет рыбоохране, – приподнял кепку Федя.
– Привет. Предупреждаю, Конь, в запретку больше не суйся. Худо будет.
– А ты пымай!
Мотор, послушный инспектору, сразу заработал на полных оборотах, лодка, выписав на водном зеркале стремительный вираж, ходко полетела по течению.
– Удалой парень, – обронил Захар Купцов.
– Ну! – подтвердил Федя.
А с моторки до Глеба донесся размазанный скоростью и расстоянием голос. Что – не разобрать.
«На ночь приглашает», – определил Глеб.
Уже не одну ночь под чистыми летними звездами, приткнув лодку в камыши, провели они вместе: негромко переговариваясь, слушая тишину, готовые ринуться на любой подозрительный всплеск и шум. И Глеб, добровольный помощник, подобно Спартаку, заражался этим напряженным ожиданием неизвестного; с неделю назад заезжие горожане стреляли в них из малокалиберной винтовки, и пули визгливо рикошетили об воду – страха не было, лишь тревожно-веселое состояние рисковой погони было.
Страх или что-то похожее на него – это уже после, при воспоминании, с каким противным посвистом ложились пули.
Ночью, улегшись в постель, Глеб пытался читать, и книжка в руках была занятная – рассказы о малоисследованных африканских племенах; перекладывал страницы, одну за другой, пока не поймал себя на том, что прочитанное ускользает от него, не задерживается в сознании. Как бы со стороны, теснясь, шли разные обрывочные мысли, – все те же, что и раньше: о своем житье-бытье, о Татьянке, о Спартаке Феклушкине…
По весне, тоже ночью, ливневой, с яркой, раскалывающей темноту грозой, полыхал на острове дом нового инспектора рыбнадзора. И пожарные, что наутро прикатили к остывшим уголькам, и следователь милиции сошлись на одном: молния виновата.
А спустя дня три этому случаю Спартак появился на дебаркадере – угадал к тому времени, когда мужики поджидали леспромхозовскую баржу. Он бросил к их ногам помятую канистру, неспешно закурил и сказал негромко:
– Будет, как прежде. Понятно?
Достал из кармана записку, разгладил ее и положил на канистру, легонько ткнул канистру носком охотничьего сапога:
– Пусть хозяин заберет. И уехал.
Мужики вскоре погрузились на баржу. А канистра осталась лежать. И записка. Глеб развернул ее, прочитал корявые печатные буквы:
С ПРИВЕТОМ ЕЩО ПИТУХА ПУСТИТЬ МОЖНА
С того дня потянуло Глеба к новому инспектору, и тот охотно отозвался – да и понятно: одному на острове скучно.
– Помогай, Глеб, – попросил он. – Обезрыбели русские реки. Заповедные и запретные места не сохраним – через полста лет вообще пиши пропало…
Ничего удивительного, если подумать, в этих словах не было, однако тон, каким они были произнесены, говорил сам за себя: Спартак просил помочь н е е м у, не в одолжение, – он просил з а р у с с к и е р е к и, за места заповедные. И после, присматриваясь, Глеб не раз подмечал в Спартаке особую масштабность, что ли; а присматривался он ревниво, настороженно, потому что – хочешь не хочешь – чувствовал: инспектор сильнее, внутренне собраннее, и, главное, на все у него были свои ответы.
Старается Глеб – для зацепки пусть, для спора – отыскать в приятеле какой-нибудь изъян, чтобы усладить хоть на миг свое растравленное самолюбие. «Ну вот, оказывается! – и усмехнуться ему в лицо. – А тоже мне – образцовый…» Дружат еще мало: не объявилась пока желанная зацепка. Своенравен Спартак, резок, любит, поучать, но при нем все это вроде бы так и должно быть – не идет вразрез с его словами, утверждениями, поступками…
Как-то вечером, замаскировавшись в камышах, лежали они в лодке; Глеб рассказывал про целину – не про ту, первую, палаточную, а уже обжитую, с домами и обыкновенным совхозом.
…Даже поначалу целина не давала такого урожая, какой выметал в том году.
Их уборочная бригада сваливала хлеб прямо в степи, на временном току – расчищенной и утрамбованной площадке. Вырастали огромные, длинные бурты тяжелой, плотной пшеницы. Отряд городских студентов не управлялся перелопачивать ее, свои совхозные и военные машины не успевали вывозить зерно на элеватор и центральную усадьбу, где навесы и склады.
И тут, вопреки всем прогнозам – как случается в Казахстане, – после жаркого солнечного дня из-за сопок налетел ураган. Остывающей ночью обрушился он яростным шквалом на степь; бил сухим, леденистым снегом и градом, срывал тенты и полотна с комбайнов, опрокинул студенческий вагончик; летели по воздуху пустые железные бочки.
К утру от урагана осталась густая фиолетовая полоса на горизонте да грязные тучи висели над головой, рассевая мутную холодную влагу. Пшеница, вбитая в разжиженную землю, перемешанную со льдом, громоздилась жуткими, вздыбленными валками и чернела на глазах. На второй день она уже горела – изнутри, без пламени, жарче костра. Бригадир Ганукаев сидел на автомобильной камере и беззвучно плакал; рядом в булькающей от дождинок луже почему-то лежал его отстегнутый протез – странная искусственная нога с металлическими заплатами.
В те дни Потапыч и разыскал его, Глеба, свою родную кровь, – уезжали из степи они уже вместе. А черная, пережженная пшеница осталась в нем, не гаснет; и тесно здесь, на дебаркадере, и все не так в этой леспромхозовской глуши…
– По здешним условиям, – заключил Глеб невеселый рассказ, – двум колхозам столько зерна не собрать.
– Что ж, брезента не было – накрыть?
– Не доставили.
– Кто не доставил?
– Как кто?!
Забормотала в камышах сонная птица – как потревоженная на нашесте курица; прислушались – тихо; Спартак, чиркая зажигалкой, глухо спросил:
– Ты эту пшеницу сеял?.. Поехали!
Откинувшись назад всем телом, положив руки на борта лодки, Спартак рывком вытолкнул ее из камышей, дернул привод мотора, и тот заработал приглушенно, осторожно, – на малых оборотах.
– Выходит, сеял, убирал, – повторил Спартак; папироса, когда он затягивался, мгновенными вспышками вырисовывала из темноты его лицо – недоброе сейчас, как показалось Глебу; и он, напрягаясь, пожалел, что пустился в воспоминания. – Выстраданная пшеничка была, Глеб… Так? И ответственные, само собой, были… Потребитель ты, Глеб!..
Он мысленно поклялся тогда, что больше ни за что не поедет к Спартаку Феклушкину: провались тот со своими ночными дежурствами и своим заповедником! Разве знает самонадеянный инспектор, как радовались они в бригаде пшенице, как грязные, усталые, потные валились на нее, прокаленную солнцем, и моментально засыпали, вбирая в себя ее тепло… А брезент? – ну были же там, черт возьми, и начальник отделения, и агроном, и какой-то присланный агитатор, дуревший от безделья, – были!
Надеется Глеб, что выйдет случай уличить Спартака в чем-то таком, отчего сразу увянут, обесцветятся все его категорические суждения, и сам он на глазах слиняет.
В полдень, не по расписанию, пришлепал к дебаркадеру древний пассажирский пароходик «Прогресс». Со времен царя Гороха безотказно таскается он по реке, и хоть подновили ему машины – работают они натужно, неритмично, будто сердце человека, страдающего одышкой. Пора старикану на переплавку в мартен.
Глеб поймал конец, брошенный матросом с «Прогресса», закрепил его на кнехте. Слетела с головы фуражка, и он, подняв, стал снимать с нее соринки, а мимо проходили пассажиры – женщины с корзинами и мешками, солдат в расстегнутой гимнастерке, дедок с удочками… Словно задорные копытца, весело простучали по дощатому трапу высокие каблучки. Глеб определил: «Студентка, на каникулы…» Нет, не то чтобы подивился он тонкой, редкой для хлебных деревенских мест талии, взбитой, но короткой прическе «под мальчика», – просто на секунду потяжелело у него в груди: какой же парень у такой красивой должен быть?
А каблучки-копытца застучали к нему; Глеб выпрямился, уже открыто посмотрел на девушку, и – резко качнуло палубу под его ногами, а может, и не качнуло – сместилось всё, стало на миг расплывчатым, как отражение на воде… Только ее лицо. Из множества других лиц, даже через тыщу лет для него, – оно одно такое, незабытое, близкое, знакомое и по этим двум родинкам на щеке…
– Ой, Хлебушек? Ты? Господи! Ой!
– Люда?!
Она ткнулась ему лицом в грудь, отстранилась, смотрит… Хлебушек… Еще там, в Калуге, звала его так – горько и ласково: Хлебушек… Глебушек-Хлебушек… И есть в этом неправдоподобное и сумасшедшее: чтобы однажды, потерявшись навсегда, вновь найти друг друга. Да где! – на дебаркадере, затерянном в великом пространстве России.
Глухо падает на доски ее мягкий чемоданчик, а сама Люда закрывает глаза ладонями – плачет, что ли; и опустошенный Глеб с каким-то испугом видит эти пальцы, закрывшие глаза, – тонкие, с розовым маникюром, а помнит он совсем другие – заветренные, с обкусанными ногтями, перепачканные землей, сажей.
Любопытные – там и тут – взглядами щупают, на каждой физиономии – глупое и жадное желание хоть что-нибудь для себя ухватить: ну и история, дескать, у Глеба приключилась, не слыхали – расскажу… Она, значит, на шею сразу, а он – видали бы! – шарах в кусты…
– Пойдем, Люда.
Берет ее чемоданчик, и она соглашается: «Идем», не спрашивая куда.
– Это твоя комната? Живешь тут? По фуражке ты как моряк. Ты кто? – И опять Люда вскидывает ладони, туго сжимает ими виски, смотрит на него и неверяще качает головой, смеется – смех счастливый, долгий, сквозь него она говорит: – Ты не кто, а ты Глеб, Хлебушек, а я поверить не могу, а ты веришь?..
Все же они понемногу привыкают к своей нежданно-необычной встрече, приходит потребность попристальнее вглядеться друг в друга, что-то узнать, что-то объяснить, – но первое же признание Люды приводит Глеба в состояние, близкое к столбняку:
– В командировке. Я ж сейчас, знаешь, журналистка… Не совсем еще, без пяти минут, – учусь. Практика…
«Журналистка… Журналистка…»
– …В Москве так надоело, так надоело – асфальт плавится, пыль, суета. Я рада была хоть куда. И ты здесь! Вдруг! Хлебушек!
На вопрос, где бы снять на неделю «угол», Глеб робко предлагает ей остаться тут же, на дебаркадере: соседняя с его комнатка пустая, в ней как раз и останавливаются, если бывает такая нужда, приезжие. Люда соглашается: на дебаркадере, конечно, романтичнее, чем в обыкновенной избе.
Он переносит туда ее чемоданчик, показывает, где можно умыться, и выскакивает на палубу. Жара такая, что звенит кругом, и облака в перегретом небе как свернувшееся молоко. Душно, тесно: сбрасывает Глеб одежду и – в воду!
После, уже далеко, сидит он на берегу, опохмеленный ласковой речной прохладой, слушает полуденную позванивающую тишину, всматривается в струящееся марево по-над берегом, и его воспоминания о давнем времени, как это марево, зримое и ускользающее. Никак невозможно сегодняшнюю Люду соединить с той, что была вместе с ним в детдоме под Калугой.
Там Люда была худой, голенастой девочкой в застиранном форменном платьице, с тощими, как перья лука, косичками. Она то и дело болела, шмыгала носом и ничего не умела хорошо делать – ни на кухне, ни на подсобном огороде, ни в мастерских: от слабости, наверно. Глеб, сам тогда слабосильный, забижаемый рослыми ребятами, жалел Люду; при скучном, жестоком детдомовском «законе» было для них тайной радостью и подвигом хранить от насмешек и преследований свою нарождающуюся дружбу. Он носил ей зеленые невызревшие яблоки; за яблоками с приятелями лазил в совхозный сад, и однажды сторож Ферапонт, презираемый всеми и злой на всех из-за гибели двух своих сыновей – полицаев на Кубани, – вот этот Ферапонт саданул по ним из двустволки. Владику Мрыну крупной дробью перебило ногу, у Глеба по сию пору две круглые горошины прощупываются в мякоти.
А потом мальчики и девочки из старших групп – не без ссор и драк, правда, – разбились на «пары», и эти «пары» тягучими зимними вечерами целовались где-нибудь в потаенном, укрытом от чужих взглядов месте. У Глеба и Люды таким местом стал захламленный чердак кухни. Они прогоняли старую крысу, которая жила под дымоходом, жались к теплым кирпичам, и Люда целовала то тихо, гладя его лицо замерзшими пальцами, то так больно и сильно, что Глеб задыхался и не чаял, как бы скорее уйти с чердака.
«Родимый мой, – по-бабьи жалостливо выговаривала Люда подслушанные, видимо, у кого-то слова. – Хлебушек, кровинка моя…»
Глебу от этого хотелось плакать, было жалко себя, Люду.
В такие минуты, когда они с Людой согревались одним теплом – от закопченного печного дымохода, когда Люда говорила: «Родимый мой…» – Глебу виделся серый, грязный косогор, и дождь того памятного дня, нудный и осторожный, оживал в его сжавшемся сердце… Женщины в рваных телогрейках и опорках тянут за собой по косогору плуг, а за ручки плуга держится сбиваемый ветром дед Софрон. Вдруг мать Глеба – она шла в упряжке первой – охнула и не сразу, вначале на колени, потом всем телом повалилась на разжиженную дождем землю. Ее остановившиеся глаза недоуменно и настойчиво смотрели в небо. Плакал дед Софрон, задрав голову к этому грязно-лохматому небу, и его сивая – может, столетняя – борода трепыхалась на мутном ветру…








