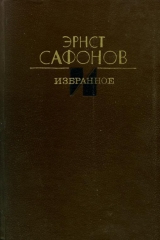
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 40 страниц)
Ему почудилось, что в избе тетя Саня запела тягучую песню. Из-за жалости к ней он рассудил, что, прежде чем уйти ему к у д а-т о, он поговорит с ней. И для Серафима успокаивающие слова приготовил: «Ты не стони. Помолчи-помолчи, и замолчится…»
Толкнулся в дверь – не поддалась, и он обогнул избу, чтобы проникнуть через другой, со двора, вход.
У сарая его остановил доносившийся оттуда шум – вроде возился кто-то с чем-то тяжелым и неудобным. И он, отодвинув старую, с гнильцой доску, увидел в сумраке настывшего помещения все до подробностей.
Долговязый немец – он самый, ефрейтор, – повалил Талю, ломал ей руки, скручивал ее, растаскивал на ее груди кофту, и была у долговязого огромная напружиненная шея и на локтях шинели виднелись протертости. А у Тали голова билась о каменную по-зимнему землю. Ему показалось даже, что широко раздвинутые ужасом глаза Тали на какой-то миг остановились на нем, с упреком сказали: «Ну что ж ты, Вася!»
Тогда он кинулся в избу, поскользнулся на обледенелой ступеньке, до искрящейся боли разбил себе лицо; на кухне встретил расплывающиеся пятна тети Саниных глаз и выкрикнул в них:
– Там! М а м а Саня, там!..
Она бросилась во двор, а он – в сени, цепенея от сладкой радости, что вот сейчас, сейчас… Он сейчас схватит ржавый, для колки дров топор и этим топором ударит по огромной вздувшейся шее долговязого, ударит по его спине, по локтям, протертым, ненавистным.
Он не уловил, был ли выстрел, но, спрыгнув с неловким для его рук топором через порожек, чуть не споткнулся о тетю Саню, которая распласталась на снегу с разбитой, раскровавленной головой. И остальное ясно отпечаталось в нем. Таля в растерзанной одежде, в одном валенке, привалившись спиной к стене сарая, сжав щеки кулаками, остановившимися, страшными глазами смотрела на убитую мать. Не глаза были у нее – слепые бельма. А в сторону, пригнувшись, с автоматом в руке, облизывая пораненную ладонь, уходил долговязый.
– Ты! – прошептал Вася, сжимая топор. – Ты! – громко сказал он, бесполезно силясь замахнуться топором, и три точки пугливо поймали его – две голубые и черная. Они слились в грохот, в одну, две или три пули, невыносимо остро расщепившие его ноги.
Прежнее небо было над ним, и неизвестно было – быть ли продолжению.
…Это так и живет во мне.
Фашист, пригнувшись, с автоматом в руке, облизывая пораненную ладонь, уходит вдаль.
Он ступает сапогами по моему сердцу, и оно, вздрагивая, напрягается.
1966
«ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!..»
Александре Васильевне Сафоновой
I
Это лето для Вани весело и быстро катится, как тележное колесо, пущенное со взгорка вниз, на зеленый лужок, к молодым елочкам. И свой зеленый лужок у Вани есть, елочки тоже – прямо за избой, у огородных прясел; тут по утрам долго держится, холодит босые ноги роса, белый туман низким ползучим дымом накрывает траву, неохотно уходит к себе, в сырой лес. А на взгорке, где лесная дорога делает крутой подъем (с этого места и нужно сталкивать тележное колесо!), всегда сухо, солнечно, сюда слетаются птицы – купаться в желтой нагретой пыли.
После затяжной зимней скуки и не очень-то теплой весны, когда к тому ж картошка в подполе кончилась, голодно стало, вдруг наступило такое приятное время: живи – не устанешь! Зимой что? Лес тебя зимой не кормит – всё под снегом, и дорога зимой пустынная. Иногда пройдет мимо окон почтальон, кто-нибудь на санях проедет, закутанный в тулуп, и лишь однажды милиционеры с винтовками проезжали – рысцой бежали они за лошадью, грелись, и синие шинели у них были в инее, будто в серебре.
Что и сделано полезного за зиму – это научила мать Ваню буквам, стал он книжки читать, да не но складам, а как взрослые читают. Теперь сразу во второй класс можно записываться, только арифметику надо подзубрить – таблицу умножения. Приедет отец – проверит, как Ваня читает и считает, и посадит со второклассниками…
Выбегает Ваня на взгорок, вспугивает сорок и галок, кричит: «Эге-ге-ей!» Хорошо-то как! Впереди и по сторонам сосны да березы, над головой синее небо с барашками облаков; дорога, узкая и таинственная, теряется где-то там, в темной чаще, – кто придет оттуда? Часами сидит Ваня и ждет: кто?
И хоть их деревня Подсосенки стоит посреди леса – не край же земли она: тянется через нее дорога дальше – к Молчановским хуторам, к поселку Подсобное Хозяйство, к Еловке и Красным Дворикам. И если кто не к ним, в Подсосенки, значит, туда… А идут каждый день – в одиночку, группками – отпущенные из армии по случаю Победы солдаты. Редко кто из них не спросит Ваню, чей он, такой синеглазый, есть, и, узнав, что он «учителев» сын, непременно спросят и про отца: жив ли Сергей Родионович, когда обещается домой?
– Его офицером назначили, – хвалится Ваня.
– Он ученый, назначат, – соглашаясь с Ваней, сказал вчера прохожий солдат. – До войны, помню, очки носил, с докладами про религию-опиум по деревням выступал. Такого, брат, не скоро командование отпустит – жди терпеливо!
– Жду, – говорит Ваня.
«Жду-у-у!..» – кричит он сейчас небу, лесу, дороге, а вспугнутый им с клеверного цветка мохнатый шмель, сделав разворот, сердито несется на него, целится попасть в глаз и словно дразнит: «Жду-у-у – жжжу-у-у…» Та-та-та! – бьют скорострельные Ванины зенитки. Тра-та-та-тра-та-та! – стреляют по команде пулеметы, и тяжелый вражеский бомбовоз с воем несется к земле. Взрыв! Ур-ра!.. Шмель силится перевернуться со спины на брюшко, оно у него золотистое, в пыльце, – красивый шмель! Ваня дарит ему жизнь. Живи, когда кругом такое лето, живи, но помни… как это? А! Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
– …ань-ка-а! – зовут его.
Само собой, это Майка – ее белая голова приметна издали; бежит Майка к нему от крайних изб.
– Ванечка, – говорит Майка, остановившись перед ним, – я тебе поесть принесла. Бери!
Майка протягивает ему серую ржаную лепешку, поджаренную с краев до черноты, и Ване враз представляется, как вкусно захрустит она на зубах… Он смотрит на небо – оно высокое и тихое; смотрит на дорогу – пустынная и спокойная дорога; смотрит, прищурившись, на Майку. Та стоит перед ним, в конопушках, с розоватыми, как у кролика, глазами, исцарапанными коленками и отцовским значком «Отличный сапер» на линялом платьице…
Вздохнул Ваня, протянул руку, взял лепешку.
– Мне не оставляй, – быстро сказала Майка. – Я, можть, их целых три штуки съела. У меня, можть, с них в кишках пучит.
Лепешка вязкая, но поджаристая корочка на зубах хрустит, и пахнет лепешка сосной – все в деревне добавляют в муку истолченную сосновую кору. Ваня не жадничает – отламывает кусочек Майке; вместе едят, наблюдая за дорогой, не появится ли путник и кто это будет.
Долго они сидят на знойном припеке, но – никого…
– Научи меня букве «Ы», – просит Майка, – вчерашнюю «И» я запомнила.
– Неохота…
– Воображаешь! – Майка обижается. – Если б я знала, а ты не знал, я бы так тебя выучила, никакой школы не надо… Я о тебе думаю, пышку тебе принесла, а ты обо мне нисколечки не думаешь… – И предлагает Ване: – Потрогай, хочешь?
– Что?
Майка широко открывает щербатый рот, показывает пальцем на зуб.
Ваня трогает Майкин зуб. Тот качается. Посильнее нажал – качается…
Зубы падают у обоих.
– Ладно, – говорит Ваня, – готовь место.
Майка ладонями пришлепала и пригладила дорожную пыль, а Ваня нарисовал ей прутиком «Ы». Сколько ни думал, как ни старался – не нашел слова на эту букву. Поэтому тем же прутиком написал: БЫК.
Майка смеется: такой большой бык – и такое короткое слово. Хвост у быка и то длинней!
– А теперь изучим «Ж», – войдя в учительскую роль, строго предлагает Ваня.
На эту букву слово отыскалось сразу, да к тому ж еще с пройденной только что буквой «Ы». Ваня размашисто чертит на дороге: ЖЫВОТ.
– Нет, – просит Майка, – не про живот давай, а лучше «живёт»! Ну кто-то живет, понимаешь?
И Ваня приписывает требуемое слово – получилась фраза: ЖЫВОТ ЖИВЁТ.
Увидел упавший дубовый листок, подумал и написал: ЖОЛЫДЬ.
– Ну, – завидуя, говорит Майка, – грамотный какой ты! Отец тебе одни пятерки будет ставить! Ты нас всех обгонишь – и не сумлеваюсь я!
Майка встает, платье отряхивает.
– Заболталась я с тобой, а там поросенок скулит, у кур в корытце вода высохла. Пойду!
Важничает Майка – за хозяйку она в доме. Недели две назад мать ее, тетю Нюшу, в районную больницу увезли.
II
Совсем маленьким Ваня был, когда отца взяли на фронт; казалось ему, что помнит он отца, а прислал тот зимой фотокарточку – нет, другой на ней отец, чем до этого представлялось. На старика похож – борода, усы, очки, одет в овчинный полушубок, и всего военного-то в нем – наган на боку.
– Диверсант он, – определил Ефрем Остроумов, которому они с матерью показали фотографию. – Вроде партизана, но военнослужащий. Зайдут в тыл к врагу и с тыла действуют…
«Дивер-дивер-диверсант!» – запело в Ване красивое слово. А мать сказала:
– Намекал он, чтоб не тревожились. Вроде не война у него, писал, а работа.
– А за четыре года в отпуску ни разу не был?! – Ефрем усмехнулся, подкрутил кончики гвардейских усов. – Я с передовой и то отпущался… На спецзаданиях он, Алевтина, факт. Мы таким, как он, проходы в минных полях делали… Радоваться следует, что голову сохранил…
– Радуюсь, – сказала мать. – Израненный, поди…
– Вполне допускаю, – ответил Ефрем.
Сам Ефрем пока первый и единственный из фронтовиков, кто вернулся в Подсосенки. Есть еще дядя Володя Машин, но он не из армии пришел – из плена; больной весь.
А Ефрем появился в разгар половодья, когда к Подсосенкам ни с какой стороны не подступишься: кругом, на километры, вода и затопленный лес.
В тот день – помнит Ваня – никто поначалу не знал, что это он, Ефрем, прыгает со льдины на льдину, шестом отталкивается. Увидели такого смелого солдата в распахнутой шинели и с казенным сидором за спиной, – увидели и высыпали на улицу изо всех тринадцати Подсосенских изб женщины, старики, ребятишки. Чудо – и всё! Вначале молчали, но постепенно разволновались, закричали:
– Бери правей!
– Осторожней, дядя!..
– Куды ты, куды?
А у протоки, которую не перепрыгнешь, и вода в ней шла чистая, безо льда, – солдат присел на корточки и стал раздеваться. Он снял с себя одежду, перевязал ее ремнем, потом встал во весь рост и скомандовал, – ветер донес:
– Отвернись!
Но тут закричала Майкина мать – тетя Нюша:
– Ефремушка!
И другие нашлись бабы – узнали.
– Он, Остроум!
– Ефре-ем!..
Ефрем поплыл на спине, отгребаясь одной рукой, другую – с обмундированием и вещмешком – вытянутой вверх держал. А вылез на берег, сказал, прикрываясь, с упреком:
– Что ж, хорошие женщины, все лодки в растопку пустили?
Трое суток после этого в деревне гармонь играла – дядя Володя Машин старался, – и объявил Ефрем, чтоб похоронкам не доверяли: многие еще придут…
– У меня папанька кавалер, – чуть что задается Майка.
Кто же спорит: полный кавалер Ефрем Остроумов – ордена Славы всех трех степеней у него. И чин немалый: на погонах золотые лычки буквой «Т» расположены – старшина!
– Твой кавалер, а мой диверсант! – горячился Ваня. – Он мину под фашистский паровоз подложит – бах-бах!.. Знаешь как!..
– Ми-ину, – морщилась Майка, словно ей кислое в рот сунули, – мой папанька эти мины как семечки щелкал. Вот! Он сам рассказывал…
– А мой такую мину подложит – с бочку!
– А мой ее сковырнет!
– А мой из нагана – р-раз, р-раз!
– А мой из пушки…
– Откуда у него пушка? Врешь!
– Вот и была!
– Не было!..
Дрались даже, у Вани на носу глубокая царапина от Майкиных ногтей. Кровища хлестала – еле-еле подорожником залепил. Такая она, Майка, противная, но терпит Ваня – привык уже, да и живут через плетень – соседи.
III
Первая любопытствующая звезда с неба на землю смотрела, когда Ваня домой прибежал. И не с пустыми руками – лукошко малины лесной принес. Комары, правда, заели, живого места не оставили – на краю комариного болота малина растет.
Мать тоже с работы вернулась – из Еловки; она там счетоводом в колхозном правлении.
– Рожь налилась, в силе, – говорит она Ване, собирая на стол. – Не так чтоб густа, а колосиста. Приедет, Ивашка, твой отец прямо к готовому хлебушку…
– Долго он едет, – Ваня повторяет от матери не раз слышанное.
– Не говори, – вздыхает мать.
Они что-нибудь еще про отца сказали б и спать в потемках легли бы. – в лампе не то что керосина, духа керосинового с прошлой осени нет, – но в сенцах скрипит отворяемая дверь, кто-то идет к ним…
Это свой человек – совсем старая учительница Ксения Куприяновна Яичкина. Ваня считает, что ей сто лет или больше: мать рассказывала, что молоденькая девушка Яичкина еще при царе приехала в Подсосенки из города крестьянских детей учить да так и осталась тут навсегда. Царь-то когда был!.. А у Ксении Куприяновны все деревенские обучались грамоте – кто класс, кто два, а кто все четыре. Думали, что этой зимой помрет она, кое-кого и помоложе на погост свезли. О ней, бывало, кто-нибудь вспомнит, проберется через сугробы, печку ей истопит, водички нагреет: опять засветятся глаза у Ксении Куприяновны!
– Выпейте чаю с малиной, Ксения Куприяновна, – предлагает мать. – Мой добытчик сладкой малинки насобирал – покушайте!
Ксения Куприяновна поела-попила и маленькой ладошкой, как кошачьей лапкой, мягко утерлась.
– Вот что, Алевтина, – говорит она и ладошкой по столу пристукивает. – Мне сказали, будто председатель колхозную свиноматку на мотоциклет променял. Правду сказали?
– Правду, – мать наклоняет голову.
– А ты, счетовод, одобряешь?
– Самоуправствует…
– Свиноматка поросят принесла б, от поросят мясо, а от мотоциклета один дым. Какая польза от дыма?
– Нету пользы, – соглашается мать; говорит неохотно, отвернувшись. – Разберемся…
– Эх, Алевтина…
– Разберемся, – сердито повторяет мать. – Вам отдыхать следует, а не встревать…
– Алевтина! – Ксения Куприяновна кривым трясучим пальцем грозится; короткие седые волосы у нее из-под беретки выбились и тоже трясутся. – Ты как, непослушница, разговариваешь?!
«Вот вредная, – не нравится Ване, – на мамку кричит…» Однако мать слабо улыбается, говорит ему, Ване:
– Гнать надо такого председателя, а, сын? Поставим Ефрема Остроумова… Это будет председатель!
«Тогда Майка совсем загордится», – думает Ваня.
А в окно на небе уже золотой месяц виден; кажется Ване, что Ксения Куприяновна заснула над столом. Мать принялась постель разбирать… Однако Ксения Куприяновна вдруг окликает:
– Алевтина.
– Чего?
– Мне сегодня письмо поступило. От твоего Сергея Родионовича письмо…
Мать, взбивавшая подушку, замирает; молчит какое-то время; спрашивает – и в голосе у нее дрожь:
– Интересно – что ж он это?
– О школе тревожится. Учитель он – иль забыла? – хороший учитель…
– Нет, пастух! – отрезает мать. – Учитель должен при детях давно быть. Скоро занятия… Вон краснодвориковские учителя, которые не погибли, повертелись все!
– Школу просит подготовить.
– Бумаги ему не жалко – просить-то! Сколько можно… Володька Машин уже парты отремонтировал. Ефрем половицы заменил. А он про-осит!
– Ух, Алевтина! – снова грозится пальцем Ксения Куприяновна. – Твой муж слуга Отечества…
«И чего это мамка? – Ваня тоже недоволен. – Если отца какой-нибудь генерал не отпускает – виноват он, да?»
– У вас четыре мужа было, Ксения Куприяновна, пожили! – кричит, задыхаясь, мать, – Пожили! Вам что! А у меня он один, муж-то, и его четыре года не вижу, не слышу. С Покрова в каждом письме обещаниями кормит… Хоть бы уж не обещал!
– Дура! – тоже кричит Ксения Куприяновна, клюшкой об пол стучит. – Дура ты, дура!.. И Ваня кричит:
– Хватит вам!
Боится он, как бы от крика не рассыпалась Ксения Куприяновна – она же вроде пересушенного горохового стручка.
Но мать опомнилась; на скамью присела, подушку обнимает:
– Чего еще-то Сергей Родионович пишет?
Отдышалась Ксения Куприяновна, отсердилась, сказала:
– Чтоб без него начали уроки. Не приедет.
– Во-он как, – тянет мать, сильнее стискивая подушку. – Не приедет…
Ксения Куприяновна поклевала носом над столом и незаметно растворилась в ночной темноте.
«Во-он как…» – шептала мать, и плечи ее дрожали, и подушка на ее коленях дрожала, а месяц ярко блестел, и ухал в гуще леса филин.
IV
Утро сегодня выпало: бери больше – тащи дальше! Пока Ваня от колодца воду в кадушку и корыто носит – много воды требуется; а как с этим покончит – поедет с тачкой к Белой горе, за песком и глиной. В оба конца раз десять придется смотаться. Ноги протянешь от такой работы: жара-то какая!
Глина, песок, вода – это для Ефрема Остроумова: он придет к ним после обеда – печь перекладывать. Старая у них печка – черные кирпичи из свода падают. И хоть лето сейчас, однако будет и зима, а до нее еще осень с холодными ветрами.
Вода в ведрах – с веселой разноцветной радугой поверху; выплескивается она на Ванины ноги, свертывается в пыли серыми шариками, – эх, почему она такая тяжелая! От ведерных дужек вспухают на ладонях багровые рубцы.
Но тут проезжавший мимо дядя Володя Машин останавливает лошадь, интересуется:
– Ты чего, как муравей?
Объяснил Ваня.
Дядя Володя задумчиво поскреб широким ногтем щетину на подбородке, потом сворачивает цигарку, закуривает молча, – Ваня окончания разговора ждет.
У дяди Володи глаза перемигиваются: правый мигнул – левый ответил, затем снова правый, за ним опять левый… Это от нервов, а нервы, говорил дядя Володя, из фашистского концлагеря он привез.
– Та-ак, – с неуходящей задумчивостью произносит дядя Володя. – Чего ж, выходит, твоя мамка вовсе не пожелала, чтоб я вам, значит, помог?
У Вани облитые водой ноги чешутся – трет одну о другую.
– Нет, парень, – дядя Володя сожалеючи языком прицокивает, – не желает Алевтина Демидовна моей помощи… Так, Ваня?
Ване хочется мать выручить – объясняет:
– Это она, чтоб я у нее закалялся!
– Закалишься-запалишься еще, – говорит дядя Володя. – А ведь на работу бежала она – в аккурат я с конного двора выезжал. Чего б не сказать-то мне!
– Постеснялась она, дядь Володь.
– Стеснительная! Ладно… Кто печку класть будет – еловский печник иль Ефрем?
– Ефрем.
– Ну-ну… Ефрем так Ефрем! Садись, поехали.
И они, трясясь по кочковатому лугу, едут к Белой горе. Ликует Ваня: за один раз на телеге песку и глины привезут! Он такой, Машин дядя Володя, – безотказный, как мамка называет; он Ваню с собой берет, когда в лес за слегами едет, еще в ночное иногда берет, и там, в темном поле, они вдвоем пекут молодую картошку, слушают, как пофыркивают стреноженные кони, переговариваются птицы в траве, шумит близкий лес… Зря мамка сердится и непонятно почему сердится, – потому, наверно, что очень хворый дядя Володя, не нужно Ване возле него быть…
Живет дядя Володя одиноко, со старухой матерью; думал раньше Ваня, что дядя Володя тоже почти старик – в морщинах он весь, с облысевшей головой, сутулый, моргучий, и зубов у него мало. Но дядя Володя сказал ему как-то, что он еще молодой, с двадцатого года, ровесник его, Ваниной, матери, – вместе играли они, как вот теперь, к примеру, он с Майкой… И недавно это было, сказал, вздыхая, дядя Володя.
Ване верилось и не верилось: мамка вон какая молодая, здоровая, сильная, красивая! Спросил у нее: правда ли такое было, играл с ней дядя Володя?
– Все-то липнешь ты к кому не надо! – досадливо проворчала мать. И обругала: – Глядите на него, допросчик какой! Проверяльщик выискался!.. Чтоб не оставался больше в ночное – дома спи!
А дядя Володя, конечно, добрее к мамке, чем она к нему; он жалеет ее, спрашивает всегда про нее. Вот и сейчас, когда по лугу едут, спрашивает:
– Скучает мать по отцу-то?
– Скучает, – говорит Ваня.
– Как же она скучает?
– Обыкновенно, – говорит Ваня. – Ждет.
– Какими словами она скучает?
– Всякими, – отвечает Ваня. – Ругается даже, почему долго не приезжает…
– Но-но, мертвяк! – погоняет лошадь дядя Володя. И снова спрашивает: – А как же она ругается?
– Она понарошку… – Ваня, зная, что дядя Володя может так целый час или все два спрашивать, сам спешит вопрос задать: – Дядь Володь, а Майка говорила, кто в Москве живет, им паек конфетами дают, правда?
– А ты не верь женским словам.
– Я не верю.
– Не верь, – предостерегает дядя Володя. – Женщина завсегда от своих слов откажется…
– Сколько разов уж было!
– Было! – невесело смеется дядя Володя. – У тебя еще будет! Знаешь, парень, как бывает…
– Как?
Однако дядя Володя не стал отвечать; по новой закуривает, жмурится от желтого махорочного дыма и солнечного света, и Ваня жмурится, а телега скрипит, хомут на лошади тоже поскрипывает, и вот уже она, Белая гора, – сверкающий песчаный холм, заросший поверху легкими звонкими соснами.
Здесь, у этого самого холма, впритык к его подножию, стоит дом из красного каленого кирпича, веселый видом, со стрельчатыми зарешеченными окнами, черепичной крышей. Небольшой он, но раза в три просторнее любой подсосенской избы, и как еще сохранился со старины, не разграбили его, не выпотрошили: ручки на дверях медные, витые, печки-голландки выложены голубыми изразцовыми плитками, а кое-где на облезлых нынче стенах просматриваются остатки живописных картин: орлы на горах, рыцари с мечами, крепостные стены с башенками… Здесь, по рассказам Ваня знает, когда-то жил управляющий богатого графа Шувалова – немец по имени Карл.
Этот Карл в доме жил, а в большом кирпичном складе, тоже из красного кирпича, с коваными створками дверей и железными ставенками на окошках, хранил Карл шуваловское добро: разные причиндалы для графской охоты и графских развлечений.
Сейчас здесь колхозный склад, в него зерно ссыпают и другое что-нибудь прячут: зерна мало, а места много. При складе сторожем и заодно кладовщиком дед Гаврила; он всю свою жизнь при этом складе, мальчиком его привез на подмогу Карлу сам граф Шувалов, и оттого у деда Гаврилы прозвище – Графский…
Склад колхозный, дед Гаврила – тоже теперь в колхозе, а бывший дом немца-управляющего – это и есть подсосенская начальная школа, которая красит и возвеличивает деревеньку. Сюда кроме Вани, Майки и еще шести подсосенских девочек будут бегать на уроки ребята из Еловки и Подсобного Хозяйства, где, конечно, живет больше населения, избы не в один порядок стоят, почта, медпункт, контора лесничества есть, но зато нет такого удобного помещения для школы.
Всего с первого по четвертый класс Ксения Куприяновна насчитала двадцать восемь учеников. А в Красных Двориках есть своя школа семилетка, когда-нибудь Ваня туда будет ездить, и там уже не арифметика, а физика, и оттуда его возьмут служить в армию, а в армии он сначала немного побудет старшиной, а потом сделается офицером, и когда ляжет за пулемет – трра-та-та-та…
– Эй, стрелок, – говорит дядя Володя, – попять мерина… ближе-ближе, кидать далеко…
Дядя Володя уже стоит в песчаной яме, широкой лопатой бросает песок на телегу. Рубаха на спине у него мокрая, слепни над ним и лошадью вьются, – вздрагивает лошадь, отмахивается хвостом.
– Н-но, играй у меня! – покрикивает дядя Володя. – Стой, Гиммлер проклятый!..
Ваня бежит к школе – по школьному саду, который так и не стал настоящим садом: отец перед войной посадил молоденькие яблоньки мичуринских сортов, да вымерзли не успевшие окрепнуть деревца в одну из зим.
А в школе крылечко вымыто и выскоблено, дверь открыта, и в классе, забравшись с ногами на стул, сидит маленькая Ксения Куприяновна, обмакивает самодельную кисточку в баночку, раскрашивает большие буквы на листе фанеры. Ваня, вытягивая шею, прочитал:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ!
Ксения Куприяновна одной рукой красила восклицательный знак, другой брала со стола сваренное вкрутую яичко, осторожно откусывала, запивала водой из кружки.
– Что тебе, Жильцов Иван? – увидев Ваню, строго спрашивает она и быстренько садится на стуле, как полагается, опустив ноги. – Приходи первого сентября, а сейчас отправляйся домой.
– Я пойду, – соглашается Ваня. – Я на парте хотел посидеть.
– Всему свое время, Жильцов. – У Ксении Куприяновны личико как запутанный клубок морщин, а из него то выглянут, то спрячутся две живые точечки. – Твои радости впереди. А пока разучи к первому сентября стихотворение. Я тебе его завтра напишу на бумажке…
– Я знаю стишок! «Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня…»
– Какой ты бестолковый, Жильцов, – сердится Ксения Куприяновна. – Нельзя перебивать учительницу… И грызть ногти – стыдно! Я дам тебе, дружочек, вот такое стихотворение: «Дети, в школу собирайтесь…»
– Небось длинное?
– Короткое.
– А если длинное?
– Зачем споришь, Жильцов? – Ксения Куприяновна горестно покачала головой, и видит Ваня – две крупные слезинки, блеснув, упали на фанерный лист с раскрашенными буквами.
– Я хотел на парте посидеть, – робко повторяет он, отступая к двери.
– Сил не осталось, – вдруг жалуется Ксения Куприяновна, – и козел меня сегодня в лебеде рогами. Такой скверный козел! Еле отстал… А мне еще чернила, дружочек, разводить… Ты ступай, Жильцов, ступай!
Ваня, пятясь, вышел на улицу; в окно заглянул – Ксения Куприяновна восклицательный знак докрашивала. А дядя Володя, видно отсюда, уже телегу загрузил – отдыхает в тени под телегой, ждет его… Тогда вперед! И – будто кавалерист, с шашкой над головой, среди зноя и пыли, как с Буденным ходили, ур-ра-а-а!..
– Ну, кавалерия, – говорит дядя Володя, – не расплотится со мной твоя мамка!.. Полежим иль поехали?
– Поехали!
– И то! Мне еще за бидонами на ферму…
– Дядь Володь, а почему дети – счастливые, в школу, что ль, идут, от этого?
– У тебя самого и спрашивать надо, пошто ты счастливый…
– А ты счастливый?..
– А как же… По самые ноздри!
Дядя Володя вожжами шевелит, понукает лошадь; Ваня смотрит на его впалые, поросшие рыжим волосом щеки, потрескавшиеся губы, видит, как неподвластная сила дергает дяди Володины глаза: раз-два, раз-два – перемигиваются они. Он говорит:
– Смеешься?
– Чего-то я смеюсь, – возражает дядя Володя. – Солнышко греет, воздуху много, лошадь меня слушается, с тобой разговариваю, работа у меня не подневольная, махорка в кисете имеется, живу в своем дому, а когда ты подрастешь – пойдем с тобой в Красные Дворики невест себе выбирать…
– Мне не скоро!
– А мне не к спеху, подожду.
– С гармонью пойдешь – невесту-то выбирать… Знаю!
– С гармонью.
– В Красных Двориках и поколотить могут. Они там отчаянные!
– Испугался, – презрительно говорит дядя Володя и даже на землю сплевывает. – Тогда ты на Майке женись.
– Я не испугался, – оправдывается Ваня. – А Майка конопатая, царапается еще…
– Все равно женись, – советует дядя Володя. – А то какой-нибудь дальний приедет, женится на твоей Майке… и тю-тю, понял? Они, приезжие, быстро это обтяпывают!..
– Ну и что? – обижается Ваня. – У меня отец из приезжих – плохой он, да?
– Тпруу-у! – придерживает мерина дядя Володя.
И встречная подвода останавливается – Ефрем Остроумов на ней, Майка тут же, и коса-литовка с граблями в телеге у них, косить едут. Ефрем, в старой, расстегнутой у ворота гимнастерке без орденов, чисто выбритый, черноусый, спрашивает, улыбаясь:
– Мне, догадываюсь, Володя, стройматериал везешь?
– Мальцу подсобил, – неохотно ответил дядя Володя.
– Правильно! Заделаем им печку, пусть греются!
– Помочь? Я приду…
– Не, – небрежно отмахивается Ефрем. – Чего там двоим, где одному тесно… А кирпичики Алевтина иль вон Ванец подадут… Закурим?
– Подадут так подадут, – соглашается дядя Володя. – Насыпай своего шрапнельного, если не жалко, подымим… Печь во сколько оборотов класть будешь – в пять?
– В три, – смеется Ефрем. – Чтоб в дверь, в окошко и в трубу немножко! Айда, гнедой, поехали… Пока!
– Поехали, – тоже говорит дядя Володя.
Майка козью рожу Ване показала – он внимания не обратил. Подумал лишь: пусть кто хочет приезжает и женится на ней, а ему она надоела, и с нею жить – со зла позеленеешь… Спросил Ваня у дяди Володи, какая медаль считается главнее – «За взятие…», «За оборону…» или «За освобождение…», но дядя Володя не ответил, кнутом поддал жару мерину, обругал Гиммлером и, молча свалив у избы песок и глину, быстро уехал.
V
Побежал Ваня на свой наблюдательный пост, на взгорок: посмотрит он, какие такие люди мимо пройдут…
Один солдат прошел, на дудке ему сыграл, другой сухариком поделился; а у третьего ничего, кроме веселого характера, не было. Веселый солдат рассказал о своих военных приключениях – оказался он исключительным героем. Все семь дней недели летал над Берлином на воздушном шаре, высматривал, где же прячется Гитлер, и все же высмотрел, как в одном из богатых дворов в обеденный перерыв Гитлер бегает с медным котелком на кухню – за кашей и сладким кофием… Тут солдат с воздушного шара бросил ему на голову тяжелую бомбу, но хитрый Гитлер успел прикрыться котелком – контузию получил, а живой, к сожалению, остался. Однако контуженая голова Гитлера стала работать с перебоями, фашистские генералы перестали понимать его команды, – какая же дальше может быть война?.. За особенные заслуги солдату присвоили звание ефрейтора, выдали взамен истрепанного брезентового новый ремень из натуральной кожи и наградили сразу орденом Суворова, орденом Кутузова, кроме них – Хмельницкого, Невского и вроде б Нахимова…
– Что, маленький я – обманул, думаешь? – сказал ему Вами. – Где ж они, твои ордена?
– А вот, – ответил солдат; приподнял тощий вещмешок, поболтал им в воздухе – зазвенело в мешке. – Выдающийся звон, Ваня! Ферштеен?
И пошел солдат своей дорогой, громко напевая про Марусю. Пыль взлетала из-под его сапог, а прожженную на видных местах гимнастерку на самом деле перепоясывал новенький, тот самый, полученный в награду за Гитлера ремень…
После долго никого не было; горячий солнечный свет разливался над землей. Ваня с надеждой поглядывал, не прибежит ли Майка, но Майка не бежала, – нужно тогда идти домой.
Тут выкатилась из леса рессорная таратайка – с черной старухой на ней, с нестарой женщиной и изувеченным войной офицером в золотых погонах. У старухи был плотно сжат рот, она серым в яблоках конем правила; а нестарая женщина помогала безрукому офицеру: поддерживала его под спину, папироску у него во рту поправляла… Ваня пошел за ними, а потом рядом, но им было не до него, лишь старуха сердитым глазом покосилась.
Блестел вороньим крылом единственный начищенный офицерский сапог; женщина громко и быстро, словно боялась, что ей помешают все сказать, говорила: «…А Лелечка проснется: «Где папа, где же наш папочка?» – вот сейчас она обрадуется!.. Большая, не узнаешь ты ее, Коля, умница она, и ой как обрадуется, Коля, она…» Ваня как ни заглядывал, так все же и не рассмотрел, сколько звездочек на погонах у офицера, танкист или артиллерист он…
В деревне к подводе подбежали бабы, посмотреть, кто едет. Старуха не остановила лошади, погоняла ее, не размыкая стиснутых губ. Но Подсосенские узнали: это возвращается домой, в поселок Подсобное Хозяйство, довоенный лесничий Егорушкин Николай Никифорович… Ваня не захотел слушать всякие слова про лесничего, его жену и свекровь-лесничиху – помчался к своей избе, откуда из окон и раскрытой двери выкатывалась клубами бурая пыль. Ефрем Остроумов, значит, накосив травы, вернулся, печь уже рушит!







