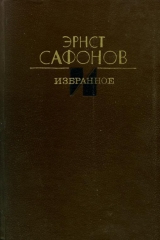
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
К Новому году выгадал Василий послать отцу тридцатку, и тот откликнулся письмом, написанным самолично. От письма пахло дустом и керосином. Василий едва не расплакался, читая письмо, представив вдруг, как сидел отец под подвешенной к потолку лампой, шевелил серыми губами, медленно выводил буквы…
Отец сообщал, что все они, слава Богу, живы-здоровы, нога у Константина залечилась, дали ему в колхозе должность заведующего теплицами, новую избу до морозов собрать успели, полы настелили, стены законопатили, избенка хоть тесная, но своя; однако крышу закидали соломой кое-как, спешили, поскольку дожди пошли, перезимовать-то можно, а весной, если удастся достать шифер, перекроют шифером, который, ко всему прочему, не так огнеопасен и имеет культурный вид… Советовал отец беречь здоровье, держать всегда ноги в тепле; обижался на Константина, который, случается, неделю-другую и не заглянет, а еще пристрастился к бутылочке, отчего происходит беспокойство в семье. И просил отец, извиняясь, присмотреть при случае в магазине ему резиновые сапоги сорок четвертого размера, чтобы на шерстяной носок и байковую портянку натянуть можно было, а то без резиновых сапог беда, особенно в мокрую погоду или когда в хлев идешь…
– Ну вот, – взбодренно сказал Василий жене, – отлегло теперь малость… А крышу весной я сам покрою. Поеду к нему весной – хоть земной шарик тресни!
…До теплых и сухих весенних дней было три с половиной – четыре месяца, не так уж и долго. Кто знает, может, Василий и покрыл бы крышу отцу, если бы жизнь не определила по-своему. Буквально на следующий день после получения отцовского письма принесли в неурочный ночной час телеграмму от Константина, всего в три слова, которые снимали с Василия какую-либо заботу о крыше над головой отца, сообщая о том, что отцу уже ничего под этим небом не требуется.
Такая телеграмма была, и полураздетый Василий, уставясь на нее, недвижно сидел у стола до темного зимнего рассвета, пока не достигли его слуха звуки нарождающегося дня, обязывающие что-то делать.
1970
СТАРАЯ ДОРОГА
Еще не успели высохнуть на щеках мокрые поцелуи подвыпивших приятелей и с лица Дмитрия Рогожина не ушла возбужденная улыбка, а поезд уже выскочил из каменного плена Москвы на простор. За окном стлались черно-белые поля, отбрасывались прочь тонкие голые деревья; под серым февральским небом скучными, лишенными живого тепла казались аккуратные дачные поселки.
Дмитрий, закинув портфель на полку, оставался у окна, в проходе, – пусть удобнее располагаются соседи по купе. А в соседи попались старый полковник со своей молодящейся старухой – резал полковник колбасу перочинным ножичком, а жена пудрилась и подкрашивалась. Были они сами по себе, и он, Дмитрий, тоже сам по себе – со своим размягченным проводами настроением, со своим крепким тридцатидвухлетним телом, с ясной, несмотря на выпитый коньяк, головой, со своими мыслями, пустыми и значительными, и своим умением видеть окружающее цепко и пронзительно. «Чистый снег, – думал он, – и где-то заяц тяжело скачет по такому чистому снегу, и санный след через поле, а в деревне у колодца звякают ведра, а под ногами скрип-скрип, скрип-скрип…» Он неслышно засмеялся, представив поджидающие его радости: покосился через плечо – попутчики закусывали; и, расслабляясь окончательно, Дмитрий вернулся мысленно к дружкам-товарищам, под шутки и смех втолкнувшим его в вагон.
Они теперь потоптались на сыром перроне, закурили и, поскольку день уже был начат с выпивки, испорчен для серьезной работы, пошли продолжать в какой-нибудь «кабак», в шашлычную у Никитских ворот, или в фабричную столовую, где никто не мешает разлить по стаканам прихваченную с собой бутылку и на закуску потребуется не больше полтинника. Они будут сидеть, тесно сдвинувшись и размахивая руками, будут, горячась, говорить о своем молодежном журнале, что делают его не хуже, чем другие редакции, а в чем-то наверняка и лучше, недаром тираж растет, печатаются в журнале наряду с начинающими авторами известные мастера… Они, разумеется, тут же забыли про него, Димку Рогожина, про зеленый поезд, на котором он отправился в командировку, – и вспомнят, и обрадуются искренне, лишь когда он вернется, возникнет на пороге редакционной комнаты: «Привет, соколики!..»
А сейчас они сидят за столиком, сблизив головы, или, возможно, бредут по Москве, по гулкому зимнему асфальту, чуточку небрежные в одежде и мягкие лицами ребята, если присмотреться к ним, и очень острые, упрямые, если затронуть их… Нет, о Димке Рогожине они, конечно, забыли, и он через какие-то мгновения тоже забудет про них и про те слова, что говорились ему на прощание. А пока те слова помимо воли тревожат и ласкают душу. «…Как хочешь, старичок, а вымахиваешь ты в интересного прозаика… Что-то от Лескова – не спорь! Только не спейся рано, старик, до поры до времени не спейся, не надо, как у нас, русских, случается…»
Наверно, Дмитрий, увлекшись, рассмеялся вслух – оглянулась и тоже засмеялась прошедшая мимо со стаканами чая на подносе проводница и после, снова поравнявшись с ним, сказала:
– Вчерашний день вспомнил?
Он согласно кивнул, с неизъяснимым удовольствием приняв в себя зазывность ее взгляда, ее низкий затаенный голос. «Татарские глаза у нее, и загадка какая-то в ней, и как хорошо, что еду, а рядом она, и другие неожиданности могут встретиться, и добрым хочется быть…»
Уткнувшись лбом в холодное стекло, он думал, что славно, в общем-то удачно сложилась его собственная судьба, много приятного может быть впереди, и ему нескучно, в охотку работается… Вчера утром в коридоре редакции этого самого журнала главный – или «шеф», как его тут за глаза называют, – остановился перед ним и сказал: «А что, голубчик Рогожин, не пора ли на большую дорогу, а?.. Вроде из косопузых ты – рязанский? Вот и съездил бы на родину, в свою знаменитую губернию, привез бы нам рассказец или короткую повесть… Но чтоб такая… как девичья слеза! Волновала б и, чувствуешь, Рогожин, даже пусть сентиментальная, но чтоб торжество молодости, нерастраченных сил в ней было…»
Пожав сухую, горячую руку главного, пробормотав, что «надо поразмыслить… а в принципе – конечно же!..», Дмитрий по лестнице сбежал вниз, выскочил из стеклянных дверей наружу и, не зная, куда сейчас и зачем идти, присел на заснеженную скамью в скверике. Смотрел, как ссорились голуби, бабушки в теплых ботах гуляли с младенцами и дома́, тяжелые и темные, под стать хмурой погоде, загораживали даль. «…Это же чертовски правильно, – говорил он себе, – не в Среднюю Азию, не куда-нибудь в Магадан или Кишинев, а в родные места поехать… Это же… нет, превосходно, что там! Сто лет не был, никого у меня там не осталось, и – приехать! Каких-то семь-восемь часов на поезде, и на любой станции сходи: Желобово, Вёрда, Ягодное… Знакомую березку встречу, припомню что-нибудь – вот уже и рассказ!..»
Дмитрий расхаживал по скверику, весело потирал руки, состояние было такое, будто гора с плеч, и он узнал и нашел наконец-то, что долго находилось где-то рядом, волновало, а он не мог угадать, что же от него требуется… Вовсе это и не главный редактор журнала подсказал – ехать на родину; это давно жило в нем, Дмитрии Рогожине, ждало своего часа, а слова главного явились как бы последним толчком, ускорили назревшую реакцию сердца… В путь, старина!
В этот момент, кажется, и всплыло в памяти, как четырнадцать-пятнадцать годочков назад он, тогда еще не «молодой писатель», а желторотый литсотрудник районной газеты, был послан в колхоз «Заря» и провел там неделю… Ах, с какой сладостью, с каким томлением это воспоминание задело тотчас все, что есть в нем живого! Приходилось лишь поражаться самому себе: как же он с юношеской беспечностью еще в те далекие дни смог выветрить из сознания события той недели, ни разу на протяжении многих лет не вернулся к ним и, пребывая в какой-то ненормальной торопливости, в погоне за своим счастьем, не вспоминал тех, с кем в том канувшем в вечность апреле столкнула его жизнь?..
Он мерил шагами заснеженные дорожки сквера, ощущая в себе зарождающуюся потребность как-то действовать, что-то делать – и непременно сейчас, сию минуту, и от этой минуты, чудилось, зависело многое, то, что должно быть дальше… Побежал, оскальзываясь, на угол, к телефонной будке – звонил в отдел прозы журнала, сослался на «шефа», попросил оформить командировку – с завтрашнего числа – в Рязанскую область.
И вот он едет.
На плывущей за вагонным окном земле нет уже дачных поселков – обычные села и деревни, окруженные скирдами соломы, с тракторами у околиц, с крутыми спусками в овраги; кое-где, редко, на фоне низкого неба высверкивают удаленные расстоянием колоколенки и луковки церквей, а совсем близко – станционные пакгаузы, элеваторы, общественные уборные, красные фуражки дежурных и оранжевые жилеты путевых рабочих, терпеливые лошади с замохнатившимися ногами у коновязей, цистерны с горючим, и снова за всем этим – поля, лесополосы, поля… «Нет, превосходно, – говорит себе Дмитрий, – к ночи буду на месте, а утром распахну глаза, умоюсь – и здравствуйте, если не прогоните!..»
По-зимнему быстро и неприметно затемнелось снаружи, и хотя по времени был еще день, но сизые сумерки широко и, казалось, очень надолго овладели округой – полустанки и разъезды осветились электричеством. Желтый тускловатый свет выбегал навстречу, и было видно, как вдоль железнодорожного полотна, обгоняя поезд, мчатся снежные вихри, и внезапно промелькнувший человек вышагивал по краю насыпи, согнувшись, отворачивая лицо от ветра… Дмитрию стало скучно стоять у окна – в купе зашел, но тут молча и угрюмо сидела полковничья чета, и что-то неладное было в их молчании, ссорились, возможно, или просто устали друг от друга, снова подался Дмитрий в коридор. Полковник спросил вслед, не найдется ли у него что-нибудь почитать; Дмитрий, вернувшись, достал из портфеля, торопливо сунул в руки ему свою последнюю, недавно изданную книжку – о полугодовом странствии по сибирским дорогам. Книжка небольшая – около десятка рассказов и очерков, однако в ней под яркой рисованной обложкой был его портрет – потому-то Дмитрий поспешно отвернулся от полковника, внутренне устыдившись, что тот, признав его на фотоснимке, чего доброго примет за дешевого хвастуна. (Вот, дескать, смотрите, кто едет с вами, – писатель Д. Рогожин!..)
Правда, сам Дмитрий никогда себя вслух писателем не называл, хотя в газетах и журналах его несколько раз так уже поименовали. Было у Дмитрия тайное убеждение, что все еще впереди, новые сборники, после первых трех, принесут ему известность, такую, что при знакомствах отпадет надобность называть свою профессию, – тогда, услышав его фамилию, каждый сам себе скажет: «Ах, это ведь Дмитрий Рогожин, тот самый…» Мечтать о будущем было отрадно, и мечты, считал он, помогали в работе – спешил он, спешил…
Из глубины вагона, от двери, ведущей в тамбур, будто фосфоресцируя, блеснули молодые глаза проводницы, и снова блеснули – глаза и белые зубы; скрылась она в своем служебном купе, задвинулась дверью. Дмитрий, ощущая в теле упругую силу, радуясь чувству неизъяснимой свободы, пошел по вздрагивающему полу к служебке, постучался, и ему открыли – засмеялась она, сбросила беретик, рассыпав по плечам длинные и густые черные волосы. Через несколько минут они уже пили густой коричневый чай, ели конфеты – каждую на двоих, и ему было приятно от тесного сидения вместе, от того, что он мог положить ладонь на ее круглое полное колено, а в зазывном ее взгляде было обещание такого счастья – беспокойно, громко забилось его сердце. Она сказала, что в этом рейсе едет одна, без сменщицы, довезет его до Караганды, конечной остановки, – чаю много, только пей! Он покачал головой, развел руками, а она шутливо и капризно ударила его ладонью по щеке, набросила на плечи форменное пальто с серебристыми металлическими пуговицами, взяла фонарь и пошла в тамбур – приближалась очередная станция.
Дмитрий взглянул на циферблат часов – через двадцать минут сходить ему. Он вздохнул, улыбнулся, вытащил из кармана авторучку, написал на какой-то разграфленной служебной бумажке, лежавшей на столике: «Обратно вместе поедем!» – и пошел в свое купе.
У полковника на тужурке много орденских планок, а погоны мятые, с темными старыми звездами – из отставников, конечно, полковник, много лет ему, на седьмой десяток, пожалуй. Он читал книжку, далеко откинув голову, чуть шевеля синеватыми губами, и Дмитрий, покосившись на него, тихо снял с крючка свое пальто, забрал портфель, занял прежнее место в коридоре у окна.
– Приехали? – строгим голосом за его спиной спросил полковник; он подошел, стоял сзади. – Возьмите вашу литературу.
– Ах, да… – как можно небрежнее и все же смущаясь, ответил Дмитрий. – Хотите – оставьте у себя книжку.
– Увольте, молодой человек, – усмехнувшись, сказал полковник; показался он Дмитрию похожим на общипанного гуся – тонкая шея в морщинах, пупырышках, легком, как пух, волосе; и нос будто клюв – качнул им старик раз-другой не без надменности. – Увольте! Мелко-с нынешний автор пишет, мелко-с!
«Догадался, что я… – решил Дмитрий, – издевается… солдафон!» Ответил неопределенно и сердито:
– Каждому свое.
– Мелко-с, – повторил полковник. – Не любовь – интрижки. Не рассуждения о жизни – тезисы к докладу. Вот как пишет данный сочинитель!
– Не то, значит? – скрывая обиду, сказал Дмитрий.
– Нет.
– Ну-ну…
А напрашивались злые слова, но понимал Дмитрий – беспомощность будет в этих его словах; и так будто уличили в чем-то неприличном, постыдном; словно за руку в нехорошем деле схватили…
Поезд между тем тормозил, проплыли в вагонном окне тусклые огни маленькой станции; дернулся состав, весело и громко лязгнуло под ногами холодное железо. Дмитрий, не взглянув на полковника, бросился к выходу. Проводница была уже внизу, стояла у подножки вагона, а в открытую дверь тамбура рвалась жесткая снежная крупа. Он соскочил на землю, чуть не упал – поддержан вовремя был, встретил знакомые, татарского разреза глаза, не остуженные метелью: таили они прежний зеленый фосфоресцирующий блеск; и рукой с зажатым сигнальным фонарем она неловко приткнула его лицо к своему, мокрому и горячему, крепко поцеловала, прикусив ему губу. Еще она что-то крикнула, когда поезд пошел, из тамбура – не расслышал он, помахал сдернутой с головы шапкой.
Небольшое здание станции забрасывалось снегом, его густо несло поверх темных деревьев с ночных полей, стонущих под ветром; и жалко болталась на шнуре лампочка перед входом, а встречавший поезд дежурный был весь белый и толстый от облепивших его снежных комьев.
Дмитрий вошел в пустой зал ожидания, отряхнулся – был один он, кто слез здесь с этого пассажирского, и не ожидались, наверно, другие поезда: никого на всю станцию! Хлопнула дверь – дежурный сонными маленькими глазками осмотрел приехавшего, спросил, зевая, в какое село ему надо.
– Нет уж, куда сейчас до твоей «Зари»! – сказал рассудительно. – Буран… что теперь утром будет…
Опять осмотрел Дмитрия – бесцеремонно, словно какой-нибудь неодушевленный предмет; поскреб ногтями заросший щетиной подбородок, посопел, похмыкал и ушел к себе, в дверь с казенной табличкой «Посторонним вход воспрещен». И тут же вернулся с дубленым полушубком в руках.
– Возьми, – сказал, – спать ложись. Печку недавно протапливал – не замерзнешь небось.
Выла пурга за стеной, скреблась в окна, и Дмитрий, положив под голову портфель, завернувшись в овчинный полушубок, слушал голоса непогоды, ворочался, стараясь заснуть, – тревожно и путано думалось о разном. Где-то на миг пожалел, что, захваченный сентиментальным настроением, поехал сюда, в затерянный среди зимы, утонувший в сугробах край, – но пожалел лишь на миг, и тут же пришла прежняя уверенность, что непременно напишет он хорошую вещь, такую, за которую не придется краснеть. Уже равнодушно припомнил слова полковника – пусть себе, еще встретятся ему, если не умрет, книги Дмитрия Рогожина! Рогожин напишет! И ты, старикан, вздрогнешь, прочитав…
Ласково думал о проводнице, уверяя себя, что она не из пустых разгульных бабенок, просто бывает же мгновенная тяга двух незнакомых людей друг к другу, мгновенная страсть, а может, и не страсть – зов души, когда не рассудок правит тобой, а скрытое до поры до времени всесильное, как инстинкт, чувство… В ней есть какая-то большая тайна, в этой женщине, она хорошая женщина, она увидела в нем, Дмитрии, того, кто может понять ее, – только так!
Неспокойно ерзал Дмитрий на жесткой скамье, неудобно лежалось, и полушубок был коротковат – не закрывал ног, мерзли пальцы в ботинках; не мог Дмитрий представить, что будет у него в «Заре», какие встречи… Зато ясно виделось то давнее – как приезжал он туда когда-то…
Мите Рогожину шел в ту пору восемнадцатый год, и оставалось в нем еще многое от мальчика, вчерашнего школьника, но и юношеской самоуверенности было через край. Очень он был тогда самоуверенным, Митя Рогожин!
Он смотрел на себя как бы со стороны и не видел, каким был на самом деле: большеротый тонкий парнишка с сердитыми серыми глазами, в клетчатой ковбойке, разношенных, ободранных полуботинках… Митя видел себя энергичным, умным и даже красивым человеком, а главное – в масштабах района считал себя личностью значительной, почти выдающейся.
В каждом номере газеты «Колхозная жизнь» можно было прочитать три-четыре корреспонденции, очерк или фельетон, даже стихи, с блеском и живостью написанные им; и все знали, что Дм. Рогожин, Р. Дмитриев, Р. Митин, Р. Степной – это он, Митя, и только на его таланте, врожденных журналистских способностях держится местная пресса. Два других сотрудника редакции – старик Курилкин и хронический алкоголик Поварков – завидовали ему, а в разговоре льстили; добрый же редактор газеты Акулов любил его великой любовью. «Дмитрий Сергеич, – говорил Акулов в один из каких-нибудь вечеров в дымном кабинетике местной чайной, – ты далеко пойдешь, не остановить никому, и помни лишь, Дмитрий Сергеич, как страдал в глуши, сгубленный обстоятельствами и неудачными женитьбами, такой, как я…» Акулов разливал водку по стаканам, слезы, которые у мужчин называют скупыми, текли по его розовым щекам. Митя, морщась, пил гадкую жидкость, закусывал шоколадными конфетами, снисходительно и не без жалости думал об Акулове, размышлял о себе…
Буду писателем, размышлял Митя, настоящим, большим, и впервые за много столетий выйдет писатель из этого забытого богом поселка, этого безвестного района, и станут тут почтительно называть его «наш земляк…». Кто-нибудь вспомнит, конечно, что в далекие годы юности он работал в районной газете, а кто-нибудь – тот же Акулов, – что не брезговал он посидеть с друзьями в дымной чайной, ходил по здешним раскисшим весенним дорогам, был у него жгучий роман с замужней женщиной Екатериной Авдеевной… Впрочем, пусть вспоминают… Сейчас же он выйдет с пошатывающимся Акуловым из чайной, малость проводит его, а после – домой, где сядет за второй том «Войны и мира». Красным карандашом он подчеркнет в тексте неудачные стилистические обороты Льва Николаевича Толстого, многочисленные повторы, громоздкие фразы – надо быть строгим к классикам, чтобы не повторить их ошибок!
А утром – по рыхлому снегу, перемешанному с густым рязанским черноземом, в редакцию, мимо деревянных домиков, бродячих коз, буксующих машин, мимо приземистой чайной, в которой вчера пили водку с Акуловым, мимо почтальона Маруси, теряющей резиновые сапоги в грязном месиве, мимо магазинов и раскрашенных щитов с призывами досрочно выполнить социалистические обязательства, дать больше сельскохозяйственной продукции любимой Родине.
Редакция на втором этаже самого главного в районе здания; в двух комнатках редакции стучат пишущие машинки, стоит невыветривающийся махорочный запах, смешанный, впрочем, с запахами дешевого канцелярского клея и старой бумаги. Тут, среди захламленных столов и шкафов со скрипучими дверцами, привычно, мило, даже уютно и редактору и всем остальным.
И Митя здесь до того свой, что уже не хочется ему думать о будущем, о возможном расставании с редакцией, о том, что для него, Мити, уготованы в этом светлом мире более значительные и важные дела…
В один из неприметных апрельских дней, когда Митя сидел за старинным «Ундервудом», тыкал пальцем в нужные буковки клавиатуры, сочиняя репортаж о тружениках районной заготконторы, – вот в такой будний день вдруг открылась дверь их редакционной комнаты и вошедший Акулов сказал:
– Придется выехать, Митя, в «Зарю». Напишешь фельетон про председателя «Зари» Тимохина. По этому фельетону будут освобождать Тимохина… Не мое, понимаешь, Дмитрий Сергеич, задание – бери выше! Приказано, Митя.
– Сурьезное дело, – сказал старик Курилкин, сварганивая себе новую самокрутку, огромней предыдущей. – Попотеешь, Митрий!
– Эх, туда добраться сейчас! – сказал Поварков и подтвердил ликуя: – Попотеешь!
– Угрюмый там народец, – еще сказал старик Курилкин, – дикой. На отшибе и голом месте проживают. Ни лесинки вокруг. А в коллективизацию в меня там из обреза палили…
– Ладно болтать, – прикрикнул Акулов. – Но ты, конечно, осторожность соблюдай, Митенька…
Митя взял чистый блокнот, кивнул всем на прощание и направился вначале к себе домой – охотничьи сапоги-бродни обуть.
Дома он ел пшенную кашу с молоком, и уже вертелись у него в голове варианты названия будущего фельетона – «Две стороны медали», например, «А воз и ныне там…», «Позабыт-позаброшен…» или «Каким ты был, таким ты не остался…» и т. д. Правда, Тимохина Митя не знал, «Заря» была, пожалуй, единственным хозяйством, в котором за год работы в газете он еще ни разу не побывал, однако, если рассудить, в каком же колхозе нет видимых недостатков? По всему району трудно проходит зимовка скота – и в «Заре», значит, нехватка кормов, плохо доятся коровы, мало живого веса нагуливают свиньи. Вот он, факт № 1. Само собой, не вызрела, погнила на корню от сырой, дождливой погоды кукуруза в «Заре» (как, впрочем, и везде); будет Тимохин говорить о ней пренебрежительно, выскажет недоверие к этой чудесной культуре, способной произвести революцию в создании надежной кормовой базы, – вот уже факт № 2. Так сказать, вредные настроения председателя, нежелание считаться с требованием времени, выполнять рекомендации…
– Наберу, – решил Митя.
На попутной машине он доехал до станции, там сел на проходящий пассажирский поезд и через тридцать четыре минуты был уже на месте.
С неба летели густое брызги, рельсы и тугие провода телефонной линии слабо гудели, в мутноватом свете просматривались еще заснеженные, но как бы пораженные гангреной поля – грязно-синеватые, рыхлые, пробитые у оврагов руслами первых весенних ручьев и потоков. Отсюда, от мокрого села Алексеевки, должна идти дорога на «Зарю» – двенадцать километров, перерезанных буераками. И эту дорогу пока еще можно было угадать: обозначали ее рассыпанные там и сям зеленоватые пятна конского навоза, не стаяли, лишь вспучились больше следы тракторных гусениц. А ноги – Митя попробовал – проваливались в жидкий снег чуть ли не по колени, и тут же вскипала из-под низа веселая и злая апрельская вода.
– Обязательно потонешь, – заверил Митю знакомый алексеевский бригадир механизаторов. – Вчера б кое-как преодолел, а сегодня шалишь! Стихия, брат. Иль на вертолете.
Вертолета под рукой не было; Митя, тоскуя, смотрел на избы, плавающие в лужах, морщил лоб и все же, примерившись взглядом к далекой затуманенной каемке горизонта, решился на подвиг.
– Идешь, получается, – с сочувственным интересом спросил бригадир, – судьба, получается, у тебя такая… на произвол тянет… В случь чего сообщим по родственникам и руководству…
Он проводил Митю до околицы, снабдил его тонким шестом – мерить глубину встречных разливов; из-под толстого бобрика зимнего полупальто достал нагретую поллитровку и тоже отдал Мите.
– Для растирания внутрь, если обмочишься. Это не взятка служебному лицу, а лекарство, не сумлевайся… И какая ж взятка может быть, если у меня ремонт техники на девяносто девять шесть десятых процента выполнен, и напишешь обо мне, как друг, самое похвальное… И Тимохину в «Заре», удастся тебе, передай привет, сват он мне…
Пошел Митя.
Наверно, уже первый осиленный им километр был как боевой гимн человеческому упорству, человеческой смелости, преданности Мити Рогожина своему долгу. Митя еле выдирал ноги из снежной каши, спотыкался, падал иногда руками вперед, был потный, разгоряченный; поджидали его затаившиеся ямы и колдобины – ухал в них, и уже пробилась влага через раструбы высоких голенищ бродней, привязанных к поясному ремню. А впереди – ни конца ни края: море разливанное!
Совсем неширокая на вид балочка оказалась непроходимой – шест нырял целиком, и снег тут был лишь поверху, тонкий, как хлебная корка, а внизу, по руслу, не сочилась, а по-настоящему бежала вода. Слышалось даже, как она бежала: урль-ур-урль… Митя стоял, сжимая зубы, не оглядываясь назад, – отступление казалось ему равносильным позору. Пошел – иди!
Поиски обхода заняли не меньше часа, да и падал Митя опять – грузнее от сырости делалась одежда; и снова нужно было обходить, километра полтора крюк составил, тяжело удлинялся путь. А тут еще смеркаться начало, загустела мгла, ноздреватый снег под ногами стал обманчивее, скрытая вода гудела угрозно, предупреждающе, и в одном месте, навалившись на шест, Митя сломал его, сразу лишившись доброго помощника.
Хорошо, что на какое-то время выпало Мите передвигаться по высокому месту, равнинному, приподнятому над коварными раскисшими снегами, – только грязь здесь была, густая, как тесто. Идти трудно, ноги будто приклеиваются, зато без опаски. И Митя радовался, пока такое счастье не кончилось: грохотом яростного потока, несущего льдины и мусор, встретил его овраг.
Чуть не плача стоял Митя у нового препятствия, а льдины, сталкиваясь со скрежетом, обламывая друг дружке края, бежали мимо поверх темных воли; и, мелькнув осклизлым днищем, пронеслась перевернутая лодка – сорвало, видать, с цепи где-то, а может, и опрокинулась с людьми, чему удивляться! Знобкий, пронизывающий тело ветерок подул, а по краю мрачного неба шляпками медных гвоздей легли звезды. «Не выберусь, – подумал Митя, – как конец света – ни огонька…»
Он вернулся от оврага на взгорок; маячило в стороне одинокое печальное дерево – побрел Митя к нему, мечтая запалить его и погреться возле огненного факела. Однако выстоявший при всех непогодах молодой дуб оберегали, наверно, высшие силы природы: не хотели загораться подмокшие в Митином кармане спички, да и загорелась бы какая из них – можно ли было поджечь ею железное дерево? Митя прислонился к корявому стволу и все же (ведь никто не мог увидеть) не сдержал близких слез: были они, возможно, не от страха – от бессилия, невезучести…
Тут и стал он дожидаться рассвета.
Догадался – влез на дерево и не так уж плохо угнездился меж твердых надежных ветвей. Дуло, правда, и с боков, и с холодной земли, мерзли руки, спина; если бы не предусмотрительность алексеевского бригадира механизаторов, не его стеклянный подарок – пропадать бы! Не любил Митя горькую водку, при застольях с Акуловым пил ее с отвращением и самоотверженностью, будто исполнял непременную обязанность, а в этот момент глоток-другой на какое-то время согревали и взбадривали.
Ходила над Митиной головой сочная луна, по-жестяному гремели и пощелкивали не опавшие за зиму дубовые листья, земной шар медленно вращался в ночной туманной синеве, а вместе с ним вращалось одинокое печальное дерево, которое обнимал полусонный измученный сотрудник районной газеты «Колхозная жизнь».
На рассвете окоченевшего Митю морально поддержали, если можно так выразиться, воодушевили два зайца-русака – они лихо проплыли мимо на льдине, усеянной черными горошинами. Зайцы стояли столбиками, и что-то озорное проглядывало в них: словно это и не косые были, а хулиганистые мальчишки, устроившие себе опасную потеху… «Ну, – улыбнулся белыми губами Митя, а зубы у него выбили дробь, – я что ж – хуже?..»
Как раз по пенистой воде, раздирая овражное русло, срывая ошметья рыжей глины, двигались огромные ледяные куски – с канцелярский стол и больше. Митя, подрассчитав, прыгнул – качнулась под ним льдина, но выдержала; а с ней – на другую, после на третью, при этом балансируя, как на канате, с нелепыми взмахами рук, в замирании страха: вот-вот окажется в жгучей купели… Пронесло! Лишь когда прыгал на желанный берег, сильно оттолкнувшись от шаткой ледяной поверхности, чуть-чуть, обидную малость не добрал – по пояс влетел в воду. Выбрался и побежал, не останавливаясь, без передышки, пока хватило сил…
Это был долгий, изнурительный бег – струился пар от Мити, по спине шлепали комья грязи. Митя ни о чем не думал, только злость подхлестывала, неясная, не понятно на кого, может, на Тимохина даже, из-за которого, по существу, приходилось страдать…
Избы центральной усадьбы «Зари» выскочили из молочной пелены весенних испарений как-то сразу: сверкнули солнечно оконные стекла, красный полинявший флаг свисал с мачты, трубно, на всю округу ревел бык, тревожимый апрельскими запахами… Митя, унимая дыхание, перешел на шаг, одергивал одежду на себе, вытирался; а от крайних амбаров смотрели на него люди. Они группками – по трое, впятером-вшестером – сидели на подсохших бревнышках, играли в карты, закусывали, и возле них было разбросано много раскрашенной яичной скорлупы. «Гуляют, – ожесточаясь, позавидовал Митя, – коллективно гуляют: Пасха!» Совсем обидно стало: ты, Митя Рогожин, выходит, рискуя жизнью, которой всего семнадцать лет и два месяца, захлебывайся в опасных буераках – им же наплевать! Они сытые и довольные, чихать им на него, Митю, на специальное задание, полученное им, на всю районную антирелигиозную пропаганду, сурово осуждающую церковные праздники… Пасха – вот им что!
Твои это люди, Тимохин! Тебе минус.
Тимохин же находился, как оказалось, в конторе правления. Один и в созерцательном оцепенении. Смотрел в угол, затянутый паутиной, барабанил пальцами по заляпанной чернилами крышке стола – тогда лишь обратил внимание на Митю, когда тот сердито кашлянул. Похож был Митя, верно, на чудом воскресшего утопленника.
– Ай-я-яй! – удивленно сказал Тимохин.
Митю до самого сердца ласково пронзили его удивительные голубые глаза – такие детские глаза, чистые, как два подснежника, заметные еще и потому, что очень праздничными казались они на рядовом морщинистом лице Тимохина, буром, цвета оберточной бумаги, с сизоватой картошкой вместо носа.








