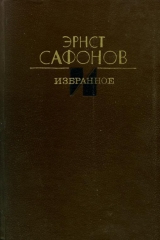
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
– Будя глупости пороть, – сердито оборвала Мария. – Не дома они там, у чужих. – И продолжала чтение: – «…еще жары очень большие, как на раскаленной сковородке живешь…» Господи, и надо было им туда ехать! Что, в Рязани хуже, зарплату не плотют? Залетели!
«…на раскаленной сковородке живешь, кто здесь не рожден, вроде нас, никогда, наверно, не привыкнет…»
Дальше Тоня обстоятельно описывала, какие там, в переводе на наши деньги, цены, как трудно тамошнему правительству, потому что не хватает врачей и учителей, народ в деревнях неграмотный, забитый, в городах много безработных, просто нищих и бродяг, потому что западные капиталисты грабили и развращали Африку, нисколько не заботясь о ее будущем. Спрашивала дочь, какая у них, в Прогалине, погода, какие новости, хороши ли всходы картошки…
Мария всхлипнула, глухо проговорила, ища у него, мужа, поддержки:
– Надо было не отпускать снова туда. Побыли – хватит. Пущай другие!
– Не голова у тебя – наркомат. – Степан хмыкнул; сунув вожжи меж колен, стал закуривать. Рассуждал: – Западные капиталисты века там паслись, терпели жару, ничего… а мы растаяли. Так? Обидно даже. С чего эт мы сразу растаяли, нежные какие, сахарные…
– Будя тебе…
– Чё будя? Прямое задание дадено о помощи угнетенным – молчи, действуй!
– Ты, поглядеть, много надействовал…
– Не привелось. Негде было. А там бы, в Африке, не испугался… Ты до конца прочла? Нет? Вот кулема… Што ищо-то?
В заключительных строках шли приветы, просьбы не забывать, почаще писать, и была приписка:
«Виталик увидел, что отсылаю сегодня письмо вам, и просил узнать у папани, как его опыт, про который я сама ничего не знаю, что даже обижает, почему обязательно от своих надо иметь загадочные секреты. Глупо. Виталик просил передать тебе, папаня, что если никаких признаков не появилось, то надо не забыть создать над растением микроклимат, для чего покрыть его застекленной рамой, как в теплицах делают, и поливать теплой, подогретой водой, по ведру каждый вечер, а рама должна отстоять от земли на полметра и с боков тоже должна быть застекленной. Он говорит, так советуют, и просит описать, получится ли у тебя что с этой рамой, как обстоят дела».
– Про орех, поди? – догадалась Мария.
– Про орех, – весело подтвердил Степан. – Токмо без рамы обошлись, ежели теперьча на будущее пригодится совет…
– Ох, дурень, – сказала Мария. – Пра слово, старый дурень. Себе забаву сыскал – ладно. Зять в Африке, посланный для большого дела, – он ему голову забивает! Орехом своим! Тьфу!..
– Ты не шибко… эт самое, ты не спеши, – по-прежнему весело отозвался Степан. – У меня тож, раскинуть… государственное дело! Есть просто какой-нибудь орех, а есть не просто…
Чуть было не выложил Марии всю тайну, однако удержался. Пока растение хоть с вершок росту не наберет, никому ничего не откроет.
Меж тем выбрались на луговину, и скоро, не доезжая Тарасовки, открылась та развилка, с которой слабо проторенная, травянистая дорога бежала по оврагу, к сизым ветлам Дувакина хутора. Мария, пониже надвинув белый платочек на глаза, пошла к сестре; Степан, покрикивая, погнал Орлика к сельсовету. И едва успел к началу. Человек тридцать мужиков и пять-шесть женщин среди них тесно заполнили просторное сельсоветское помещение, посверкивая нацепленными наградами, и сам председатель, Илья Ананьич Красноперов, был при наградах, украсив костюм серебром и бронзой медалей. Степан, пристраиваясь на краешек стула у двери, услышал продолжение его выступления:
– …надо было б в Доме культуры, но там полы после покраски сохнут, и в тесноте, как говорится, не в обиде. Разве кто из нас позабыл тесноту фронтовых землянок иль, давайте припомним, как после тяжелого марша валились вповал в каком-нибудь сарае, а то и прямо на снегу. Хотишь, значит, потом встать – шинель примерзла… Протерпели, выстояли, достигли торжества победы. Не кто-нибудь, а мы, фронтовое, что называется поколение Родины, хлебнувшее пороховой горечи до самых печенок. Я, товарищи однополчане… а мы все теперь однополчане, одного сводного фронтового полка, поскольку время старости списывает нас беспощадно, все меньше нас, я поздравляю, короче, товарищи, передавая слово тож военному товарищу, прибывшему к нам… товарищу майору, представителю районного военного комиссариата!
Полноватенький майор, поднявшись из-за стола, пригладил рыжие волосы на лобастой голове, откашлялся и твердым командирским голосом сказал, что ему выпала честь вручить ветеранам – участникам боев – памятные юбилейные медали.
Илья Ананьич называл фамилии – и майор, пожимая руки, передавал каждому из подходящих к нему коробочку с медалью и листок наградного удостоверения. Степан согласно алфавиту был в списке в самом хвосте, а потому пока с любопытством поглядывал на всю церемонию и на мужиков, из которых знал всех, но многих давненько не видывал.
Вот из рядов, задевая чужие плечи, выбрался к столу дувакинский житель Ипатьин, тоже Степан и тоже обрубленный на левую руку. Взял коробочку – и майор замешкался: рука у человека занята – как пожимать-то?.. Но нашелся: дотронулся до ипатьевского локтя, произнес, обращаясь ко всем:
– За каждой такой медалью своя, особая фронтовая судьба, свои, товарищи, воспоминания и переживания. Носите эти медали как подтверждение такой вашей особенной судьбы, засвидетельствованной памятью Отчизны.
Красиво выразился офицер военкомата – Степану понравилось; и когда сам был поднят и вышел к столу, переданную ему коробочку быстро сунул в карман пиджака, а освободившейся рукой с чувством пожал теплую, приветливую майорскую ладонь.
Илья Ананьич предложил:
– Выскажись, Степан Иваныч, по случаю события!
– Што сказать-то, – смешался Степан. Слова не находились. Выдавил: – Воевали, а кто не воевал? Всем не повезло. Ды нам-то ищо повезло – живые…
Вернулся на место недовольный собой: при всех попросили, а у него язык прилип… Тем более что тут же, получив награду, как по бумажке, без запинки, отчеканил Якушкин, бригадир тракторной бригады из Тарасовки. Его не просили – сам. Привычный – сколько лет депутатом, на сельхозвыставке в Москве «Жигулями» его премировали, грудь будто у маршала: для новой медали уже свободного местечка не осталось. Злой до работы человек, сам навроде железного трактора: начал борозду – не остановить.
И в разговоре такой же: не переломишь, не собьешь, свое докажет.
А он, Степан, – случай подвернулся – и тут себя не показал. Как будто б так, мелочишка, труха – но настроение сбило. С тем, когда все кончилось, и вышел из сельсовета.
Мужики, вывалившись табуном наружу, толпились у крыльца, закуривали, переговаривались и словно б чего-то ждали – смущенно, однако как должное. Илья Ананьич провожал майора до газика, уговаривал его, но тот, захлопывая дверцу, решительно ответил:
– Ни-как! График. Еще в трех сельсоветах сегодня провожу. Спасибо, но не получается…
И уехал.
Илья Ананьич, подойдя ко всем, развел руками:
– Вы на сегодня казаки вольные, а у меня служба в самом разгаре. Вы уж тут сами как хотите… лишь без шума…
Поднялся на крыльцо, толкнул дверь. За ним, отделяясь от толпы, двинулись каждый по своим делам директор школы, заместитель колхозного председателя, еще бригадир Якушкин…
Ипатьин, сплюнув окурок в траву, зычно сказал:
– Комсостав удалился, а мы, рядовые, на штурм магазина… как? Другие мнения имеются? Нет? Принимаю команду на себя. По три рваных с носа – идет? У кого меньше – все равно… Вали в картуз, славяне!
Сорвал Ипатьин с лысой головы кепку, бросил ее на крылечный приступок. И мужики, оживившись, начали класть в нее мятые рублевки, сыпать белые монетки. Пяти минут не прошло, как уже трое самых резвых бежали в магазин, а остальные гурьбой, неспешно, потому что были тут с палочками, и просто хромые без палочек, и один вовсе на костылях, – пошли на выгон, сообща посидеть там на зеленой молодой траве, по своей душевной потребности и никому не мешая.
10
– Не вороти морду-то, не вороти, – говорил Степан застоявшемуся Орлику, затягивая супонь. – Такую конференцию провели… песни спели, поговорили, помянули, поглядели друг на дружку… Хор-рошо. Куда деться – товарищи… и медали нам присвоили… Теперьча домой!
Заскрипела телега, выезжая из-под тенистых осокорей на дорогу, к которой близко жались палисадники Тарасовки. Солнце стояло еще высоко, время было послеобеденное – самый разгар дню. Ревели, обдавая жарким ветром и бензиновой гарью, машины. Степан не подгонял мерина – пусть себе…
Он даже вздремнул малость, пока лесом тащились; в освеженной сном голове рождались легкие приятные мысли: вот на награждение пригласили, не забыт, значит, не заброшен, а там официально с людьми встретился, затем полуофициально, на выгоне, где было не хуже, чем в сельсовете: сам послушал и его слушали… А на огороде… («кипит-т твое молоко!»)… на огороде-то баобаб росток дал. Полный праздник!
Подъехав к дому, он распряг Орлика; в избе снял пиджак, напился квасу, заправил пустой рукав рубашки иод ремень и пошел на «плантацию».
Земля под полиэтиленовой накидкой раскалилась, как сковородка, поставленная на огонь, и Степан испугался: не сомлел ли от такого жара росток? Но малыш по-прежнему остренько посвечивал своей белой головкой, которая за прошедшие часы стала вроде б потолще, уже походила на почку, на туго свернутый листок: вот-вот развернется, расправится…
«Накрывать опять, нет ли? – терзался Степан. – Солнце, духота… Но зять написал, што должно быть как в теплице – под стеклом. Этот самый… микроклимат».
И накрыл Степан снова. Однако так, чтоб провевало с боков, с отдушинами для циркуляции воздуха.
Потом он напоил Орлика, почитал газеты и журнал «Человек и закон», прихватил гвоздями «поющую» половицу в сенях, натаскал воды в кадушку под окном, прополол две морковные грядки… время не бежало – ползло. Вышел на крылечко посидеть-покурить и, может быть, что-нибудь придумать по причине выдавшегося свободного дня и отсутствия в доме Марии.
Тут он увидел, что по улице, загребая пыль сапогами, идет Виктор Тимофеевич Ноздрин, а с ним еще кто-то, незнакомый, молодой, в клетчатом пиджаке и узких светлых брюках, – из приезжих. Представитель из района, возможно. А Виктор Тимофеевич скорее всего ведет его к себе в дом перекусить…
Такой момент – как раз для разговора! И Степан забыв тут же, что хотел до поры хранить свою тайну, побежал к калитке, окликнул главного агронома:
– Погодь-ка, Виктор Тимофеевич!
– Чего тебе, старина? – остановился тот посреди дороги.
Степан подбежал, подал руку Виктору Тимофеевичу, затем незнакомому парню; вежливо спросил:
– Не задерживаю?
– Задерживаешь, – сказал Виктор Тимофеевич. – Что у тебя, Степан Иваныч?
– А эт вот товарищ…
– Этот товарищ из районной редакции, приехал писать про нас. Так в чем дело?
– Очень приятно. – Степан еще раз пожал руку приезжего и обратился опять к Виктору Тимофеевичу: – Вот интересуюсь я, категорически знать мне надо, что такое представляет из себя микроклимат…
– Только всего?
– Начнем с этого.
– Некогда нам, Степан Иваныч, с тобой ни начинать, ни кончать. Сказано – спешим. А микроклимат… как бы тебе попонятнее… Это свой климат для данной обстановки! Есть климат вообще… погода вокруг нас, допустим… а нам, например, нужен определенный климат для произрастания рассады в теплице. Мы создаем нужную температуру, световой режим и тэ дэ и тэ пэ… Это уж будет микроклимат. Усек, старина?
– Извиняюсь, конешно, што вы спешите. – Степан взволновался, услышав про теплицу (зять недаром в письме подсказывал!); говорил быстро, заглядывая в глаза Виктору Тимофеевичу: – В Африке, понимаю я, свой микроклимат, у нас, в Прогалине, опять же свой. География! А как быть?
– Это ты про зятя, что ль? – ухмыльнулся главный агроном, – Про то, что он в Африке и чтоб мы не забыли, да? Не бойсь, старина: Родина не забывает своих героев, пиши ему в письмах приветы. Пока.
– Н-нет, Виктор Тимофеевич, погодь. – Степан ухватил агронома за рукав. – Тут дело сурьезное. Окромя тебя кто посоветует, у кого такие знания? Ращу я на огороде, предположим, африканский баобаб – а как с им заниматься, обихаживать как? Вопрос!
– Сколько, Степан Иваныч, сегодня выпил?
– А ты, Тимофеевич, не думай… Эт одно, а я про другое. Ращу!
– Баобаб?!
– Баобаб. Пошли в огород!..
Через минуту-другую втроем топтались вокруг бледно-зеленого росточка, и Степан возбужденно рассказывал, как зять Виталий по его приказу привез орех – и вот этот африканский плод, высаженный теплой дождливой порой в огородный чернозем, пробился наружу, к свету… Зять присоветовал: строй теплицу!
Виктор Тимофеевич, опустившийся на колени, чтоб лучше разглядеть росток, – поднялся, стряхнул с брюк пыль, растерянно сказал:
– Черт ее знает… Сейчас ничего не определишь. Через день-два если… Тополь взять – тоже поначалу, как травинка, из земли лезет. Всякое дерево из семени – как травинка. Маловероятно, однако не исключается…
Пот лил с него градом.
Парень из редакции, щуря хитроватые глаза, со смешком заметил:
– Первый баобаб в России. Подумать только! И где? В Прогалине, в глуши, вдали от шумных автострад и научных центров… Сенсация.
Виктор Тимофеевич пожал плечами:
– Расти не будет – тут я на все сто уверен. А вот взойти… почему б нет? Благоприятная среди, все такое… Подождем, говорю.
Приезжий корреспондент по-прежнему насмешливо сказал:
– Ну и тарасовский колхоз – чудо! На свиноферме не поросята – борзые собаки. Свистни, натрави – разорвут! Особую породу вывели. Путем интенсивного недокармливания…
– Я за ферму ту не ответчик, – хмуро проговорил Виктор Тимофеевич. – Я за поля… А урожай у нас, к вашему сведению, выше среднего по району. Зерновые двадцать один центнер…
– А я разве тебя виню, Ноздрин? – Корреспондент легонько похлопал Виктора Тимофеевича по спине. – Я вообще… констатирую. Выдающаяся местность. Опять же этот старикан, учитель… как его? Сливицкий! Ботанический сад на дому.
– Сад, – Виктор Тимофеевич злился. – К вашему сведению, это впрямь сад. Сливицкий медали с выставки имеет, дипломы, о нем в журналах писали. А кто сам не сажал ни одного дерева – тому не понять. Указывать да критиковать куда легче!
– Остынь, Ноздрин. Лично я тебя еще никогда на газетной полосе не критиковал…
– «Еще»! А мне чихать…
– После такого чиха слезы бывают… на бюро райкома!
– Намек, что ли?
– Дружеское предупреждение, Ноздрин.
«Въедливый, – подумал Степан про корреспондента. – Навроде зятя моего… сам щипает – его не тронь!»
– Ладно, Степан Иваныч, пойдем мы. – Виктор Тимофеевич руку пожал. – Приглядывай за своей диковиной… Я забегу мимоходом.
– Считайте, столь выдающееся событие эпохи уже под контролем прессы, – тоже протянул свою тонкую руку районный корреспондент. – Получится у вас – выведем в герои дня. Трудись, как говорится, а слава придет!
– Мы будем, – ответил Степан, – У нас на захочет – вырастет.
11
Покуривая на крылечке, Степан размышлял про приезжего из редакции… Такому пальца в рот не клади: откусит, выплюнет да еще посмеется. Ноздрин Виктор Тимофеевич, можно сказать, к земле прикрепленный, а этот ездит, смотрит, интересуется, и не начальник, а неприятностей от него жди. «Тут у вас не так, здесь недоработали…» Ноздрин, получается, перед ним в ответе, а кто в ответе – всегда слабее… Поменять бы их местами, чтоб Ноздрин спрашивал – тот, приезжий, отвечал бы. За поля, за урожай. Посмеивался б он тогда?
Вот чего ему, Степану, бог не дал – это сына. Уж как хотел, чтоб сын народился, но не достиг, пожадничала природа. А был бы сын – сам неученый, сынка бы выучил, до института довел. Тоже таким бы корреспондентом мог разъезжать… Конечно, грех обижаться: дочь у него как дочь. Однако выросла, выучили – она уже вся мужнина, при зяте, без фамильной самостоятельности. А сын – он действительно хоть в корреспонденты, хоть в летчики, как Эдик…
И только Степан мысленно помянул Эдика – тот словно ждал этого: его мотоцикл, взыгрывая моторным ревом, прошумел за недальними осокорями и на крутом вираже подлетел к калитке. Дремавшие в лопухах куры брызнули из-под страшных колес как тетерки – грузно, с шумом взмыв над оградой.
– Привет, батя! – крикнул Эдик. – Запаяли мой самовар – завтра улетаю.
Степан подбежал к калитке, поздоровались они; стал приглашать Степан:
– Ты заходи, Эдик… воскресенье… посидим, значит… Улетаешь, а! Заходи.
– Не могу, батя. Лидочке обещал быть в семнадцать ноль-ноль. А сейчас… посмотрим… без пяти семнадцать. Прощальное катание с Лидочкой. По окрестностям. Сам понимаешь, батя… Прощаться всегда трудно.
– Эт да. А ты с собой ее забери, Лидию Ильиничну-то, самолет у тебя двухместный…
– Исключается. – В синих глазах Эдика плескалось смущение. – Не тот жизненный вариант, батя.
– Ну-ну. Хозяин – барин. А пойдем все ж в избу, я там маленькую найду, по нескольку капель… Не увидимся боле.
– Если по нескольку… символически? Пошли, батя. Не мог улететь, чтоб к тебе не заглянуть.
– Обидел бы, Эдик.
– Симпатичный ты, батя, человек.
– Я к тебе, Эдик, как к сыну…
– Ах, батя, буду я ваше Прогалино помнить!
– Не по-дурному?
– Что ты, батя. Как праздник!
Степан извлек четвертинку, хранившуюся у него за ларем в сенцах; закусить – что под рукой оказалось – собрал; и поскольку Эдик спешил, на часы поглядывал – быстренько по стаканам разлил…
Эдик и половины не выпил.
– За рулем, батя. Только из уважения к тебе…
– До конца, – попробовал уговорить Степан. – Куды идешь-то… для храбрости!
– От этого горючего, батя, не храбрость, а холостой ход…
– Тож верно.
Эдик нашарил в кармане, достал оттуда орешек и, аккуратно откусив от него, стал жевать.
У Степана дыханье перехлестнуло. Он не сразу смог выговорить. Спросил, запинаясь:
– Эт што за орех у тебя?
– Кардамон. Так вроде б называется. Когда выпьешь, чтоб изо рта не пахло… маскировка, батя! Все водители употребляют. Еще мускатный орех можно… Чай жуют.
– А где берут?
– Орехи? В магазине, батя.
– Дай мне огрызочек…
– Я тебе, батя, целый дам. Запасся. А ты – чтоб супруга не унюхала? Надежное средство, с гарантией. Держи-ка!
На ладони у Степана лежал точно такой же орех, что был дан ему для посадки зятем – орех «баобаба»…
«Обманул, сукин сын, надсмеялся…»
Эдик, сказав на прощание какие-то теплые слова, ушел: треск его мотоцикла вскоре угас на краю деревни – у дома Красноперовых, видимо.
– Надсмеялся зятек, – шептал Степан. – Теплицу велел строить…
Ударил кулаком по столу – пустая четвертинка, подпрыгнув, брякнулась на пол, зазвенела осколками.
Мать-перемать… Планта-аци-и-ия!..
Вышел из полусумрака избы.
Упругий ветерок с закатным солнечным светом вжался в лицо, остужая кровь.
На огород, к тому месту, шел медленно.
Долго смотрел на бледно-зеленый росток, потом, поломав сапогом колышки, сев на землю, стал пальцем обкапывать его.
Росток тянулся от расколовшегося, сбросившего кожуру подсолнухового семечка.
Вспомнилось, как стояла тут Мария, лузгала семечки, спрашивая, чего это он затеял…
Орех зятя лежал во влажном черноземе как камешек – сухой, не изменившийся, совсем чужой для огородной земли.
Другое вспомнилось: как зять копался в ящичке-бардачке своей машины, отыскивая этот орех; говорил тогда, будто упрекал, поджимая узкие губы, – рисковал, дескать, он: не разрешается такое перевозить из Африки…
Из Африки!
Из магазина… Вот она вся Африка…
– Ничего, – вслух сказал Степан и пошел от этого места прочь. – Эт ищо не та прилюдия… Не такое кино видывали!
А в грудь словно клин вогнали, и не так больно было, как что-то мешало, раздирало надвое, обнажая его запекшееся нутро…
* * *
Стоял, навалившись на калитку; дым от папиросы ел глаза. Посреди улицы орава ребятишек с гиканьем, воплями гоняла мяч. Городские сынки – у дедушек-бабушек на каникулах тут. Самым крикливым был толстенький, коротконогий, но очень шустрый парнишка – в красной кепочке, со свистком на шнуре. Он пронзительно свистел и орал:
– Дави ушастых! Дави навозников! Вперед, флибустьеры!..
Степан попытался определить, кто же тут «навозники», а кто эти самые «флибустьеры», но ребятня вдруг приостановила свою игру – все дружно уставились на вывернувшегося из-за осокорей человека.
Шел враскачку, подметая дорожную пыль широкими клешами, грузный моряк с чемоданчиком в руках. На голове у него твердо сидела тяжелая флотская фуражка с большим козырьком и сияющим крабом; белая куртка была с черными погончиками, разукрашенными золотом нашивок.
Моряк, сказав что-то веселое ребятам, отчего они засмеялись, направился к Степану.
Улыбался, как знакомому, как своему, но Степан все никак не мог признать…
И лишь когда тот совсем приблизился к калитке, на расстоянии двух-трех шагов был, и сказал: «Не угадываешь, Чикальдаев?» – Степан ахнул:
– Ефимок?! Сальников!
Обнялись, расцеловались.
– Ну, кипит-т твое… – Степан дивился. – Был ты, Ефимок, как гороховый стручок – стал как арбуз!
– Тридцать лет прошло…
– Неуж тридцать?
– От звонка до звонка, Степа.
– И в отпуска не приезжал…
– Вот приехал.
– На пароходе плаваешь?
– Рыбу ловим.
– Командир, глянуть…
– Мы не военные – командиров нет. Главный на судне капитан. А я, Степа, тоже главный, только не надо всем кораблем, а над матросами. Боцманом я.
– Навроде ротного старшины…
– Пусть так…
– Што выстаиваем-то? Айда в избу!
– Не-е, Степа, я на свое пепелище вначале. Так задумано.
– Пусто там, Ефим.
– В душе не пусто…
– Эт понятно… Проводить?
– Будь другом. И вот что, Степа… Целый век нашего прогалинского кваску не пил. Из ржаной муки, на мяте… Имеется в наличии, Степа?
– Как не быть, Ефим?
– Прихвати жбанчик. Пару огурчиков – и больше ничего. Порядок?
Ефим Сальников остался у калитки, а Степан затрусил в избу. Квасу, слазив в погреб, налил в чайник и, собрав все остальное в сумку, снял с гвоздя свою летную фуражку: пусть Ефим видит, что нынче в деревне занятия есть не хуже, чем на море. И Ефим действительно заметил:
– На чем летаешь, Степа? На каком агрегате?
– Сельскохозяйственная авиация, – сказал Степан. – Опыляем поля. Я там навроде тебя, тож как боцман при авиации… Счас улетели, а должность при мне.
Они рядышком пошли на край деревни, к колхозному амбару, напротив которого когда-то стоял просторный, с резными наличниками дом Сальниковых, окруженный садом. Теперь тут образовался выгон для коз и телят; пять-шесть ободранных, задичавших яблонь кое-как держали листву, давно уже перестав цвести, множась сухими ветками; а на месте бывшей избы темнела ложбина, поросшая бурьяном и крапивой.
Ефим сел на краю этой ложбины, снял фуражку.
Степан увидел, что Ефим стал совсем лысым: волосы остались лишь на висках, над ушами.
Сидел Ефим, смаргивал глазами, носом шмыгал. Большой плешивый мужик, который когда-то здесь родился и в ребятах бегал. И Степан спросил:
– Жинка, дети имеются, Ефим?
– Все было, Степан, все на проклятое море променял. Помолчи, прошу…
Молчали. Долго.
Потер Ефим мясистое лицо рукой, будто смывая с него что-то невидимое, стал говорить глухо, себе в колени:
– Дед меня кузнецом хотел сделать. Чтоб ремесло свое было кому передать. А я боялся, что когда-нибудь конь при ковке копытом ударит, изувечит… А до меня Сашка в город брызнул, до войны еще, в ремеслуху. У тебя, Степа, был зуб на нашего Сашку. Помню я. Ты не таи… Где он, Сашка-то, брательник мой? Чего на него зуб иметь! Глупо даже…
– Очень даже глупо, – согласился Степан. – Где он, Александр? За Родину погиб. Все мы люди, все мы одинаковы…
– Нету гнезда нашего, Степа. Сашку убили на войне, мать – последняя держала – померла, я как бродяга, оторванный листок… под горочку, под горочку… Дед у нас какой был! Все прахом пошло…
– Без пользы, што ль, живешь… брось, Ефим!
– Как это без пользы? Кто сказал? У меня два ордена за рыбу… Меня весь Дальний Восток знает.
– Ну вот…
– Океан – мой дом.
– Во как… океан?
– Океан! А вот этого дома навсегда теперь нет… Я плаваю, подумаю: этого дома у меня нет! Издали, из чужих морей, гляжу – нет!
– В избе, што ль, дело, Ефим! Нет – срубил, поставил…
Ефим погладил ладонью траву возле себя; нагнулся – и поцеловал землю. Тут же надел фуражку, посуровел лицом, строго промолвил:
– Ты меня не осуждай.
– Зазря ты… кто осудит.
– Как бы не помереть – уж очень сюда звало.
– Молодой ищо ты, Ефим. Живи.
– Постараюсь. Где квасок-то, Степа? Дай приложусь… Хор-рош, зараза! Угадываю. Расстилай самобранку. Помянем деда моего, Сашку помянем и много чего еще помянем…
Потянул Ефим к себе чемодан, дернул замок-«молнию», откидывая крышку, – у изумленного Степана радужно зарябило в глазах. В чемодане поверх всякой там боцманской одежды тесно, одна к одной – как снаряды при подаче в автоматическую пушку, – лежали бутылки. Мощная батарея.
* * *
Двумя-тремя часами позже на прогалинскую дорогу со стороны Тарасовки выехал милицейский – с красной опояской и надписями по бортам – «Москвич». За рулем был начальник райотдела внутренних дел капитан Горобец, а рядом, держась прямо, с хмурым лицом, сидел участковый инспектор старший лейтенант Кукушкин.
Горобцу чуть за тридцать, Кукушкину под пятьдесят. Горобец спортивен, крутоплеч, белозуб, с темными, настороженно-цепкими, ускользающими от чужого взгляда глазами, и Кукушкин перед ним – со своей худобой, морщинами, блеклой кожей, изъеденными цингой в войну зубами – почти старик.
Начальник, пока ехали, уже сделал участковому несколько въедливых замечаний по службе – и тот, страдая и стыдясь, изредка покашливал, томимый желанием закурить. Но начальник не курил – приходилось терпеть.
Стыдно было инспектору не от замечаний начальника, от другого… Каким увидел его капитан, неожиданно нагрянув в воскресный день. Вот что терзало!
Он, Кукушкин, босиком, в грязной майке, таких же заляпанных штанах (до этого обмазывал глиной плетень на задах огорода), загонял во двор гусыню с гусенятами. Жена, приоткрыв дверь терраски, выставила наружу детский горшок, крикнув: «Выплесни, отец!» Генку, внука, на горшок сажала…
Он взял горшок, пошел с ним к помойной яме – и тут услышал: «Можно вас?» У ограды стоял новый, не так давно присланный из Рязани начальник райотдела капитан Горобец, к которому они еще не успели привыкнуть, – и неизвестно было, как долго тот стоял, наблюдая…
Растерявшись, он метнулся к ограде: «Товарищ капитан… Сергей Остапович… вы?!» И, дьявол побери, этот распроклятый горшок в руках: будто припаяло к ладони – так с ним и подбежал к начальнику! Опомнился, когда тот сказал: «Потрудитесь привести себя в надлежащий вид. Я к вам по службе». Повернулся и пошел в переулок, где была оставлена им машина.
Кукушкин закашлялся с надрывом, затяжно, и начальник, скосив глаза, обронил:
– На медкомиссию надо…
– Что вы, совсем нет… – Багровея, с трудом сдерживая новый приступ кашля, инспектор стал оправдываться: – От курения это. Курильщик я. Не те сигареты с утра, вот и рвут горло.
– А если преследовать придется? Какой из вас бегун? Так… называть не хочется.
– Я жилистый. – Кукушкин насупился. – А это временно, товарищ капитан.
– Бросайте курить. Впрочем…
– Слушаюсь, товарищ капитан. Постараюсь.
– …впрочем, посмотрим. Придется серьезно проанализировать вашу работу, Кукушкин.
– Пожалуйста.
– Разрешаете, значит? – В голосе начальника прозвучала издевка.
– Вам видней.
– С фактом драки на полевом стане разобрались?
– А чего там… По пьянке, товарищ капитан. Наутро помирились. Я побеседовал, внушил…
– Как у вас все просто, инспектор. «Побеседовал, внушил…» А за месяц на вашем участке шесть происшествий на почве алкоголя. Это в сводку вошло. Шесть!
– Пресекаю…
– Профилактикой надо заниматься, опираясь на общественность. Профилактикой! Создавая атмосферу презрения пьяницам… А вам где же… гуси!
– При чем здесь гуси, товарищ капитан? Сегодня выходной…
– Кто вам его дал?
– Как кто?.. Закон!
– У нас устав, служба. Я вам, товарищ старший лейтенант, выходного дня не давал… Правильно?
– Так точно.
– Да откашляйтесь вы, наконец!
– Разрешите закурить, товарищ капитан.
– Закуривайте. Только при мне – в первый и последний раз… Скажите-ка, инспектор, а Прогалино – что за село?
– Деревенька, товарищ капитан. Старичье в основном. Летом отдыхающие из города случаются. Колхозный телятник тут. И то его скоро уберут… Хорошее место, товарищ капитан. Ничего плохого не наблюдал…
«Москвич» мягко вкатил на прогалинскую улицу, посигналил ребятам, гонявшим мяч, и, осторожно объезжая стайки кур, купавшихся в дорожной пыли, сонных собак и поросят, последовал дальше. Отсюда дорога продолжалась к другим лесным поселкам. Инспектор Кукушкин, не успевший пообедать, с тоской подумал: «Начальнику что? Ему экскурсия… Хоть бы уж не шпынял тогда. И перекусим ли где?»
На выезде из деревни капитан Горобец, подавшись корпусом вперед, всматриваясь, с удивлением воскликнул:
– Это что за партизаны?
* * *
…Они клялись в любви друг другу, своей деревне, лучше которой нет деревень даже за далекими чужими морями, где бывал не раз боцман Ефим Сальников; и снова Ефим жадно целовал траву, скупые мужские слезы орошали его красное, как после хорошей бани, лицо.
Подошел и почтительно поздоровался новопоселенец – отставной военный музыкант и пчеловод-любитель Гуигин. Ему тоже налили; он послушал разговор и согласился:
– Редкой выразительности деревня.
Степан ткнул в него пальцем, похвалил:
– Он на трубе играет. Народный талант.
– Выпей с нами еще, товарищ трубач, за прошедшую в бурях жизнь, – предложил боцман Сальников и, когда тот выпил, послал его за трубой.
Степан меж тем уговаривал Ефима, чтоб он навсегда остался в Прогалине: уговаривал горячо и, чтоб окончательно сбить неуверенность боцмана, пообещал даже ему место председателя колхоза.
– Да мы, кипит-т твое молоко… как у нас? Кандидатура есть – голосуй! Кто за, кто против… подписали!.. Всех делов-то… Соглашайсь, – наступал Степан. – Обчество просит…
– У меня характеристики будут железные, – сказал Ефим. – Хоть в рамку такие характеристики вставляй.
– И вставим!
– В чемодане вроде б лимоны водились. Занюхаться кисленьким. Сейчас… минутку… надыбаю. А председателем – это ж сельхозинститут нужен. Не старое время. Без института осрамишься. Не пойдет, Степа! Вот держи-ка лимончик…
При виде желтого пахучего плода в мозгу Степана, как в карусельном вихре, пронеслись разные затуманенные картинки: учитель Сливицкий в белом пиджаке, презрительно поджавший губы, уезжает на велосипеде от его, Степановой, избы; зять Виталий полирует ветошью свой вишневый «Москвич» – и ехидно подмигивает он: что – вырос твой орех? И еще что-то крутилось, мелькало в голове, затмевая душу. Степан забыл, о чем они говорили с Ефимом, ему захотелось пожаловаться, чтоб Ефим понял, посочувствовал. Сказал он, хмурясь:







