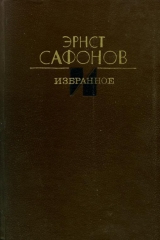
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
Они топчутся вкруг стола и мешают один другому.
– Куда? Ржавая она!
– Я ее отмою, – нерешительно успокаивает Потапыч. – Селедка – рупь сорок пять кило, а ты сомневаешься… Сами съедим, ежли что. Курятину подогрею. Банка болгарской фасоли есть…
В дверь заглядывает женщина – из деревни прибежала, просит:
– Сергей Потапыч, миленький, не откажи. Буханочку хлеба. Пастух вечерять пришел – нету хлеба…
– Ух, наглые, покою от вас нет, – ворчит Потапыч, дает ключи от буфета Глебу. – Отпусти ей.
Сложив руки на пухлом животе, он в который раз примеривается взглядом к столу. Бормочет: «Ей пища городская, тонкая, поди, привычна… Шпроты поставить?» Половицы вздыхают под его грузными шагами.
Однако, несмотря на их опасения, ужин удался. Люда пришла в простеньком, домашнем халатике, она удивилась большому разнообразию выставленной на стол еды, на что польщенный Потапыч ответил: «Как же, ассортимент!..»
– Не говорите, Людмила… извиняюсь, папашиного имени не знаю…
– Просто Людой зовите, Сергей Потапыч.
– …Вам уже, Люда, бояться полезности пищи не след. Такие аккуратные с виду…
– А я – похвалюсь! – прошлый год в кино снималась. Приглашали. Девочку играла…
– Во-во! – Потапыч, как и надлежит хозяину, держит разговор. – Так вот я и прикидываю, прицениваюсь, значит, – вроде бы и видал вас, Люда, в какой картине…
– Вряд ли, Сергей Потапыч. Роль у меня малюсенькая была. С булавочную головку. Эпизод со школьницей…
– Выходит, видал. Привозили нам тут индийскую картину…
– Какую ж индийскую! – с отчаянием перебивает Глеб. – В индийской и артисты индийские…
– Можть, другая какая, – поддается Потапыч. – Только, прикидываю, видал.
Люде весело – улыбается.
В проеме распахнутого окна застыли чернильные сумерки позднего вечера; внизу тихо плещет вода, и в комнату с берега вползают шорохи; в деревне, которая засветилась огнями, слышна гармонь, и голоса – такие же неясные, как шорохи. Люда накрыла своей ладошкой руку закаменевшего Глеба, и в ее заблестевших глазах перевернутые зайчики от электрического света.
– Чудеса, Хлебушек!
«Три семерки» сделали свое дело: бритые, дряблые щеки Потапыча закраснелись, и весь он полон редкой решимости и значительности; гремит Потапыч:
– А я говорю, не может сгинуть на земле древний самохинский род! Не сгинет! Дом поставим. Глеба оженим.
– Помолчи! – Глеб готов провалиться. «Теперь понес, не остановишь…»
А Люда хохочет, в ладоши хлопает:
– Правильно!
Она подходит к окну, просит у Глеба сигарету.
– Эт вы, Люда, зря, – вежливо критикует Потапыч. – Такая культурная, зачем вам курить?
– Привычка. – Она рассеянно смотрит в густые сумерки, смотрит долго. – У вас что ж, всегда так… спокойно?
– Спокойно, – подтверждает Потапыч. – Намедни лесник утоп. Сам в возрасте, жена молодая…
– Пойдем, Хлебушек, у воды посидим.
– И то, – Потапыч поддакивает, – воздух снаружи чище, вольней.
– Ты ее хорошо знаешь?! – радуется Люда.
Глеб молчит; он шарит рукой по влажной траве, нащупывает камешки, твердые комочки земли, кидает их в черную реку. Всплеск, бульканье, всплеск…
Когда Люда сказала ему, что приехала по специальному заданию – сделать очерк о том, в какой обстановке родилось письмо Н е з н а к о м о й д е в у ш к и, позавчера напечатанное в газете, – Глеб и растерялся, и вместе с растерянностью пришло смущение; подумалось: не заговори Люда о газете, он, наверно, и не вспомнил бы сейчас про Татьянку… Люда заслонила?
И оттого, что с приездом Люды он забыл про Татьянку, особенно когда та, может быть, вообще никому не нужна, когда ей тягостно и надо ей искать место в жизни, – вот от этого Глеб сам себе видится ничтожным, подлым человеком. Спасается лишь надеждой, разжигает эту надежду, не давая ей затухнуть: а вдруг внезапное появление Люды внесет изменения, даст то самое, что сейчас нужно и ему и Татьянке? А вдруг!
А что, собственно, ему нужно?
Из ночной спокойной мглы проступают вопрошающие глаза Татьянки. Она торопливо говорит:
«Послушай, я школу закончила, работать или учиться буду, но неужели они правы?»
Она наступает на него, толкает ладонями в грудь:
«А сам ты так живешь, как тебе хочется? Как положено?.. Что ж ты тогда не кричишь, не борешься, щук ловишь, билеты продаешь… что ж не борешься?»
«С кем? Погоди, отвечу…»
«С кем?! Ну с ними…»
«А кто они?»
«Я ждала: десятилетку окончу – все по-иному будет. Как праздника ждала. Это все не настоящее, что рядом, возле, а настоящее впереди. Ждет меня! Я терпела… Отца боюсь, слов его боюсь. Каждый день он: «Смотри, не прогадай…» А что я могу прогадать? Почитай, какое письмо в Москву, в редакцию газеты написала… Ответят, а, Глеб? Разве лишь обман в жизни?.. Ты много ездил. Везде разве то же самое?..»
– Что, Хлебушек, скис?
– Замечтался, – оправдывается он, с сожалением отпускает от себя вопрошающие глаза Татьянки.
НАДО ЖДАТЬ
Утром мужики, собравшись на дебаркадере к леспромхозовской барже, сыскали себе забаву.
Навалившись на перила, они смотрели вслед уходившим к лесу Глебу и Люде.
Она, счастливая, что рано встала, легонькая, быстрая, то и дело бросалась в сторону, приседала – фиолетовый колокольчик сорвать, щавельный лист попробовать, радужную бабочку с капроновыми крылышками ладонью накрыть: и с дебаркадера, поскольку Глеб был свой, знаемый, звучные камешки летели не в него, а в нее.
– Не артистка? Чем же она представляет?
– Ногами, Петя. И так, и враскоряк, а можа и лежа.
– Гы-гы… Есть Глебу интерес!
– Прыгает, чисто белка.
– А против твоей Таньки жидка, а, Фрол?
– Жидка не жидка, а в пазухе тож два грудка. Точно, Фрол?
Фрол Горелов курил и сплевывал за борт.
Когда баржа подрулила к дебаркадеру и мужики погрузились на нее, Глеб и Люда шли далеко берегом реки. По краям река была темной, а посредине, где угадывалось ее основное русло, она серебрилась; эта серебряная полоса бежала до плеса, от неощутимого ветерка серебро рябовато подергивалось – полоса, казалось, сплошь состоит из поблескивающей рыбьей чешуи.
– Ты, Хлебушек, приятный весь, мягкий, тебя так и хочется погладить. Давай купаться!
Она стаскивала с себя клетчатую, похожую на мужскую, рубашку, снимала, прыгая на одной ноге, брюки; Глеб видел, какое у нее до жалости худое тело под голубым купальником, какие слабые от плеч руки, – была она сейчас, раздетая, как избегавшийся за лето мальчик, стройный, правда, и гибкий. Он ринулся в воду стремительно, не дожидаясь ее, – стеснялся, что на нем не подогнанные, ловко обтягивающие плавки, а просторные, длинные трусы, купленные в сельмаге.
Они разбили на кусочки, разбрызгали серебряную полоску; затем лежали на сухой траве, отгоняли от себя коричневых муравьев, и Глеб признался:
– После детдома, знаешь, как давно… Ты рядом вот, а я, знаешь, ну… не привыкну никак.
– Давно, – повторила она. Перевернулась на спину, прищурила глаза; короткая морщинка – заметил Глеб – приткнулась к уголку ее губ, и в этой четко обозначившейся морщинке было что-то досадливое, что-то такое – по-старушечьи озабоченное. – Давно…
Она по-своему поняла, отчего мучается Глеб, постаралась ответить:
– Года три назад познакомили меня с одним… Молодой, известный. На границей его знают. Поехала к нему… Верующие так в церковь едут: прямо таяла вся в ожидании встречи! Вбежала в квартиру, а он – в потрепанных брюках, носки драные, щетиной зарос – черный хлеб на сковородке жарит. Да на подсолнечном масле! Водка тут же… Фу! Церковь!
– Нос облезнет, – с облегчением сказал Глеб; потянулся рукой – сорвал лист подорожника. – Прикрой.
– А оказалось, между прочим, прохвост изрядный.
Люда усмехнулась, и эта беглая презрительная усмешка сгладила ненужную морщинку у губ.
На быстрине, выбросив фонтанчик пара, простуженно просипел буксир. Он тащил плоты из бревен; на последнем плоту курился дымок – уху варили. Обходя буксир, бежал чистенький, фасонистый катер. «Рейсовый, семнадцатый, – определил Глеб. – Потапыч встретит…» Люда спросила:
– Мы на лодке когда-нибудь покатаемся?
– Сегодня хочешь?
– А что это – жара, а тебя мурашками обсыпало? Хлебушек?!
Они одевались, и Глеб объяснил, отчего у него действительно мурашки по телу скачут:
– С детства, понимаешь…
– Понимаю, помню.
– Нет, понимаешь, боялся, не согреюсь никогда. Не везло на тепло!.. Потом целина – зимой бураны, да при сорока градусах, и мы, как суслики, по норам… Служить призвали – судьба! – в караульную роту попал. Под полярным сиянием вместо сторожа…
– Отогрелся? Дай притронусь… Ай, плохо, Хлебушек, злобой накаляешься…
– А-а, к черту!
Вырвалось само собой – где-то глубоко в сознании вспыхнули, тут же загасая, обрывки недавнего спора с Феклушкиным, и сам Спартак на миг, заслоняя все, обрисовался – самоуверенный, снисходительно-обвиняющий… Люда через плечо покосилась – с любопытством, но не спросила ничего.
Не прибрежные растрепанные кусты, а настоящий лес уже был перед ними; наклонно, ракетами нацелились в небо гладкие стволы высоких сосен, невнятный спокойный гул плыл поверху, под ногами пружинил губчатый мох, и редкие, проскользнувшие сюда лучи солнца дробились о живые капельки невысохшей росы.
Лес – любовь Глеба; с подсознательным суеверием он убежден в его целительной силе и еще верит, не задумываясь, что при встречах с лесом радость их взаимна, она щедра и бескорыстна. Вот и сейчас лес, дивя и восхищая Люду, то расстилает перед ними в ромашковом кипенье вольную поляну, то дарит семейку хитрых рыжиков; он дает поглядеть за работой сосредоточенного дятла, открывает – когда им так хотелось пить! – скромный с виду родничок с вкусной, неземной водой…
Люда позвала:
– Ле-е-ес!
Голос ее проскользнул меж ближних сосен, унесся далеко и осел где-то в невидимой чаще. И оттуда по-стариковски добродушно ответило эхо: «Зде-е-есь…»
Серый, с подпалинами заяц, которого вспугнули, метнулся через влажное болотце в осинник, и они тоже по ржавым, вздыхающим кочкам перебрались туда. Здесь, на краю сыпучего песчаного пригорка, Глеб показал Люде нору, искусно спрятанную в кустах от постороннего взгляда. В этой норе ужились, не ссорясь меж собой, барсук и лиса, правда, друг к другу близко не подходят, но и коммунальных дрязг в своем общежитии не заводят.
– Хлебушек, ты барсук, а я лиса… И в этой норе мы не хуже бы зажили. В гости бы похаживали, верно? И кто знает!
Люда рассмеялась и побежала вперед. Он почему-то решил, что она обязательно крикнет: «Догоняй!» – но она не крикнула. А если бы это была Татьянка, он бы настиг ее сейчас, схватил, поднял на руки и так бы понес. Он бы зарывался в нее лицом, она отбивалась бы, но даже в лесу, где никого нет, не смела бы кричать…
А ведь так и было.
Татьянка, отбившись тогда от него, бросилась за дерево и, поправляя волосы, платье, по своей юной деревенской наивности и неиспорченности, сказала, улыбаясь:
– Жеребец стоялый!
…Люда, отмахиваясь от веток, бежала; Глеб растерянно затрусил следом.
Они выбрались на прежнее место – к реке, где и до этого купались; опять распугали застывшую речную тишь всплесками и разговором и, вконец усталые, проголодавшиеся, легли на берегу отдыхать.
Он снова видит худобу Люды, вздувшуюся жилку у ложбинки, откуда слабо раздваивается ее маленькая грудь; она перехватывает его взгляд…
– Ты пока никому не говори, Глеб, что я из редакции. Надо мне присмотреться вначале. Я напишу большой очерк. Может, цикл очерков… Знакомь меня с людьми. Ладно? Узнать бы, куда убежала эта девочка! Удастся, а?
– Удастся.
– Отца ее покажи. До разговора с ним издали хочу посмотреть…
Глеб думает, что она может быть очень требовательной, настойчивой, упрямой, наверно, – прошли годы, и взяли они с собой ту, детдомовскую Люду; будто подменили, дали другую, не во всем понятную, которая пишет для газеты… Ну, а если она сделает этот свой очерк, ч т о б у д е т?
Он так и спрашивает, мысленно видя Татьянку, себя, Фрола Горелова, всех, о ком журналистка Людмила Уралова будет, возможно, рассказывать в очерке; он даже видит газетную страницу, только не может представить, как это спокойно лягут на нее знакомые ему имена…
– Чудак-человек, – отвечает Люда; подтягивает острые колени к подбородку и сидит, чуть раскачиваясь, спружиненным комочком. – Моя задача, повторяю, показать обстановку, которая толкнула девушку на побег из родного дома… Говоря громко, вынести на суд читателей какие-то явления, мешающие обществу, Не характерные для нас в целом…
– А ч т о́ б у д е т после этого?
– Хлебушек, я не прокурор. Если хочешь, я исследователь фактов.
– Каких?
– Господи, снова-заново… Помнишь, с нами в группе был вороватый мальчишка, такой раскосый… Васька Жмых. Он еще на спор, помнишь, лягушонка проглотил… А дружился с ним Толик из Рязани… Толика я в Москве встречала, он капитан милиции. Про Ваську рассказал – в духовной семинарии, на попа тот учится…
– Жмых?
– Вот и цель: исследовать, какими же путями они шли каждый к своему… Или ты…
– Я? Подожди. – Глеб хочет улыбнуться, хочет говорить легко и свободно (сколько ждал он такого разговора!), голос только перехватило. – Подожди…
Он все же справился с собой; это потребность – рассказать сейчас, о чем размышлял все последнее время, что пришло к нему именно здесь, на дебаркадере… Он вспоминает поначалу целину: жирная земля разворочена лемехами, ледок на осеннем озере – чтобы умыться, надо пробить его каблуком… Нет, целина – это так, для примера; сказать-то он должен о другом… И он говорит, с запинкой, и чем дальше – тем больше теряя веру в убедительность своих слов. Все его путаное объяснение свелось в общем-то к одному: он, Глеб, после детдома научился пахать землю, стоять с карабином на посту, он может быть дежурным по дебаркадеру, – все в своей жизни делает исполнительно, по-хорошему, а в это же время где-то рядом есть киноактеры и космонавты, геологи и капитаны дальнего плавания, есть кибернетика и олимпийская сборная команда, есть такие, как Рихард Зорге, и такие, ну как… Федя Конь.
– Ясно, – перебила Люда, – стремление к непознанному, понятная зависть… А данные? Есть у тебя данные, чтобы стать космонавтом, кибернетиком, знаменитым футболистом?
– Я совсем не об этом, не о себе, о жизни, – скучнея, отозвался Глеб.
Вдоль берега, прямо на них, шли четверо – чумазые, в замасленной одежде; шли колхозные трактористы, и лишь одного, что нес гармонь, Глеб не знал, – с центральной усадьбы, видно. Другие же – легкий на помине Федя Конь, бригадир Свиридов, недавно награжденный орденом «Знак Почета» (его портрет был в районной газете), и еще Гришка с Мокрого Хутора.
«Жди, ляпнут чего-нибудь, обязательно…»
Они глядели на Глеба и Люду, пересмеивались, и Федя, толкнув гармониста локтем, дурашливо пропел:
Меня милай целовал…
Гармонь рявкнула.
…Целовал с засосами.
Его губы алые
Пахли абрикосами.
Гришка хуторской как бы между прочим, но так, чтобы и Глеб с Людой его услышали, с громким вздохом заметил:
– За одну б сейчас обнимку корову отдал!
Глеб сжал кулаки: и драться глупо, и черт знает что они еще выкинут. Люда шепнула:
– Пусть. Даже интересно.
Федя Конь снова заорал:
Ах, милай мой,
Я любила тебя – ой!
Ты ушел, а я упала
И задрыгала ногой.
– Интересно, – повторила Люда.
Они приблизились и, не доходя шагов двух-трех, сели напротив, так что перед Глебом и Людой оказались четыре пары пропыленных и стоптанных сапог. Свиридов закурил, и остальные закурили.
– Загораем? – поинтересовался Свиридов.
– Работаем? – в тон ему спросил Глеб.
– Пшеница сильна. – Свиридов сплюнул и попал на собственное голенище, отчего смутился, поспешно смахнул плевок ладонью. – До февраля, почитай, бесснежные поля были, а пшеница вот уродилась… Ты в бригаду к нам, Глеб, не пойдешь? Есть вакансия. А после не будет. Пока, говорю, есть. А, Глеб?
– И повариха на стан нужна. – Федя пялил глаза на Люду; хохотнул: – Фрикадельками нас кормить!
Посидели они, докурили, глянули на красное солнце, падающее в лес, и зашагали своим путем, глохли их голоса – спорили о каком-то магнето.
Свиридов уже вторично забросил удочку на Глеба – переходи, мол, в тракторную бригаду. И Глебу приятно это: зовут – считают, значит, надежным работником, своим парнем. И если прикинуть, самым запоминающимся и светлым из всего, что он когда-нибудь делал, осталось такое: покачивается перед трактором прогретая степь, свежее, высвобожденное из-под спуда дыхание исходит от пашни, а на душе простор, в мыслях сознание собственной важности и нужности – как-никак от тебя зависит и эта степь, и люди, конечно, зависят (какому урожаю быть)… Все же в эти минуты, растревоженный в глубине своей, Глеб рассудил: даже уйдет в бригаду – беспокойство останется. Он начнет работать, женится, заведет корову, ему станут хорошо платить – и деньгами, и той же пшеницей, а другой мир, смущающий его, где-то возле, за лесом, за рекой, – будет волнующе посвечивать глазка́ми неоновых лампочек, будут взлетать ракеты к Луне и, скажем, к Марсу; этот непонятный влекущий мир придет к нему фотоснимками дальних стран с цветных вкладок журнала «Вокруг света», этот мир однажды рванется к нему с экрана, собранный в одно – в зовущую улыбку киноактрисы… Как помирить их для самого себя – тот мир и этот, в котором он сейчас?
День мерк, фиолетово тяжелела вода в реке, камыши заволакивало синим туманцем, и над головой в кровожадное облако сбивались комары. Люда, стряхнув с себя песок, натягивала рубашку; Глеб тоже поднялся.
– Сто лет назад они были точно такими…
– О чем ты, Глеб?
– Да они – река, комары, лес.
– Разве плохо?
– Глушь.
– А что, разве плохо? – Она обвела взглядом все, что вокруг мягко, неслышно и как бы охотно гасло в предвечерних сумерках, пожала узенькими плечами. – Есть, конечно… несоответствие.
Глебу понравилось: н е с о о т в е т с т в и е… Ему захотелось пожаловаться Люде на спокойную жизнь, которую здесь ничто не взбодрит и не перевернет, и, припоминая, он спросил:
– Ты знаешь, что такое циклотрон?
– А, – отмахнулась она, – к дьяволу этот циклотрон. Мы, Хлебушек, со встречи ни разу не поцеловались. Ай-ай, краснеешь. А я нет… Просто, Хлебушек, давно я не девочка. Дай поцелую.
И это утро на дебаркадере по-всегдашнему обычно. Проснувшееся солнце, повторившись на куполе реставрированного собора, детским воздушным шаром взмыло ввысь, Глеб сделал уборку на палубе, встретил первый катер, проводил баржу с леспромхозовскими рабочими.
По-прежнему, как вчера, позавчера и еще до этого, к воде важно спускались с бугра медлительные гуси; хромой почтальон с костылем укладывал мешки с почтой на грузовой мотороллер; облезлые, перегоревшие на солнце мальчишки, оседлав перила дебаркадера, ловили красноглазок.
На палубе, присев на перевернутые ящики, разговаривали Потапыч и Захар Купцов. До Глеба не сразу дошло – о чем они. А они, оказывается, о войне. Какие случаи случались.
– Он из шестиствольных минометов лупит, и наши поддают, – мирно рассказывал Потапыч, оглаживая свой пухлый живот; в привычку у него вошло проверять на ощупь – не нарастил ли нового жиру. – Он лупит, наши поддают… А я, вижу, вроде на нейтральную полосу заскочил. И донесение срочное, а куда сунуться под такой стрельбой – извиняй, не знаю. А тут ка-а-ак рванет рядом, я, понимаешь, брык, харю в землю воткнул и только невзначай увидел – воронка поблизости. Я р-раз, и прыжком туда!..
– Так уж одним прыжком? Ты?!
– Он тады с сухого пайка-то, Глеб, проворней был, – ухмыляясь, вставил Захар.
– Ладно трепаться, слушайте… А ты бы, Глеб, в буфет сгонял, пивца принес. После? Пускай после… Значит, в воронку я. Глубокая, водица ржавая на дне и – батюшки! – итальянец ихний, по форме вижу, там сидит…
– В воронке этой?
– А ты думал! Заблеванный весь с перепугу и вроде старый для войны-то – лет пятидесяти. Солдат. Я за автомат, а он свою винтовку отпихнул от себя и кричит… Очень понятным языком кричал: «Русский, не стреляй!..» И про детей что-то – дескать, ждут…
– А по уставу что? – видимо догадавшись, чем закончилась эта история, спросил Захар.
– Сильно угнетенным он мне показался, да и сам-то я в испуге был, – признался Потапыч.
– То-то, – непонятно чему обрадовался Захар. И осуждающе добавил: – А застрелить ты его обязан был. По присяге, понял! Иль в плен взять. А лучше застрелить. А ты нарушил.
Потапыч развел руками:
– Угнетенный, говорю, какой-то… Когда уползал он – штаны сзади драные, мокрые, хотел, не скрою, отчего-то гранатой в него кинуть. Не кинул.
Глеб, взяв у Потапыча ключи, пошел в буфет за пивом, а Захар, повысив голос, настойчиво требовал:
– Нет, давай тут обсудим!
И после, когда и Глебу, и самому Потапычу надоело слушать Захара, тот, желая, наверно, заполучить еще бутылку пива, все доказывал, что солдат есть солдат; похвалялся немецким осколком, засевшим у него в позвоночнике, от которого гнуться не может, не спит, из-за которого и ночным сторожем стал, колхозный ток караулит.
Глеб ждет. Чего – он толком не знает. Его ожидание тревожно, безотчетно.
Он ждет, что объявится Татьянка; видятся ее доверчивые вопрошающие глаза, от которых ему не по себе. Ему хочется снова поехать в Славышино – к тетке Лександре, тайно приютившей Татьянку, – и… не хочется, чтобы пока знала об этом Люда.
Он заставляет себя верить, что случай с Татьянкой, появление Люды, предчувствие им пока скрытых, но назревающих событий – все это обязательно внесет изменения в его непрочную, ограниченную дебаркадером жизнь. А настоящая жизнь, если прислушаться, отзывается из-за лесов, прикрывающих округу, дальним эхом… И Потапыча жалко. Прослышал тот, что на Мокром Хуторе дешево продается сруб – для пятистенки. Сходить надо, посмотреть. Ворчал эти дни: «Круть-верть ты, Глебка. Мне, что ль, требуется?»
А тут еще совсем некстати получилась история, от которой Потапыч вконец помрачнел, стал неохотливым к разговору, и вообще всем своим нахмуренным и как бы равнодушным лицом говорил: не нужен тебе дом – пусть, и я стараться не буду, можешь и дальше меня, старика, не уважать, в расчет не брать; не для себя я все делаю, видишь от меня только добро и ласку, а выходит, моим же салом мне по сусалам… Пусть, вытерплю… Ты смотришь на сторону, мешаю, само собой, я тебе, а с нынешнего дня мешать тебе не хочу, надоедать не буду… Скорее всего ты и прав в этом случае, но при людях-то зачем меня позорить?..
А произошла история из-за чернобородого капитана с «Новгорода».
«Сволочь, – честил про себя чернобородого Глеб, – жулик мелкий, сошел бы ты у меня на берег…»
У франтоватого, пижонистого капитана с «Новгорода» это в обычае: только его теплоход к дебаркадеру – он предлагает что-нибудь в обмен на пиво. И на этот раз: даешь пол-литра – я даю банку олифы и банку сурика. Попутался Потапыч, клюнул на приманку (у будущего дома ограду или, к примеру, крышу покрасить). И Глеба позвал присутствовать при сделке.
– Верни обратно, – сказал Глеб, кивая на банки, что довольный Потапыч прижимал к животу. – Не надо нам ворованного!
– Купленный товар магазин назад не принимает! – ухмыляясь, крикнул из рубки чернобородый. – Не слушай его, дед, и не грусти о нас!
Матрос у трапа, сдернув с кнехта швартовый конец, засмеялся. Теплоход отходил, брызгаясь водой. Капитан помахал рукой, снова что-то крикнул – неразборчивое из-за шума двигателя, – и матрос заведенно раскрыл рот в смехе. Потапыч улыбался, и была в его глазах виноватость – вроде за него, Глеба, виноватость, что он сгоряча обходительного, порядочного человека обидел.
– Отдай! – грубо, конечно, – если сейчас рассудить, – выхватил он эти проклятые банки у Потапыча. Та, которую швырнул первой, не долетела до теплохода – плюхнулась в реку, зато вторая угодила на палубу, расплеснулась оранжевыми фонтанчиками.
Чернобородый насмешливо грозил из рубки кулаком, матрос тащил на палубу швабру – убирать, смотрел на эту сцену единственный пассажир, озадаченно поблескивая стеклышками очков, а Потапыч расслабленно пошел к себе в комнату.
– Ладно, ни к чему, – сказал он Глебу, когда тот, нагнав, попытался с ним заговорить, – к старости человек глупеет… Спать я хочу, гуляй иди!
Люда предложила:
– Пойдем в Русскую. Издали насмотрелась!
Утомительно идти по деревне. Тридцать изб среди культяпых, обрубленных осокорей, и от каждой избы провожают тебя взглядами. Старики, старухи, ребятня… Остальной работоспособный народ в поле или леспромхозе. Нет, оказывается, не все… Вон здоровенная женщина ведет щуплого мужичонку в располосованной рубахе. Он пьян, корячит ноги, упирается, и женщина несильно бьет его кулаком по спине, по шее. Через овраг, опершись подбородком о клюку, наблюдает эту картину скрюченная, вся в черном бабка; с мстительным восторгом кричит:
– Так его, так его!
У женщины багровеет лицо, она яростно толкает поперед себя пьяного мужа, но тот глух к затрещинам, невмоготу ему передвигать ноги. Он спасительно хватается за раскрашенный фанерный щит, поставленный возле дороги, повисает на нем. На щите красным по зеленому написано:
СОРНЯКИ НА ПОЛЕ – ВРАГИ УРОЖАЯ. БОРИСЬ С НИМИ, ДОХОД УМНОЖАЯ!
Глебу неловко, он боится, что Люда увидит деревню совсем не такой, какая она на самом деле, – ведь живут здесь работящие, очень разные люди; он показывает:
– Телевизоры.
Над крайней избой Фрола Горелова и чуть дальше, над другой, где хозяином бригадир тракторной бригады Свиридов, нелепыми крестами воздеты к небу телевизионные антенны.
Глеб, как бы извиняясь, говорит Люде:
– Выпил человек… А так он неплохой. Отец у него интересный мужик. Восемьдесят лет, а до прошлой осени в кузнице молотом махал. Представляешь, сам себе велосипед сделал. Ни одной заводской детали в нем, если цепь только да подшипники. И гоняет на этом велосипеде. Старик, представляешь?..
– Скажи-ка! – непонятно улыбается Люда.
Они сворачивают по слабо протоптанной тропинке к Тимошиной избе; Глеб на ходу поясняет, что Тимоша, по прозванию Моряк, – его добрый приятель, он родной дядя Татьяны Гореловой, а значит, брат Фрола Горелова, с которым, надо знать, Тимоша в давней вражде… С ним, Тимошей, можно не секретничать, можно раскрыть, что Люда из редакции и почему приехала в Русскую. Смотришь, подскажет Тимоша…
Хозяин встретил их с восторгом; поднял над головой сапог, на который накладывал латку, помахал им, расплываясь в улыбке; смущенная Люда «здравствуйте» не успела сказать, как он катанул свою тележку к ее ногам, тронул пальцем босоножку:
– Отскочит ремешок. Снимай, прилажу!
Глебу приказал:
– В сенях квас свежий. На мяте. Волоки сюда.
По-прежнему в простенке висела картина, цветными карандашами нарисованная, – залпы боевого корабля; варом и размоченной кожей пахло; сам Тимоша был в истончавшей, местами протертой матросской тельняшке, с любопытством поглядывал на Люду, выжидательно – на Глеба, и вообще суетился, как может суетиться безногий человек на тележке: размахивал руками, перекатывался с места на место, еще раз заставил Глеба сходить в сенцы – за вяленой рыбой.
Ели рыбу, запивали пахучим холодным квасом, – Глеб и Люда сидели на низеньких скамеечках, а Тимоша напротив них был, – и Глеб про себя радовался, что Люда сразу разговорилась с Тимошей, будто не в новинку ей все: и жилье это, и особенный хозяин жилья.
– Наша деревня что́ – осколок! – говорил Тимоша, разгрызая крепкими зубами косточку. – Верно, Глеб? – И пояснял: – До войны полторы сотни, почитай, дворов было, а устояло? Из молодых Федька тракторист, еще Глеб, он при дебаркадере, еще Цыганочка моя, да племяшка Таня, что бунт подняла, – вот и вся боевая часть!.. Партийные? – отвечал он Люде. – Есть такие. Свиридов, Кузькин, Борис Лаврентьевич Манько… Есть. Так у них же план! Колхозного хозяйства план… Они за него в ответе, заел он их, и свету не видят. Труженики.
И смеялся – так, словно всех следом за собой приглашал посмеяться, хотя слова были серьезные.
– Считаешь, что Фрол для дочери старался, дом обогащая? Он для себя старается, потому и дочь домашнюю желал иметь… Не по времени! Вот ему, на-ко выкуси!..
Глеб даже вперед подался, краска лицо залила: Тимоша чуть было не проиллюстрировал свою последнюю фразу красноречивым жестом – вовремя, слава богу, руку остановил; сам растерялся, угрюмо добавил:
– Фрол? Со спокойствием желает жить.
– А как надо? – спросил Глеб.
Тимоша задумался, покачал головой:
– Ты, Глеб, друг мой, не обижайся, ладно?.. Гляжу я, вы, нынешняя молодежь, замедленного действия. Не понял? Что мы в двадцать лет на всю катушку знали – вы это к тридцати только-только постигаете…
– Ого!
– …По-моему, чтоб жизнь понять и верить в нее, хоть раз ужаснуться надо. Перед самим собой ужаснуться.
– Странные у вас… суждения, – тихо заметила Люда. – Можно, я к вам еще как-нибудь приду?
– Под фашистский поезд с гранатами ложился, – тусклый голос у Тимоши, губы серые, стиснуты; чуть разомкнул их: – И еще было…
Со злым жужжанием бился о стекло залетевший в избу шмель; они молчали; на реке простонал пароход – «Прогресс», конечно, – и Глеб поднялся:
– Пойдем мы, Тимоша. Цыганочка где ж?
– Цыганочка, – виновато улыбаясь, ласково повторил Тимоша. – Цыганочка, доченька моя, в трудовом комсомольском лагере. Для школьников такие лагеря, на лето. Пишет: лучше быть не может, папка!
Они уходили, Тимошин голос догонял их: «Жду-у!» Глеб выкладывал Люде все, что знал о Тимоше. А знал – о нем былом – не так уж много.
Со своим братом, Фролом, поссорился он после войны. Когда Фрол из армии вернулся в Русскую, Тимоша, младший по возрасту, жил у него в доме; еще в сорок третьем отвоевался… Болтают всяко: старшему, мол, не понравилось, что холостой Тимоша по-хозяйски обосновался на семейной перине. Кто знает?.. Но Глеб видит другое… Разные – вот и не уживаются. После ссоры Тимоша исчез из деревни. Местные мужики будто бы видели его с цыганским табором не то под Рязанью, не то под Тамбовом. Цыгане возили Тимошу в повозке, и он – в бескозырке, морской форменке с орденами – играл на гармошке… Так это или нет, но сюда вскоре Тимоша вернулся с маленькой цыганской девочкой. Любит ее, называет дочерью, и вообще он – человек хороший, отзывчивый на чужое горе и счастье.
– Растревожили мы его сегодня, – заключил Глеб.
На этот раз в Славышино он ехал с попутным бензовозом. В кабине, несмотря на опущенные стекла и скорость, держалась угарная духота; зажги тут спичку, думал Глеб, сизым облачком наружу вылетишь… Шофер – надменный тонкогубый парнишка, жевавший затухшую папиросу, – покосился на фуражку Глеба, спросил:
– Служил на флоте?
– Нет. («И что таскаю ее?! Глупо».)
– А я – через месяц призыв – в морскую пехоту пойду. Видел в киножурнале: ребята – во!
– Армейская дисциплина везде одна.
– Ты ж не был на флоте! А я знаю… Морская пехота – стремительный десант хоть куда!







