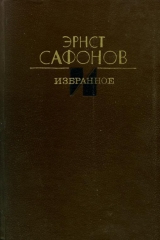
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
Тимергали, видя оживление на людских лицах, припомнил свое – как сам он кормил дошедший до крайности народ барсучьим мясом, и ночной позор пуще ожег душу его неутешным стыдом; он даже подумал, что вот сейчас возьмет лежавший на земле окровавленный нож Цветкова, положит пальцы правой руки на пенек и отсечет их острым лезвием…
Но помощник продкомиссара подошел к нему, сидевшему поодаль ото всех, тоже присел, достал из плоской кожаной сумки бумагу и карандаш, написал записку и отдал ему. Вдвоем с девушкой-сиротой Бибинур пойдите в Байтиряк, сказал он Тимергали, до Байтиряка отсюда верст тридцать – тридцать пять; там вручите записку байтирякскому предисполкома, который был у него, Цветкова, когда-то начальником артиллерии в бригаде, и найдет он вам занятие… Так медленно, сдерживая хрипы в горле, говорил Цветков, и Тимергали вдруг испугался, что навсегда потеряет этого плешивого, с вислыми усами и добрым сердцем человека, кроме которого никого он больше на земле не знает, – схватил его за руку:
– Не гони меня, бабай[43]43
Бабай – дедушка; почтительное обращение к человеку, который по возрасту старше твоего отца.
[Закрыть]. Я рабом твоим буду, валлахи[44]44
Валлахи – клянусь аллахом.
[Закрыть], не гони!
– Дурак ты, энэкэш[45]45
Энэкэш – братишка.
[Закрыть], – выдернул руку Цветков. – Рабство – пережиток темноты, а я хочу, чтоб ты счастье коммунистической эры строил… Ступай! – И, видя страдание в глазах Тимергали, подмигнул ему: – Встретимся! Я разыщу тебя. – Хмыкнул, головой покрутил: – И какой я тебе бабай, дурачок? Я еще, погоди, женюсь, у меня жены нет. А ты ловок – в бабаи меня!
Из бурлившего котла Цветков выудил тяжелый кусок конины, сунул его в ту самую – из-под хлеба – торбу, повесил мешок ему на плечо, подвел за руку Бибинур, подтолкнул их ладонями в спины: идите! Доктор Боголюбов кивнул… А больше никто их не замечал: люди, раздраженные густым запахом близкой мясной пищи, вожделенно смотрели на костер в ожидании пира…
И они пошли: он впереди, Бибинур, кутавшаяся, как прежде, в докторский халат, чуть поотстав от него, но вскоре, лишь скрылось село, побрели рядом.
Несколько русских, мусульманских и смешанных деревень встретилось им на пути – и везде кого-то хоронили, и целые улицы попадались, зловещая тягостная тишина которых гнала скорее прочь от них[46]46
«Население Башкирии значительно уменьшилось за время голода 1921—1922 гг.; особенно сильно отразился голод в горном районе, где татаро-башкирское население уменьшилось почти на одну треть. Всего же по Башкирии голод похитил свыше 600 тыс. человеческих жизней». – Из кн.: Степанов П. Уральская область с приложением очерка «Башкирская АССР». М., изд-во «Плановое хозяйство» (Госплан СССР), 1928.
[Закрыть].
В Байтиряке однорукий председатель исполкома, повертев записку Цветкова в пальцах, вздохнул, долго смотрел в пыльное окно и потом послал Тимергали вычищать многолетние пласты навоза из исполкомовской конюшни. Стал Тимергали при нем конюхом, а по совместительству курьером и истопником в зимнее время. Бибинур была пристроена санитаркой в тифозный барак.
Спустя два года Тимергали, впервые очутившись в Уфе, взял в руки пышный круглый хлеб из белой пшеничной муки и отправился разыскивать Цветкова и доктора Боголюбова.
Доктора он нашел в горбольнице. Тот – в белом халате, обросший черной клочковатой бородой – спускался по лестнице в вестибюль. Тимергали битый час объяснял ему, кто он, откуда их знакомство, и отдал хлеб.
Боголюбов рассеянно положил каравай на мраморный подоконник; наморщив лоб, будто мучительно вспоминая что-то, сказал:
– А Цветков-то умер… к-м… чахотка… Это быстро, брат, умереть-то… – И ушел, забыв хлеб на подоконнике, не поняв, зачем этот деревенский парень принес его ему…
А Тимергали, когда за ним захлопнулась массивная, на пружинах больничная дверь, окружил шум городской улицы, заплакал в последний раз в своей жизни. Цветков был ему так же дорог, как брат Ишбулды, как маленькая сестра Лябиба.
Он вернулся в Байтиряк, где имел обжитой угол на конюшне; часто летними вечерами бегал за шесть километров в деревню Поповку, играл там на балалайке и гармони, хотел жениться на русской девушке, и Бибинур, с которой они иногда виделись, советовала: женись, конечно, а то некому рубаху постирать, весь лошадьми и бездомностью пропах… Пока, до женитьбы Тимергали на русской девушке, она сама брала рубахи на постирушку, приносила ему кое-какую еду, и так в конце концов незаметно получилось, что стала его женой.
СЛЕД В ПОЛЕ
С тридцатых годов до начала пятидесятых в селе Байтиряк был не один большой колхоз «Чулпан», а на его нынешних землях пахали-сеяли, каждый в особинку, три усердных колхозика. В начале сорок пятого Тимергали Мирзагитов, отпущенный с фронта по случаю жестокой язвы желудка, был избран председателем одного из них – имени Парижской коммуны. Жилось скудно, как всюду, и похоронки, словно сухие листья в листопад, кружили в сизой мгле над крышами, выбирая, какая из них еще не мечена; но все же солнце в эту зиму теплее грело: виделся близкий конец войны.
В своей истонченной, обесцвеченной карболкой и жаром госпитальных вошебоек шинели Тимергали мотался, как заведенный, с рассветных сумерек дотемна. Жесткий ледок, крошась, стеклянно звенел под стальными шипами его трофейных, снятых с убитого немца, сапог; вымученные язвенными приступами щеки опали, будто бы отбежали от носа в стороны, обнажив его совсем: нос летел впереди всего тела наподобие корабельного бушприта, над которым обеспокоенно и неумолимо взблескивали два фонаря – глаза… Хотелось новому председателю встретить весну на крепких телегах, с исправной упряжью, оттянутыми в кузне до ножевой остроты плужными лемехами. А вокруг – усталые бабы, шатаемые ветром старики, хлипкая, не знающая ремесла ребятня. И лошади с коровами, которых кормили соломой, разъезжались на снегу копытами, да так и стояли понуро часами, вроде у них не ноги, а шаткие, косо поставленные подпорки: обломится хоть одна – грохнется наземь мешок костей…
В апреле, когда снег остался в оврагах да в тени на закраинах, дороги обсыхали, курясь волглым дымком, Тимергали однажды ночью разбудил посыльный из райисполкома. Колхозу из каких-то там фондов дополнительно выделили триста килограммов элитной пшеницы – и ее нужно получить немедленно. Баржа с зерном уже стоит в Суфияновке, с двух районов поедут к ней подводы.
«Девятнадцать пудов элиты, – спешно обуваясь, думал Тимергали. – Не очень-то разбежишься, но… дай сюда! С этого посева соберем семена для будущего года – и возродим у себя хорошую пшеничку. С малого пойдет, было б начало… И сам поеду, а то ведь там, на реке, ухари. Станут сыпать – да все мимо! А раз положено нам триста килограммов – выложи до зернышка!»
Сонная Бибинур собрала ему узелок с едой, бутылку молока дала еще, чтоб всухомятку не ел, не тревожил тем самым своей желудочной болячки; и спросила, с кем поедет и какой дорогой. Нахлобучивая шапку, он усмехнулся. Ей, Бибинур, чего? Лишь бы он с собой в тарантас счетовода Гульназиру не посадил, а уж если один – чтоб не через Поповку ехал!
Ответил:
– Люди с вечера занаряжены на работу, чего их срывать! А там всего четыре мешка… или не справлюсь?
На конном дворе заложил в тарантас свою выездную председательскую лошадь – молодую кобылу вороной масти по кличке Илдуз[47]47
Илдуз – звездочка.
[Закрыть]. Имя свое получила она за белую отметину на лбу; ее подкармливали овсом – бегала сносно и груз могла везти.
Выезжал – собаки ленивым брехом провожали, нигде огонька не светилось. Но на восточной стороне неба набухала, ширясь, красная размывина – занималось утро.
Вскоре свернул с большака на обычную полевую дорогу – и потянулась она под чавканье колес и копыт пестрой, в перелесках равниной, через редкие деревни, пугая крутыми овражными спусками и подъемами.
А когда, одолев семнадцать километров, прибыл на суфияновскую пристань, тут в очереди пришлось постоять. С ближних мест понаехали, да с другой стороны реки – на пароме… И, может, к лучшему; для лошади роздых, сам средь людей потолкался, по-расспрашивал о житье-бытье, кое-кого знакомых встретил. А потом за полученное семенное зерно расписался, распределив его на шесть мешков: неполные-то удобнее таскать-ворочать! Покормил Илдуз, сам закусил – и в обратный путь тронулся, чтобы, не запаздывая, на вечерний наряд успеть.
Солнце высоко стояло, и кобылу Тимергали не погонял: пусть шажком – так надежней будет… Лишь выбрались за околицу Суфияновки – лег животом на мешки. Поднимал тяжелое – растревожил язву: точно буравчик вгрызался в мякоть нутра, сверлил и жег.
Время от времени сползал с тарантаса, шел позади, стараясь хоть как-то – упрямой ходьбой по тяжелой дороге – заглушить резь в животе, и если она унималась – садился на край повозки, свешивая меж колес сапоги с пудовыми ошметьями грязи на них, а то опять валился на мешки… Илдуз тревожно косилась агатовым, в радужных бликах глазом, словно чувствовала, что хозяину плохо.
В буераках глухо шумела убывающая весенняя вода, в голубом поднебесье самозабвенно выводили свою нескончаемую песню жаворонки. И черная, как деготь, дорога вдали сверкала и переливалась спокойно бегущей без берегов рекой.
«Поверну-ка я на Казы-Ельдяк, а дальше краем леса, там высоко, просохло теперь, спрямлю я километров на пять, поскорей выйдет», – подумал Тимергали и съехал на пробитый тележными колесами след, уводивший влево. Тупая боль малость приутихла; он притулился к мешкам, согревал живот тесно прижатыми к нему руками.
Поверху, твердым травянистым лугом, обогнул сбитые в кучу избы Казы-Ельдяка, миновал скотные, до крыш заросшие навозом дворы, выбрался на песчаную возвышенность, поросшую соснами. Длинный, но неширокий хвойный лесок, весь пронизанный мягким апрельским светом… Здесь уже не хлюпало под тарантасом – скрипело; вроде бы стершимся напильником по железу. Песок, обдутый ветрами…
Потом дорога стала совсем узкой: повстречается кто – не разъехаться. С одной стороны – частокол сосен, с другой – обрывистая, затемненная и холодно дышавшая пропасть длинного, километра на три, оврага. Склон напротив, резко, под косым углом уходивший в глубину, был в ржавых глинистых оползнях, из него мертвыми обрубками торчали узловатые корневища давно исчезнувших деревьев, белели изломы промытого водой известняка. Кое-где, местами, овраг отбегал, как бы давая дороге повольнее вздохнуть, распрямиться, и затем снова прижимался к ней, подтачивая, мокро обгрызая ее.
Тимергали думал про сев, и виделись ему сгорбленные бабьи спины и бабьи лица, красные от натуги, перекошенные, с упрямо сжатыми ртами, жаркими пятнами глаз… Работают, работают, везут, тянут, месят опорками грязь, кричат на него, председателя, клянут тяжелыми мужицкими словами, он терпит, а то и сам закричит, сорвется, да тут же опомнится: «Давайте, давайте, вам больше не на кого, а я – вот… Давайте!..» А они, смотришь, тоже выкричались, сбились табунком на холодном ветру, ждут, чего еще надо-то… А чего надо? Сеять надо, жить надо.
Илдуз шла тихо: притомилась и близкая овражная глубина пугала ее. Тимергали, оберегая внутри себя наступившее вдруг после язвенного приступа затишье, не поторапливал кобылу, не дергал вожжами, давая ей самой идти, как хочет.
Неожиданно лошадь остановилась.
Тимергали, лежавший на локте, поднял голову и увидел двух мужчин. Они шагнули на дорогу из-за сосен. Один низкорослый, но широкий в плечах, молодых лет – не старше тридцати. Какая-то полувоенная – черного сукна, с белыми металлическими пуговицами в два ряда – шинель туго сидела на нем. И все в его облике было как бы тугое: одежда, помидорные щеки, налитое силой тело… Другой же, наоборот, был худ, с желтым, потрепанным старостью и, наверно, хворью лицом, даже на расстоянии слышалось, как у него при дыхании сыро и тяжко свистело в груди. Зеленый армейский ватник на нем топорщился, выползая из-под брезентового солдатского ремня. На бедре болталась тощая полевая сумка, из голенища сапога торчала короткая измерительная рейка с сантиметровыми насечками на ней.
«Лесники, может? – обеспокоился Тимергали. – Или эти… шпана дорожная, а?! Однако тот вон, старый весь, глаза тихие, при должностном инструменте… лесники, кто ж еще!»
Тот, что помоложе, подошел вплотную, а пожилой вроде б загораживал дорогу, а вроде б и нет – остановился перед мордой лошади, ждал.
– Здравствуй, абый, – улыбаясь, проговорил молодой. – Слышим, едет кто-то… А у нас табачок кончился. Не заживемся закурить? Угости, абый.
Шмыгал насморочно вздернутым носом, и улыбка просительная – со смущением – была.
«Мариец, – отметил про себя Тимергали, – а старшой – из татар, видать…»
– Закурить можно, – отозвался он, полез в правый карман своих трепаных «комсоставских» галифе.
– Зерно, абый, везешь, – как бы между прочим обронил молодой, кивая на мешки.
Тимергали промолчал, выдирая запутавшийся кисет с махоркой из узкого кармана.
И успел отчетливо уловить момент, как из черного шинельного рукава в пальцы молодого ловко выскользнул круглый железный обрубок, наподобие полуметрового обрезка лома, – и это железо со страшной силой обрушилось на его голову.
Белый огонь полыхнул в нем, разрывая тело на части.
«Убили», – пронеслось в сознании, и в то же время он как бы даже удивился, что его, Тимергали, можно убить…
От второго удара боли не было – лишь белое пламя взметнулось выше и где-то на высоте погасло.
А дальше – мрак.
То ли напуганная Илдуз понесла и он вылетел из тарантаса, то ли его сбросили, но очнулся он в грязной луже на дне оврага.
Липкая грязь, липкая кровь, раскалывающаяся, словно в нее всадили острый клин, голова… Светлое небо наверху с плывущими облаками, и быстрый шепелявый лепет стекающего по склону ручья…
Правая рука, застрявшая в кармане, сжимала кисет…
«Покурили!»
Шапки не было, слетела, скорее всего, при падении, однако это она смягчила удар. Бибинур для тепла обшила ее изнутри в несколько слоев лоскутами от своей износившейся плюшевой жакетки…
«Сволочи… Я вас найду… Не подохну – найду!»
Облака на небе плясали, сталкиваясь и стремительно разлетаясь…
Тимергали сел, осторожно щупал голову; под спутанными, слипшимися в загустевшей крови волосами наткнулся пальцами на живой, пульсирующий горячим рубец и, содрогнувшись, отдернул руку… Задрал подол гимнастерки, отполосовал от нижней рубахи длинный кусок на повязку – кое-как замотал им рану и вокруг нее.
Сидел, борясь с сонливостью.
А потом долго и упрямо лез по скользкому, в оползнях овражному склону вверх, на дорогу.
Стволы сосен оранжево светились в солнечных лучах: было еще далеко до темна, часа четыре или около того.
Поднял Тимергали суковатую палку и, опираясь на нее, побрел…
И сколько-то шел, пока дорога не вывела из сосняка на полевой неоглядный простор; овраг постепенно измельчал и тоже остался позади.
Заметил Тимергали, что вслед за ним ходко, сокращая расстояние, идет какой-то человек.
Вначале меж ними было полтора-два километра, затем – все меньше-меньше… И, оглянувшись, Тимергали вскоре различил, что это кто-то из военных – из армии, возможно, домой возвращающийся. По нездоровью, как сам он был демобилизован, а может, в отпуск служивого отпустили – за какое-нибудь воинское отличие.
Тимергали остановился, поджидая…
Путник приближался. Полы его длинной шинели, чтобы не захлюстать грязью, были бережливо забраны под поясной ремень, на голове у него красовался кожаный, с защитными валиками танкистский шлем, за спиной нес он вещмешок. Черно выделялась на лице широкая полоска усов.
Он, когда они были уже близко друг от друга, пораженный, наверно, видом Тимергали, сбавив шаг, крикнул:
– Что с тобой, товарищ?
И Тимергали узнал: это же односельчанин, тоже байтирякский, их колхоза имени Парижской коммуны человек – Карим Рахматуллин! Вот только густые и жесткие, как щетка, усы над губой… Нет, не ошибается: он!
Но тут и Карим, вглядевшись, удивленно руками взмахнул:
– Никак ты, Тимергали?!
– Я, дорогой Карим, я…
– Албасты![48]48
Албасты – ужас.
[Закрыть] У вас здесь война, бои идут? Кто тебя так отделал?
– Нашлись.
– Идти можешь?
– Иду вот…
– Ой-е-ей! А я с парохода на суфияновской пристани сошел – мне говорят: не успел ты, солдат, была байтирякская подвода…
– Это я был.
– Э-э! Ну, земляк, встреча… Давай-ка взгляну, что там у тебя под тряпкой, какое ранение…
Присвистнул Карим, осмотрев его разбитую голову. Достал из вещмешка солдатскую фляжку, а в ней спирт был, промыл рану и для поддержки ослабшего организма и как бы за встречу выпить дал из алюминиевой чарочки. Сам тоже выпил. Байковой портяночной материи не пожалел, что тоже нашлась у него в мешке: умело обмотал голову Тимергали, будто чалму накрутил. Сразу покойнее стало голове и теплее.
Пошли вместе.
Карим нетерпеливо выспрашивал про байтирякскую жизнь, про знакомых и соседей, кто из мужчин уцелел на войне, а кто погиб, и, покашляв в кулак, смущенно спросил про жену свою Сарвар: всем тяжело, всем досталось, и разное случается – а как она, Сарвар, если со стороны, чужим глазом, взглянуть? Сын Гариф как?
Тимергали успокоил: Сарвар – женщина самостоятельная, работящая, корову сохранила, и в самое голодное время, как ни подбивались к ней насчет гармони – мешок муки предлагали за нее, – не продала. Муж, дескать, на фронт уходил – на гармони играл, вернется – тоже на этой гармони сыграет. Не подступайтесь и не просите!
Карим обрадованно засмеялся, расправил пальцем усы.
– И сын у тебя, Гариф твой, мальчик ловкий, с умом, – похвалил Тимергали. – Ему двенадцать, а он не хуже стариков ложки из липы режет, инвалиду-скупщику продает… матери подмога! В клубе сводки Информбюро вслух читает.
Снова Карим засмеялся, взблескивая из-под черноты усов крупными белыми зубами. Но тут же схватился за грудь, захлебываясь надсадным кашлем. И тяжко, мучительно трясло его – лицо побагровело, лоб испарина покрыла, Карим сгибался, приседал, не в силах совладать с этим сухим, раздиравшим нутро кашлем… «Эге, – подумал Тимергали, тронутый жалостью. – Война, браток, нас не убила – пометила крепко. Вроде меня ты…» И своя желудочная боль ноюще отозвалась из глубины, словно дано ей было услышать и почувствовать чужую.
Отдышавшись, Карим сказал:
– Осколок во мне. Другие вырезали, а этот доктора трогать не стали. Нельзя, говорят, живи пока с ним. А он – кусается! – Легонько хлопнул по спине: – Как башка, земляк?
– Терпимо.
Краски неба тускнели, день увядал, и на покатые поля ложились легкие тени.
Вязкое дорожное месиво хлюпало под сапогами.
Говорили о том, кто из них где воевал, чего поняли там, на войне, и неуходяще билась в Тимергали мысль: где кобылу и зерно искать? Куда поедешь с милицией, на ночь глядя-то? А завтра его прокурор спросит…
Переходили мелкую лощину, и вдруг увидел Тимергали, что пересекает ее наискось вдавленный в желтизну жухлой прошлогодней травы тележный след… И не просто тележный – от его тарантаса! Уж ему-то не спутать… На заднем колесе железный обод сместился в сторону, край его неровно загнулся, оставляет на земле рваную волнистую строчку. И вот она, эта строчка!
Разглядывал, наклонившись, Тимергали, и от возбуждения зубы друг о дружку стучали… Подкову с правой передней ноги Илдуз – с загнутым колечком гвоздем – признал.
След из лощины тянулся через рыхлую залежь, теряясь вдали. Скорее всего, грабители, боясь встреч на дороге, сокращая расстояние, подались в сторону деревень Аканеево и Юламановка.
– Ну, парень, – сглатывая ком в горле, выдавил из себя Тимергали, – мне туда! – и махнул рукой по направлению следа. Добавил: – Ищи потом ветра в поле… а пока горячо!
Карим, щурясь, спросил:
– А меня не зовешь с собой?
– Рад бы, – смутившись и с надеждой в голосе отозвался Тимергали. – Да ведь как просить? К семье ты идешь… понимаю. У тебя свое, у меня свое…
– Все дела наши, человеческие. – Карим стянул кожаный шлем с головы; стоял, широко расставив ноги, подставляя сухощавое лицо наплывам ветерка. – Найдем, Тимергали, лошадь – домой на ней приедем!
И первым размашисто зашагал вдоль следа…
С залежи, вогнавшей их в пот, след вывел на узкий озимый клин с тощими, редкими зелеными всходами, а дальше побежал краем поля, прижимаясь к кустам молодого орешника. Заросли то и дело обрывались большими прогалинами – след петлял по ним, они теряли его и вновь разыскивали. Совсем свежими были отпечатки копыт и колесный прочерк на влажной весенней земле: прошло всего каких-нибудь четыре-пять часов… В Аканееве и Юламановке обязательно заметят, проезжали мимо на тарантасе такие люди или нет. Если не проезжали, придется искать в юламановском лесу, где-нибудь на дальних хуторах.
Карим покашливал, но легонько, и балагурил, вспоминая всякие смешные госпитальные истории. Несколько раз, вроде бы между прочим, назвал себя старшим сержантом, хотя Тимергали без этого, как только встретились, приметил, конечно, его сержантские нашивки на погонах.
– …И подходит она, строгая такая, губки бантиком: «Раздевайтесь, товарищ гвардии старший сержант, вы теперь ранбольной палаты семнадцать на втором этаже…»
Смеялись.
Но Тимергали был как курок на взводе, и у Карима лукавые коричневые глаза оставались напряженно суженными, чутко вглядывались в даль.
(Сейчас, на старости лет, Тимергали Мирзагитович, когда приходится ему разговаривать с сыном Карима – колхозным председателем Гарифом Каримовичем Рахматуллиным, видит у того такие же – с лукавинкой и одновременно пытливо напряженные, до смущающей собеседника жесткости в них – глаза… Он видит эти глаза – и отводит свои, хотя, поразмыслить, причины к этому нет.)
Небо меж тем заполнялось волглой серостью, которая растворялась в воздухе, сгущая и затемняя его. Теперь они продвигались пересохшим болотом: пружинили под ногами кочки, утробно вздыхала под подошвами торфянистая почва. Колеса местами глубоко вязли в ней, и эти узкие вмятины затягивала ржавая водица.
– Однако я не в пехоте служил, – отдуваясь, сказал Карим, – с непривычки притомиться можно…
– Вернемся?
– Где же Аканеево?
– Обогнули они Аканеево. Во-он за тем леском деревня осталась.
– Ты-то как?
– А чего – иду!
– Перекусим тогда давай, Тимергали…
Из заплечного своего мешка извлек Карим полбуханки хлеба и банку тушенки.
– Свиная. Ешь?
– Забыл уж, как от еды отказываются.
– Ну-ну. А нашим старикам дай – умрут, а не станут свинину есть. Да?
– Было когда-то…
Вытянул Карим из-за голенища солдатскую самоделку – нож с наборной ручкой; вскрыл им банку. В каждой роте находились умельцы делать такие ножи из крепкой стали, незаменимые во фронтовом обиходе. Тимергали сам имел такой, да в госпитале заиграли. Посоветовал:
– Пойдем – финку-то в карман положи, поближе… Нас ведь тоже не с пустыми руками встретят! Хоть припугнуть…
– Я им, фашистам, во́! – И Карим, оторвавшись от еды, показал свой увесистый кулак. – Долбану промеж рогов – не вякнут! – Прожевав, снова сказал: – Мы битые, войной тертые – нас пусть боятся, а не мы их. – Подбодрил: – Другого б так, как тебя, по котелку тюкнули – мозги потекли б. А ты очухался – и не в кусты, не о себе думаешь… о колхозе! Я, брат, сам из таких: случилось что – до конца дойди и не оглядывайся, чтоб душа понапрасну оглядками не мутилась… Комбат Зворыкин, бывало, чуть что: «Гвардии старшего сержанта Рахматуллина ко мне!» Не подумай – хвалюсь будто. А этих… прищемим!
– Я помню, как до войны на сабантуе ты брал первые места на скачках… И боролся сильно.
– В тот год, перед самой войной, одноглазому Шамилю уступил. Нога подвернулась…
– Бывает.
– До сих пор обидно! Нога подвернулась, а он насел. Но тоже он, Шамиль, не из последних… да?
– Тоже… Он до меня в председателях был. И нет его уже.
– А что с ним?!
– Что со всеми бывает, когда смерть позовет? Перед весной через реку ехал он – конь провалился, под лед пошел. Как там, на реке, было – никто не видел. Однако Шамиль коня вытащил…
– Упрется если – гора!
– Упирался, видно, сильнее некуда – глаз у него здоровый от натуги лопнул, вытек. Слепого конь его примчал. Слепого да в обледенелой одежде, как в скорлупе. Кто говорит – от простуды, кто говорит – тосковал он очень, что ослеп, от тоски… но вскоре помер Шамиль.
– Молодой – и не на фронте… а выбыл из жизни!
– Долго ли…
Карим вздохнул – и тут же его лицо осветилось добрым воспоминанием, заговорил он с прежним оживлением:
– За годы войны, в сороковом, как хлеб на трудодни развозили… не забыл? Он, Шамиль, с красным флагом на передней подводе ехал. От дома к дому тот обоз двигался. Мне во двор на двух возах заработанное доставили… Гармонь была – я патефон купил. Давай, Сарвар, жене говорю, культурную городскую музыку на пластинках слушать… И велосипед купил!
– Как у директора школы…
– Вот-вот! А Сарвар себе отрезов на платья накупила и туфли на каблуках с блестящими пряжками. На фронте мне эти пряжки снились! И куда столько хлеба девать было? Все мы тогда продавали, мешками его на базар везли… И ты – да?
– Ну! С тобой же вместе на базар ездил… забыл, вижу!
– Не-ет… Пиво в ларьке пили. Я тогда первый раз попробовал, что это такое, пиво! В Суфияновку ездили – да?
– Ну!
– Эх, землячок, жить-то в своем колхозе хорошо ведь начали… Сволочь эта, Гитлер, какая только сука его родила… вывернулся на нашу голову!
– Теперь вот куда что делось… как после пожара…
– Ты же сам солдатом был, видел, какой это пожар – война! В глазах – заснешь лишь – огонь… огонь…
– А вернулся – другое теперь: работа… работа…
– Когда мы ее, работу, боялись? А в этом или не повезло нам: откуда вернулись-то!
– Лошадь бы найти.
– Не скучай, брат, на хвосте мы у них. Достанем!
Тимергали головой покачал:
– И спасибо тебе, брат, и неловко мне перед тобой. Клянусь, неловко. Втравил тебя в эту заботу… Шел бы ты домой – я же вот на пути твоем…
– Брось, – Карим хмыкнул и весело, как умел он это делать, подмигнул: – Ты мне, председатель, погоди, трудодень еще за это запишешь… Нет, сразу три!
– Пять!
– И порядок в танковых частях! Не переживай. – Засмеялся. – А Гариф мой, сорванец, ложки, говоришь, строгает?
– Да какие хорошие ложки! Сам его ложкой ем.
– Отцу-то, думаю, выстрогает тоже…
– Еще бы! Припас уже, наверно.
– А школа работает, учатся дети?
– Тут строго… смотрим, чтоб учились.
– Это вот очень правильно…
Так они – обо всем – разговаривали, быстро опустошив банку с тушенкой и съев хлеб. На том пятачке, где сидели под кустом, подогнув нижние ветки под себя, остались вмятины от их сапог и консервная жестянка. (Возвращаясь по этой же дороге, Тимергали в плывущем свете луны четко увидит все это – и пустую, тускло мерцавшую банку, и резкие отпечатки округлых каблуков…)
И опять держались за след, как за веревочку, – тянул он их за собой.
Юламановка тоже осталась в стороне – километрах в пяти. Началось сырое и бездорожное мелколесье с чахлыми березками и осинами.
Карима вновь прихватил нутряной кашель. Он держался за тонкий ствол березки, и она дергалась и билась вместе с ним…
Теперь приходилось остерегаться – место было глухое. Шли, хоронясь за деревьями. Смеркалось. Из-под ног курился слабый туман, сгущался, заполняя лесок сизой мглистой дымкой.
– Логово шайтанов здесь, – пробурчал Карим. – Птиц – и тех не слыхать.
– Какие птицы вдали от жилья!
– Есть такие – лесные…
И внезапно совсем невдалеке раздалось конское ржанье.
Илдуз!
Прошли метров двести – триста уже наугад, не различая следа, – засветился во мгле огонек.
Ступали тихо, как в разведке: чтобы не плескалось под ногами, ветка не хрустнула…
Обозначились очертания кривобокой, со сползшей крышей избушки, или, пожалуй, амбара, через дырявые стены которого струился неровный красноватый свет.
Илдуз, распряженная, со снятым хомутом, была привязана за повод к тарантасу.
Заскрипела дверь, кто-то выглянул из нее, прислушался – и снова ушел внутрь. Дверь не притянул: падал из нее узкий светящийся прямоугольник… Илдуз перебирала ногами, вскидывала голову, тревожно всхрапывала.
– Ты рывком растворяешь дверь, даешь мне вскочить – и сам следом! – прошептал Карим, стянув с плеч лямки вещмешка. – Не теряться… Ну… бегом!
И они рванулись вперед.
И получилось, как было задумано.
– Руки вверх, курвы! – закричал Карим, – Ни с места!
Застигли врасплох: молодой – в черной шинели со светлыми пуговицами – скреб ложкой в чугунке; пожилой держал над огнем, голенищем вниз, сапоги. Маленький костерок почти бездымно горел на железном листе, обложенный вокруг камнями.
Сапоги выпали из рук пожилого, один из них угодил на угли, взбив крутящееся облачко горячей золы и огненных искр.
Тимергали, сжимавший палку, встретился взглядом с молодым – и глаза того потерянно метнулись туда-сюда… Однако, не увидев серьезного оружия у них, он ощерил мелкие зубы в трусливо-нагловатой усмешке, произнес, медленно опуская руки:
– Чего пугаете, мужики…
– Руки! – крикнул Карим.
Тот не опустил их совсем и уже не приподнял, как были: остались они вздернутыми на уровне груди.
Здесь, как считает Тимергали, который тысячу раз потом восстанавливал все в памяти, дали они с Каримом промашку.
Замешкались.
Надо было этих уложить ничком на пол, скрутить руки за спиной…
Надо было, во всяком случае, делать что-то не так…
А они замешкались!
В наступившей тишине со свистком – плохой грудью – дышал пожилой.
Прохрипел он:
– Сапог…
От сапога, упавшего на угли, струился едкий дым. Тлело голенище.
Карим бросил:
– Вяжи того!
Кивком – на пожилого.
Носком своего сапога выбил из костерка горевший. Тимергали шагнул к пожилому:
– Тихо-о!
И вот тут то молодой, как мгновенно обретшая силу пружина, взметнулся телом, очутившись – из своего сидячего положения – на ногах; молниеносным ударом головы в живот сбил Карима на землю.
Карим, падая, успел схватить бандита за шинельную полу, рванул на себя – и отлетел к стенке.
Тимергали бросился на помощь Кариму – и они сцепились с молодым, яростно выламывая друг другу руки.
Все – миг, все это – секунды…
Пистолетный выстрел прозвучал сухо, резким хлопком.
И в сознании Тимергали запечатлелось, как, словно бы из другой, неизвестной ему жизни, увиденное, может, в кино:
…подламываясь в коленях, снова падает наземь Карим – медленно, с застывшим изумлением на лице;
…в вытянутой руке пожилого – цепко зажатый костлявыми пальцами черный тупорылый пистолет;
…рухнувший Карим, судорожно дергающиеся его ноги;
…скачок пожилого к дверному проему.
И молодой, поднырнув под локтем Тимергали, – туда же…
Он, Тимергали, настигая молодого, – следом…
Снаружи, из-за порога, навстречу – кинжальная вспышечка огня. Пожилой, убегая в сумрак леса, оглянувшись, выстрелил в дверной провал, загороженный фигурами…
Под руками Тимергали со сдавленным всхлипом грузно пошло вниз тело молодого.
Пущенная наугад, в страхе, пуля пробила ему лоб над правой бровью, застряв в голове. (Тимергали увидит это после – небольшую дырочку, тупо вдавившую по краям черепную кость, с сочившейся из нее сукровицей…)
Очумело билась у тарантаса привязанная Илдуз, ее громкое ржание глохло в непроглядности вечернего тумана.
Тимергали на четвереньках подполз к недвижному Кариму, в слабых багровых отблесках угасающих углей перевернул его на спину – и ощутил мертвую неподатливость остывающего тела. Воротник шинели густо набух кровью. Рана была на шее, и, как потом выяснится, пустяковая была бы рана, почти касательная, не перебей пуля сонной артерии.







