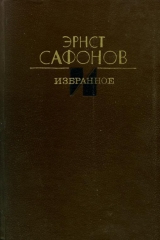
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
«Мороз и солнце, день чудесный!..» – просится на язык пушкинское; нет недавнего горьковатого осадка на душе – жизнь хороша, и жить хорошо! Он утверждается в мысли, что нужно тут побыть не сутки-другие – с неделю, не меньше. Тут наверняка отыщется то, что даст ему заряд для последующего сидения за письменным столом, наполнит его необходимой жадностью: писать днем, ночью писать, страдая оттого, что приходится из-за каких-нибудь пустяков отрываться от захватившей его работы… Но вспоминает он Клавдию, что сказала ему она у поезда – вспоминает, хмыкает, сердится; клянет он себя за ненаходчивость, за жалкую позу там, возле нее; успокаивает себя, что детству и юности суждено оставаться такими, какими они были, а сейчас все по-иному – и у него, и у Клавдии; и говорил же ему Гриша, что неплохо ей сейчас, и мальчик хоть чужой, но есть, и муж есть… А у него, Дмитрия, если так, по-человечески сравнить – ни мальчика, ни жены… Он смотрит на разрисованные морозом оконные стекла, ему кажется, что здесь в любом доме незримо присутствует его былая жизнь – та, в которой жила еще ласковая бабушка, неустанно тикали дореволюционные ходики, в расписных горшочках стояли цветы на подоконниках и вечерами в плите полыхали березовые и осиновые чурки, можно было посидеть у живого огня, послушать, как он поет, тревожно и сладко помечтать о дальних краях, знакомых девочках, непрочитанных книгах… Когда он, повзрослев, распрощался со всем этим – не было уже возврата к прежнему, да и не хотел возвращаться, и если бы не нынешняя неожиданная и странная его командировка – когда б он сюда выбрался! Может, никогда…
Догнала Зоя Васильевна, еще больше нахмуренная; спросил ее:
– А любите свой поселок?
– Родину надо любить, – ответила она не задумываясь, вся в себе – под впечатлением, наверно, разговора с Гришей.
– Нет, Зоя Васильевна, не вообще… Вам лично хорошо здесь?
«Как нахохленный воробышек, – подумал тут же, – и зовут ее по-дурацки, полным именем… Зоенька она, Зоя… Красивого в ней нет и росточек подвел, однако и не безобразная… Может, Гриша домогается ее, а может, и есть она та подружка, о которой он поминал…»
Повторил, улыбаясь:
– Как же, Зоя Васильевна?
– Зовите меня Зоей, – сказала она, будто угадав, о чем он думал. – Это Агапкин… он всех по имени-отчеству… даже школьников.
– Как же, Зоя?
– Извините, мне не нравится ваш вопрос.
– Почему?
– Я честно скажу…
– Ради всех святых!
– …глупый вопрос! Не обижаетесь?
– Нет, отчего ж.
– Не стоит, по-моему, интересоваться тем, без чего вы можете обойтись. Вам же все равно: люблю – не люблю… А где любовь, известно, там и ненависть – так?
Дмитрий сказал «да», про себя ж отметил: «А востра, черт возьми, девка – смотри-ка!..» Обмели они веником ноги, вновь вошли в знакомое уже Дмитрию здание – в контору колхозного правления: библиотека размещалась тут, в самом дальнем по коридору кабинетике.
В окружении множества книг Дмитрий всегда терял спокойствие, с каким-то болезненным нетерпением ожидал, что вот так, копаясь у стеллажей, он обязательно отыщет что-нибудь необыкновенное, какое-нибудь неизвестное ему, потрясающее издание… И вообще удовольствие: снять книгу с полки, полистать, вычитав фразу-другую, поставить на прежнее место, взять еще одну, подумав при этом, что где-то стоят, зажатые между твердыми чужими переплетами, и твои тоненькие сборники, их кто-то читает, держит в руках, выносит из библиотеки на улицу…
Зоя обрадованно сказала: «Есть!» – и вышла из-за дальнего стеллажа с книжкой в руке, которую он мгновенно узнал: это была его «средненькая», вторая из выпущенных трех, – в черной обложке с белыми крупными буквами. На обложке, в верхнем левом углу, был приклеен ярлычок с библиотечными обозначениями: «Р» и цифры.
– Надпишите ее нам, – попросила Зоя и выговорила с удовольствием: – Автограф!
– Я на другой, новой, – сказал Дмитрий; полез в портфель, извлек ту, которую полковник в поезде читал; а вспомнил о полковнике – как об острый шип укололся.
Присев у стола, Дмитрий сочинял надпись, и вошел председатель Агапкин.
Агапкин полистал оба сборника, вслух прочитал начало одного из рассказов: «Тихие закаты горели над русской равниной…»
Высказался о прочитанном:
– Что значит книжный язык – за сознание хватает. А, Зоя Васильевна?
Агапкин стоял рядом с Зоей; Дмитрий поразился: похожи они! Подростковые фигуры и, главное, какая-то общая напряженность в одинаково карих глазах; разница лишь в возрасте, лет на двенадцать – пятнадцать, а то бы за близнецов сошли… Он хотел возразить Агапкину, что в его рассказах не «книжный» язык, когда книжный – это плохо, псевдолитература; но рассудил, что председатель по-своему похвалил его – что ж доказывать!
Поинтересовался Агапкин, отыскал ли Дмитрий что-нибудь «полезно-заметное» на фермах, – Дмитрий ответил утвердительно. Он вдруг догадался, что Агапкину приятно находиться возле Зои, старается он как бы невзначай коснуться ее локтя, пальцев, плеча… «Мал золотник, а, выходит, дорог», – усмешливо подумал Дмитрий, оживив в памяти, как на тропинке теснил грудью Зою тракторист Гриша.
Агапкин сказал:
– Дмитрий Сергеич, у нас сегодня, через два часа, такое мероприятие: провожаем на пенсию и присваиваем звание почетных колхозников старикам, ветеранам… Приглашаю поприсутствовать от имени и по поручению, как говорится…
– Спасибо, обязательно…
Агапкин, кинув взгляд на Зою, ушел, и тут же вбежали мальчишки со школьными сумками (кончились у них, видно, занятия): шмыгали носами, толкались, расписывались красными замерзшими руками в карточках – «Тома Сойера» с собой унесли, что-то «про войну», гайдаровского «Тимура…». И еще приходили взрослые и дети – выдавала Зоя книги, расспрашивала про что-нибудь, отчитала кого-то за неаккуратность (хлебным мякишем страницы залепил!); была она тут – в своем свитере с оленями, мягких неслышных валенках, внимательная к каждому входящему и требовательная, – была, в общем, на месте: среди книг не казались лишними ее блеклые кудряшки и затаенные, с суровинкой глаза.
Дмитрий увидел на столе подшивку «Колхозной жизни», с подталкивающим нетерпением полистал ее – те же знакомые малоформатные страницы с плохой печатью, темными клишированными оттисками, шаблонными, повторяющимися из года в год заголовками: «Навстречу весне», «Взял обязательство – выполни его!» «Беспокойный характер», «Сверх плана», «На трудовой вахте», «В честь праздника»… Нашел под несколькими корреспонденциями подпись Поваркова – работает, значит. И пьет, видимо, как прежде: на Руси, да еще в глубинке, запивший человек редко останавливается – до последнего. А фамилии старика Курилкина в газете уже нет – на пенсии, конечно, или умер… Дмитрий невольно поймал себя на том, что об этих людях, с которыми когда-то сидел в одном кабинете, ему думается сейчас с тихой грустью: на расстоянии времени они видятся лучше, чем казались прежде. Они, если рассудить, ничуть не хуже многих из тех, с кем приходится иметь общие дела в столице, – нет, совсем не хуже, только проще, пусть даже в чем-то примитивнее, неумехи, зато без самонадеянности, изворотливости, без того напускного скепсиса, за которым прячут страх, что кто-то заглянет в душу, кто-то поймет: «А король-то голый!..»
– Зоя, – шепнул он, наклонившись к ее розовому уху, – к тебе не зарастет народная тропа: идут, идут… Отпусти меня погулять.
…Когда Дмитрий в назначенные 17.00 пришел в клуб, с мороза окунулся в сияние света и кисловатое тепло смешанного человеческого дыхания, тут все уже было готово к началу торжества: на сцене за столом, покрытым красной скатертью, по-командирски строго стоял и строго рассматривал народ в зале Агапкин, а на столе в бумажной упаковке лежали пока неизвестные предметы – «ценные подарки» колхозным пенсионерам. На последней скамье подростки и девчата в одинаковых полушалках, воровато щелкавшие семечки, потеснились, Дмитрий сел, шевеля замерзшими пальцами в ботинках.
По проходу между рядами скамеек подпрыгивающей походкой пошел к сцене мужчина с крепким, тяжелым затылком, в кожаном реглане с меховым воротником; его хромовые сапоги поскрипывали, как сухая береста. Он шел, и скрип яростно начищенных сапог гасил нетерпеливый суматошный говорок в зале, затихали люди, кто-то цыкнул на расшалившуюся в углу ребятню, а Дмитрий сказал себе: «Он… летчик…»
Мужчина в реглане неспешно преодолел три ступеньки, ведущие на возвышение со столом, пошептался с Агапкиным, и тот объявил, что «слово для открытия» имеет секретарь партийной организации Иван Иванович Симаков.
Голос у рослого Ивана Ивановича оказался тонким, сыроватым (таким, наверно, хорошо петь жалостливые песни), но говорил он просто, легкими, не засоренными ничем словами – слушали внимательно. Дмитрий всматривался в его широкое рябоватое лицо, ничего особенного в нем не находил – так себе, заурядное, без четко выраженной характерности; однако непонятно что, не подмечаемое сейчас Дмитрием, заставляло все же сразу поверить: Симаков неглуп, человек с достоинством, на мелкое и суетливое не способен. Дмитрий попытался представить его рядом с Клавдией – не получилось. Клавдия оставалась сама по себе, такой, как видел ее с малышом у вагона; в Клавдии было что-то болезненно-жесткое, угловатое, в р е м е н н о е, а это никак не прикладывалось к Симакову.
Раскинув руки – добро пожаловать! – Симаков, называя но имени-отчеству, пригласил стариков, определенных к чествованию, занять места рядом с ним и Агапкиным. Таких оказалось четверо; они поднялись к столу, подвигали стульями, уселись, смущенно покашливая и распрямляя плечи. Дмитрий видел лишь одного из них, узнавая дивно сохранившиеся, не потерявшие голубизны глаза, – Тимохина видел. Был, конечно, Тимохин не тем, что полтора десятка лет назад, – усох он, сморщился бурым лицом; на этом лице при электросвете проявлялись землистые, с ощутимой прозеленью тени, как бы не от мира сего, предвестницы обреченной старости, – но глаза тимохинские жили, хранили тепло, свой вешний свет, беззащитность, доверчивость, отблеск счастья (то ли всегдашнего, то ли вызванного моментом, что вот сидит он на глазах у народа, праздник для него)… «Здравствуй», – мысленно сказал Дмитрий, и было такое состояние, как будто бы достиг наконец, чего хотел.
Агапкин, вытягиваясь, что-то шептал Симакову, оба они взглядывали в глубину зала, отыскивали кого-то нужного им; и Агапкин, понимающе хлопнув полежавшим на красном сукне пальцам Симакова, поднялся, сказал скороговористо:
– Дорогие товарищи, у нас в колхозе гость – современный московский писатель товарищ Рогожин Дмитрий Сергеич. Попросим его занять место за столом президиума!
На скамьях жидко поаплодировали; оглядывались с любопытством, искали: где он, писатель? Дмитрий готов был провалиться, но куда денешься: пригнувшись и под взглядами, как под пыткой, засеменил по проходу к сцене. За столом пришлось сесть между Симаковым и Тимохиным. Симаков сунул ему разлапую ладонь, показал в улыбке синеватые искусственные зубы; и Тимохин где-то под скатертью тоже пихнул ему свою руку, твердую, колючую, словно древесный корень.
Чествование началось и шло по заранее составленной программе, над которой, решил Дмитрий, немало поработала Зоя. Она и говорила следующей – после Симакова и Агапкина.
– Труд, – говорила Зоя, – продлевает нашу молодость. Он дает нам ту внутреннюю неотразимую красоту, которая дороже всякой внешней…
Зоя полуобернулась к старикам, как бы полюбовалась каждым из них в отдельности, продолжила с убежденностью:
– Да-да, не праздная жизнь, а жизнь в труде делает нас осмысленными, целеустремленными, нужными обществу. Посмотрите на наших заслуженных товарищей, на нашу старую колхозную гвардию! Годы, конечно, не сбросишь, но сколько бодрости в каждом из них, сколько негаснущей энергии, оптимизма, уверенности!..
Старики – видел и слышал Дмитрий – вздыхали, ерзали на своих стульях, свет в зале, наверно, казался им излишне ярким, а слова про них верными, может, однако, очень громкими. Тимохин влажно посапывал носом, как-то обмяк, без нужды тер ладонью бритый подбородок. Зоя темпераментно нахваливала его за бескорыстие и производственную инициативу. Она приводила убедительные примеры тимохинской полезности в коллективе «Зари»: давно он достиг пенсионного возраста, а без колхозной работы дня не живет – топит кормокухню, перебрал полы в коровнике, утеплил тамбур, и даже книжные полки в библиотеке его, Тимохина, изделие! И вообще у кого нужда какая – к кому идут? К Тимохину!..
– Золотые, честно, у нас старики, – довольно шепнул Симаков; от его чисто выбритых щек дошел до Дмитрия легкий приятный запах нерезкого одеколона.
После Зои к столу выскочила смелая девчушка лет двенадцати – бойко, выразительно прочитала по раскрытой папке приветственный адрес от пионеров и школьников. Тимохин согнутым пальцем вытирал глаза, а девочка, став такой же красной, как ее галстук, обежала вокруг стульев, звучно поцеловала Тимохина в лоб. И тут же, будто это послужило сигналом, за тяжелым занавесом что-то щелкнуло – в зал полилась торжественная, подходящая случаю музыка. Из-за кулис на вытянутых ручонках еще одна девочка, совсем маленькая, из первоклассниц, вынесла алую ленту, которую принял Агапкин. Он подошел к робко приподнявшемуся Тимохину и, вытягиваясь на цыпочках, повязал ему ленту через плечо, – с надписи на ленте «Почетный колхозник» сыпалась серебристая пыльца. Агапкин сказал, обернувшись к присутствующим, что есть решение правления колхоза о памятных премиях ветеранам; тут же вручил Тимохину электробритву «Харьков» и настенные часы в деревянном полированном корпусе.
Теперь у Тимохина под мышкой были массивные часы, в руке коробка с бритвой, а грудь его опоясывала широкая почетная лента, – топтался Тимохин на сцене, не знал, как ему быть, а из зала неслись к нему подбадривающие веселые слова… Тимохин низко поклонился людям, чуть не уронив при этом полученные подарки, и сказал сдавленно:
– Спасибо… не за што меня, да… я што ж, как все… благодарствую!
Сел Тимохин, и, как только отзвучали аплодисменты, настала очередь другого старика. Разница была лишь в том, что после председателя и партийного секретаря вместо Зои говорила учительница школы, и другая девочка зачитывала приветствие; кроме ленты, получил старик настольную лампу-«грибок» и охотничий патронташ, заполненный гильзами.
Старик, разгладив усы, складно поблагодарил руководителей и народ за оказанную честь, заверил, что не пожалеет сил в дальнейшем…
– Безотказные, точно! – опять шепнул Симаков Дмитрию.
Когда же и третий и четвертый пенсионеры были удостоены полагающихся почестей, Агапкин и Симаков попросили выступить Дмитрия. Он посчитал неудобным отказаться, коротко и крепким голосом сказал о том, что и в век космических полетов нет первороднее, священнее труда, чем земледельческий, пожелал старикам долголетия и радостей. Выступление пришлось к месту – зал его принял: похлопали в ладоши… А Зоя объявила, что после десятиминутного перерыва будет дан концерт художественной самодеятельности.
Однако Дмитрию не удалось посидеть на концерте – Зоя тут же нашла его на клубном крыльце среди курильщиков, увлекла за собой в служебную комнатку, где находились в полном сборе все, кто до этого возвышался за столом на сцене, – старики с подарками, Агапкин, Симаков… Агапкин скомандовал: «Пошли!» – и они через служебный выход выбрались на улицу, в синеву звездной ночи. Во Вселенной – чудилось отсюда – были всеобщий мир и покой, люди в эти часы только и могли петь или слушать песни (на том же концерте или еще где-нибудь), любить друг друга или вот так, не обремененные бедами, идти куда-то, по цепкому бодрящему морозу, угадывая приближение желанного тепла и уюта…
И на самом деле пришли в тепло: в опрятную избу с розовыми обоями и домоткаными половичками, где приветливая хозяйка, раздев их, провела в горницу, к столу, богато заставленному едой. Причем Симаков, сняв реглан, удивил Дмитрия военным темно-синим кителем с погонами подполковника морской авиации.
– Прошу садиться по усмотрению, – тоном хозяина объявил Агапкин, принялся, не мешкая, разливать по стаканам. – Поднимем тост за наших юбиляров…
От ледяной водки у Дмитрия заломили зубы; дразнил стол солеными грибками, холодцом, курятиной, картошкой в сметане; пегая кошка невесомо прыгнула Дмитрию на колени – терлась головой, мурлыкала… «Помнит, вероятно, Тимохин меня, узнал…» И покосился на него (сидели опять же рядом, локоть к локтю). Тимохин обгладывал косточку, причмокивал – весь в этом увлекательном занятии. И остальные закусывали – в удовольствие, сосредоточенно, как и водится после первой чарки, когда к тому ж за плечами проделанная успешно работа.
Выпили еще по одной, затем по третьей; Тимохин, чокаясь с Агапкиным, Симаковым и Дмитрием, поблагодарил, что «не побрезговали» стариками, – Агапкин отмахнулся: «Зачем про это!..» Но еще один из пенсионеров, кривоглазый, с изрубцованным шрамами лбом, горячо поддержал Тимохина, с упорством захмелевшего человека повторял:
– Нет, ты уважь нас, а мы тогда… не спрашивай лучше!
Симаков обернулся к Дмитрию:
– Дорогой товарищ писатель, Дмитрий Сергеевич! Что ж молчишь? Ездишь, предполагаю, много… Что ж молчишь? Рассказал бы что-нибудь. Столица как? И вообще…
Закивали все, оживились: «Правильно!.. Надо послушать… Просим окончательно…» Оживление было понятным: Агапкин не уставал наливать. Дмитрий тоже чувствовал в себе возникновение легкости, желания душевного разговора с кем-нибудь – стал поэтому вспоминать, как недавно с молодежной делегацией ездил в ГДР, какие встречи имел с немцами, как они сейчас живут, на что надеются…
– А-а, фрицы! – крикнул уже совершенно пьяный кривоглазый старик. – А мы их как? Хенде хох… во!
– Правильно, Акимыч, – сказал Симаков, – только не шуми…
– У меня две медали «За отвагу»! – орал старик. – Орденов куры не клюют…
Старик, впрочем, мог орать – его никто не слушал: всем хотелось говорить, и все, за исключением, пожалуй, Симакова, говорили. Про тех же немцев, какая это нация для русского человека, кто как воевал, в каких частях служили, отчего Гитлер добрался тогда до Москвы, каким был Сталин… А потом и вовсе сбились кто на что – про семенное просо и минеральные удобрения, которые надо завтра со станции вывезти, о ценах на мясо, про каких-то людей и их дела, неизвестные Дмитрию… Симаков, подавшись к нему ближе, спросил, не пишет ли он стихов, и Дмитрий должен был огорчить, что не пишет.
– Стихи люблю, – сказал Симаков.
– И я люблю! – смеясь, сказала за их спинами Зоя; она неслышно вошла, была еще как бы в облачке холодного воздуха, с разрумяненными щеками, и они, раздвинувшись, усадили ее между собой.
– Почитайте, Дмитрий Сергеевич!
– Если вспомню что, Зоя…
Ему было хорошо здесь, он не смог бы даже толком объяснить, почему хорошо, – может, он просто соскучился по всему такому, полузабытому им? Нащупывал в своей затуманенной голове строчки знакомых стихов, читал, ощущая, как близко у глаз стоят счастливые и горькие слезы:
Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село…
– Ко мне, Дмитрий Сергеевич, ночевать пойдем, – сказал Симаков. – У нас с женой своя библиотека – чуть меньше, чем у Зои. Подтверди, Зоя!
– Да…
– Спасибо, – ответил Дмитрий, думая о том, что он, выходит, должен будет еще увидеть, какой дом у Клавдии, как они живут в нем с Симаковым…
– Не надо к вам, – вдруг сказала Симакову Зоя: она тревожно взглянула на него, и у Симакова что-то пугливо дрогнуло в зеленоватых зрачках – был между ними мгновенный, напряженный диалог без слов. – Дмитрию Сергеевичу ночлег уже подготовлен, Иван Иванович…
– Да, в самом деле… – вступился Дмитрий.
– Никаких возражений! – поспешно перебил Симаков. – Жена уехала, дом пустой – пожалейте!
– Зоя Васильевна, – позвал через стол Агапкин, – споем? Раньше-то получалось у нас…
– Не хочется.
– Председатель! – крикнул неугомонный старик. – Ты нас не купишь, пр-редседатель, не-ет!.. – И, погрозив толстым пальцем, выругался.
– Вот, – с искренней обидой, переживая, обратился Агапкин к Дмитрию, – вот, старайся тут… А они?!
– Отправляйся, Акимыч, спать… стыдно! – сказал Симаков.
– Слушаюсь, отставной командир! – Старик дурашливо приложил пятерню к голове, повалил стул за собой, пошел к выходу, бормоча: – Солдату Рокоссовского пр-реград н-нет! На председателя на…!
– Вот, – снова сказал Агапкин, – а должность, Дмитрий Сергеич, обязывает: терпи! Вот в каких условиях…
– Он завсегда мужик смирный, – как бы извиняясь, пояснил Дмитрию Тимохин, – и работник что Левша, который царю блоху подковал… А эт уж отец у него таковский был, смолоду Разгуляем звали…
– Мы огромные дела разворачиваем, Дмитрий Сергеич, – Агапкин со стаканом потянулся, – страшно огромные… под стать современным задачам! Увидите! Завод кирпичный строим, бондарное производство налаживаем… Вздохнул человек у нас!
В дверь избы забарабанили; хозяйка, открыв, с кем-то перешептывалась, постепенно повышая голос, – не пускала незваного гостя. Дмитрий оглянулся: напирая плечом на женщину, протискивался Гриша в своем ярком шарфе и кургузой шапке. Хозяйке на подмогу поспешил Агапкин, бочком, по-петушиному наскочил на Гришу, прикрикнул, тряхнув суворовским хохолком, – тракторист отступил в сени, так шарахнул уличной дверью, что стекла задребезжали.
– Я смотрю, повзрослели вы, переменились, – вдруг проговорил Тимохин, глядя не на него, Дмитрия, а в свою тарелку с расползшимся холодцом, ковыряя в ней вилкой. – Бегут годочки…
– Бегут, – помешкав, отозвался Дмитрий; в нем все напряглось, куда-то ушел, не задевая больше его, застольный шум – Зоя с Симаковым говорили будто бы не возле, а за стеной.
– И я о том… бегут. – Непонятная кривая ухмылка родилась и погасла на мокрых губах Тимохина.
– Глупый я был, – с невольным отчаяньем сказал Дмитрий.
– На колокол глядя, звонить, известно, не научишься, – туманно вставил Тимохин и спросил: – По прежней части, значит, служите?
– Не совсем…
Они наконец встретились глазами – Дмитрий опустил свои, принялся резать ножом ускользающий гриб. Тимохин, засмеявшись и тут же оборвав смех, сказал со вздохом:
– Годы, конешно… Мне не сегодня завтра на погост.
– Жить надо.
– Пожил свое.
– Дмитрий Сергеич! – Агапкин звал. – За вас, представителя великой культуры, за нашу Зою Васильевну, представляющую интеллигенцию в деревне!
– За вас, товарищи… ваши успехи…
Тимохин тоже постучал своим стаканом о другие, но пить не стал; он дождался, когда выпил и закусил Дмитрий, – напомнил ему:
– Вы в тот случай в полую воду к нам приезжали… Ох, давно!
– Давно…
– А как вчера…
Обретая в самом себе состояние близкого внутреннего облегчения, наполненный решимостью, Дмитрий поймал руку Тимохина и твердо сказал:
– Прощения прошу у вас.
Сказал, чувствуя, что сам растроган собственным поступком.
Тимохин в замешательстве выдернул ладонь из пальцев Дмитрия, замотал головой – путался в конфузливых словах:
– У каждого своя работа… понимаем… за ее сверху спрашивают!
– Прошу… – упрямо повторил Дмитрий.
У Тимохина текли по дряблым щекам слезы; Дмитрий положил свою руку ему на плечи, полуобнял – вздрагивали острые, выпирающие из-под одежды старческие лопатки.
– Жизнь, – пробормотал Дмитрий.
– Жизнь, – согласился Тимохин; пиджачной полой смахнул с лица слезы, сморкался; сказал, прикрываясь стыдливым смешком: – Старый что малый, только сиськи не требует… А слабый, однако, стал, дырявый. А тогда ведь меня шибко щипали… мил человек! Не враз оправился. Прокурор наезжал, документов лишали… Первый секретарь на меня ногами топал, а прокурор, не скажу, он ласковый был, вроде тебя… А насчитал много! Четыре лета выплачивали со старухой за скирды-то…
«Это я ему!..» Как раньше, когда стихи читал, Дмитрий почувствовал, что и он может заплакать, но другими слезами – тяжелыми, рвущими грудь; он упадет лицом в стол, будет биться об него, рыдая, – и это не столько из-за конкретной вины перед тем же Тимохиным (все мы перед кем-то в чем-то виноваты), а из-за той громадной, пробуждающейся печали, которая вовсе не беспричинно настигает в минуты редкого душевного прозрения…
Вслед за скандальным стариком исчезли незаметно двое молчаливых, неприметных; Тимохин тупо смотрел перед собой; Агапкин, загораживая Зою, горячо шептался с ней у темного окна; и безучастным, усталым был Симаков – покачивался на стуле, красиво поблескивали его погоны, и нельзя было понять, слушал он или нет разговор Дмитрия с Тимохиным.
Опять кто-то постучал в дверь; хозяйка, приоткрыв ее, заглянула в сенцы, позвала:
– Зоя Васильевна, тебя отец требует…
Зоя, гневно сверкнув глазами, пошла туда, на хозяйкин голос; Агапкин было подался за ней, но на полпути остановился, махнул рукой, подсел к Симакову:
– Что, Иван Иваныч, пригорюнился?
– Так…
– О жене тоскуешь? Приедет!
Агапкин через плечо покосился на закрывшуюся за Зоей дверь, прислушался; проговорил сквозь зубы:
– Я все ж его выселю из деревни. Как тунеядца. На Колыму. Что скажешь, Иван Иваныч?
Тот не ответил.
Агапкин пояснил, жалуясь Дмитрию:
– Пьянчуга, антиобщественный элемент… Дочери спокойствия не дает… Два раза сажали – то за кражу, то за хулиганку…
– Они его должны знать, – Тимохин показал Агапкину на Дмитрия. – Помнят, думаю… Бригадиром когда-то был, Загвоздин Василий Максимыч. Помните?
– Да ну?! – И пронеслось, встряхивая: «Зоин отец, а!»
– Она чисто голубь, Зоя Васильевна-то, – говорил Тимохин, а Агапкин, светлея лицом и сам того, наверно, не замечая, подтверждал его слова кивками. – Весь дом она на себе тащит, сестер до дела доводит, учит… Мать больную обихаживает, в чистоте содержит. А он в среду прошлую все ее платья проезжей мордве продал и пропил.
– Выселю! – стукнул кулаком по столу Агапкин; что-то соленое брызнуло в глаза Дмитрию, он долго вытирался платком. «Маленькая Зоя, – думал, – маленькая Зоя, как же тебе быть?..»
– Хватит, пожалуй, – поднялся Симаков. – Не по домам ли, друзья? Ты, Дмитрий Сергеевич, не позабыл – со мной!
Они одевались; Зоя вернулась из сеней – продрогшая, лицо пятнами; Симаков трезво, с гадливостью сказал Дмитрию:
– К чему никогда не привыкну тут – к таким вот выпивкам. Скучная, поверь мне, вещь! Без взлета. Вот слово даю: последняя!
Агапкин, услышав, возразил:
– Славно посидели. Ваше мнение, Дмитрий Сергеич?
– Славно, – машинально, не задумываясь, повторил Дмитрий; он помогал Тимохину влезть в рукава тяжелого зимнего пиджака, перешитого из солдатской шинели.
На улице воздух был звонким, стянутым низкой морозной температурой, сразу же высушил влажность во рту, тянул на покашливание. Деревня уходила в сон, гасила огни; стрельнул неподалеку разрываемый стужей старый осокорь, и собака завыла – держали ее на холоде, она жаловалась небу, ясной всевидящей луне. Дмитрий представил, как он мог бы приласкать эту собаку, отдавая ей часть своего тепла…
Тимохин, распрощавшись, ушел – топтались на снегу втроем: Агапкин, Симаков и он, Дмитрий. Зоя осталась в избе с хозяйкой, но шепнула Дмитрию, что догонит их. Агапкин, как и Симаков, был трезвехонький, вроде они не пили, – серьезная выучка, что ль, в этом деле сказывалась, а может, впрямь не пили – присутствуя, «изображали» только? А у него, Дмитрия, и от водки и от всего другого в теле была мягкость, хотелось слушать и говорить лишь радостное, ласковое; он охотно соглашался со словами Агапкина, который обещал, если Дмитрий пожелает, выделить ему избу, создать все удобства – пиши себе повесть или роман о замечательном колхозе «Заря» и его замечательных людях…
– Поможем, – убеждал Агапкин, – а создадите о нас произведение – прежде всего сами в историю войдете. Обещаю!
– Твоя, по-моему, – сказал Симаков.
Из конца улицы в фиолетовом полусвете вырастала узкая фигура женщины, похрустывала снежная корка под ее ногами – Агапкин, хмуро пожав им руки, сказав «до завтра», двинулся к ней. Они встретились, женщина попыталась взять его под локоть, однако Агапкин сердито отмахнулся, пошел рядом, но как бы в стороне – низенький при ней, высокой…
– Айда и мы, – поторопил Симаков.
– Зоя обещала нас проводить.
– Обещала, говоришь… Все равно пошли! Догонит.
Вышагивал Симаков на протезах осторожно, однако споро, не без уверенности; взял для прочности Дмитрия под руку – он почувствовал, как грузен и силен обезноженный летчик.
– Опять к морозу, – заметил Дмитрий. – Звезды-то по полтиннику.
– Звезды, – думая о своем, повторил Симаков. – Ах, звезды!.. Мне легко умирать будет – я их близко видел.
– А я лишь пассажиром летал.
– Пассажиром – это все одно, если вместо живой жены резиновую куклу иметь…
Он рассмеялся над своим солдатским сравнением – довольный, возможно, им; сказал с неожиданной откровенностью:
– А у меня и жена – ой-ей, какая жена! Дай бог тебе такую.
Память Дмитрия мгновенно снова-заново высветила сцену его встречи с Клавдией перед приходом поезда, какая она там была, и другое, волнуя, всплыло, то, что знают они с Клавдией двое, что осталось навсегда, на всю жизнь принадлежащим только им, никому другому, – и с царапающим страхом, мучительным любопытством посмотрел Дмитрий на Симакова, ждал, переживая, какие слова тот еще скажет.
– Ты, Дмитрий Сергеич, мужик, должен понять и чтоб как в могилу все ушло… Договорились?
– Есть.
Но не о Клавдии теперь говорил Симаков – о Зое:
– Я тебя умыкнул для ночевки зачем? А затем, что ты, как ведомый в воздушном бою, прикрыть меня должен… Зоя – чистый человек, к ней даже грязь отца не прилипает. По своей молодости, восторженности, из-за книжек, которые вы пишете, она, Дмитрий Сергеевич, вообразила, что любит меня…
Они как-то одновременно оглянулись – нет, Зоя не бежала за ними; избы серебрились заснеженными крышами, не выла, поскуливала прежняя собака.
– Если бы не отвоевал тебя, Дмитрий Сергеевич, пришла бы она ко мне. Она из самоотверженных – придет!
– Объясниться вам нужно…
Симаков сокрушенно сказал:
– Объяснял.
– Агапкин тогда при чем? Этот еще… тракторист, Гришей звать? – сорвалось у Дмитрия.
– Приглядистый ты! – не то в похвалу, не то порицая сказал Симаков, – Ишь, замечаешь как… Впрочем, профессия! А Гриша что – дурак! Самец, разжигает себя… Агапкин – тут другое. Они с женой чужие, не склеилось у них – он и тянется к Зое. А я люблю свою жену.
– Слышал я, – помимо желания сказал, как упрекнул, Дмитрий.
– А ты еще услышь, – угрюмисто ответил Симаков; высвободил свою руку из-под его локтя, пошел без помощи.
И так шли – молча.
У калитки дома постояли – Зои все не было. Дмитрий, заглаживая неловкость, спросил:







