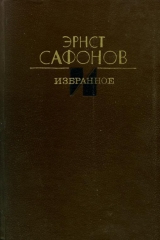
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
ИЗ ТЕТРАДИ
I
С ума сойти, вокруг – до раздражения, бессильного бешенства – все расплавленно-белое! Перекаленное, цвета ртути солнце недвижно застряло в зените, и белое, слепое небо. Река, ленивая и тоже нестерпимо-белая, и по ней ползет наш белый, горячий пароход. Жирный капитан в белом кителе и белых брюках нагловатыми, жирными глазами шарит из рубки по хорошеньким пассажиркам. Женщины в белых платочках, и ослепительные газеты в руках у мужчин. Белая, удушливая жара.
Плыву в Русскую.
Наш редакционный шеф отдела Василь Дюков (можно слитно Васильдюков!) поучал меня перед отъездом: «Для журналиста командировка начинается не в пункте назначения, а в дороге. Разевай шире не рот, а глаза. Факты и герои косяком идут…»
Вот эти герои? Он – в солдатской форме без знаков различия, пощипывает жидкие юношеские усики над губой, заметно ломается. Она – такая же молоденькая, курносая, милая, в цветастом платье с немыслимо длинными рукавами. Слушает парня тоскливо, с грустной покорностью, а у него – голос бахвалистый:
– Тут категорически обозначается твоя узость, Нюра, потому как, кроме нашего Нижнепрысковского сельсовета и райцентра, нигде ты не бывала. А у меня юг в глазах, и он меня по-о-омнит! Сто рублей не деньги, десять лет не срок. Поговорка такая, понятно? Ну, ладно, ладно, сказано – напишу сразу!..
Нюру жара сморила. Спустилась она вниз, в салон. Солдат подсел к пожилому дядьке, поинтересовался: видел ли тот Черное море? Не подождав ответа, тут же стал рассказывать, что служил в Крыму и какая у него была хорошая служба, а Черное море, оказывается, синее-синее, и по нему бегают культурные теплоходы… Еще рассказал, что издали, из армии, родительский дом виделся большим, просторным, а приехал – тесно в нем. Друг (тоже, между прочим, младший сержант!) подался в Крым в заводскую военизированную охрану, обещает устроить и его…
– Нюрке вечером на дойку, – вздохнул, – нагорит ей за мои проводы.
– Из деревни бегёшь? – спросил дядька, прищурив один глаз, отчего его небритое лицо стало злым.
– Гарантии там нет, – ответил солдат и тоже пошел в салон.
Вскоре белое знойное безмолвие и однообразие сморили и меня. Но в салоне, как и наверху, все было заполнено солнцем и духотой. Нюра лежала на скамье, подобрав смуглые ноги под платье, дремала. Парень, сняв сапоги, лежал на другой скамье, ворочался и даже постанывал. Через какое-то время поднялся, достал из чемоданчика щетку и банку гуталина, зажал их под мышкой, а в каждую руку взял по сапогу, и в носках потопал на палубу. Обратно принес сапоги, зеркально посвечивающие: все, что было в салоне полированное, стеклянное, латунное, тысячу раз отразилось на их волшебных голенищах. И сам парень, довольный, видно, и собой, и сапогами, уснул сразу – спокойно и безмятежно. Плыву в Русскую!
II
Стерлись для меня имена и лица наших детдомовцев. Мало кто во мне живет: кого вижу иногда или слухи о ком доходят… Разбрелись по белу свету. А о Глебе думала. Казалось почему-то, что живет он непременно в каком-нибудь Валдае или Коврове, работает учителем. Обязательно учителем. Такой тихий, самоотверженный учитель, который ко всему прочему любит отвечать на письма своих учеников и печатает стихи «про природу» в районной газете «Путь к коммунизму». Странно! А он, оказалось, механизатор по профессии, по-прежнему добренький, совестливый и удивляет меня. Сообщил мне, что, по подсчетам американского ученого-физика Лайнуса Полинга (лауреата Нобелевской премии), семнадцать миллионов детей умрет либо будет иметь тяжелые физические недостатки в результате уже проведенных испытаний ядерных бомб.
– Вычитал? Завтра позабудешь…
– А знаешь, – продолжал он, – испытание только одной тысячемегатонной бомбы вызывает выделение такого количества радиоактивных веществ, что это приведет к рождению пятидесяти миллионов детей с физическими и умственными недостатками… Тот же Полинг подсчитал.
– Господи, Хлебушек, – говорю, – нашел тему… Меня пугаешь? Сам боишься?
– Нет. Действительность это, а верить не хочется. Думаешь, думаешь, при чем тут каждый из нас?
– Ну! – не нашлась как ответить ему. – Перегибаешь. – И первое, что на ум взбрело, сказала: – А договор о запрещении такого оружия? А движение борцов за мир?!
И сама понимала: он не о том, и я не так отвечала… Стояли на косогоре, а отсюда, с возвышенности, вольно смотрятся окрестности. Видишь травянистые холмы, бегущие к горизонту, видишь недальние и дальние лиловые леса и перелески, – видишь, и обостренно, жгуче овладевает тобой томительно-радостное чувство, то чувство, которое, думается, бывает пригашено в нас среди камня и железобетона шумного города… Чувство родины?
Различала слабые дымки из печных труб ближайшей деревеньки, той, что за Русской, и мне казалось, что там сейчас, у фермы, кони, пофыркивая, осторожно пьют из долбленого корыта чистую воду, а в избе хозяйка достала из печи чугун горячей рассыпчатой картошки, и где-то на утреннем нежарком солнышке, отложив в сторону вилы, смолят цигарки мужики, говорят про день вчерашний и день сегодняшний… В какой это деревне? Посмотреть на карту – простые и великие они, как былины, названия деревень! Сославль, Криуша, Стародынка, Староселье, Бобровка, Сельцо-Кольцово, Слобода, Износки… Думала про это, покойно и тихо на сердце было, и только как заноза, далекая, но покалывающая, – слова Глеба. Вспомнилось, что после Хиросимы в Японии рождались дети без глаз. И представить не могу: ужас какой! – дети без глаз… Когда в войну нас, малышей, увозили от фронта, эшелон попал под бомбежку. Неизвестная женщина прижимала меня к себе, пыталась закрыть полами своего пальто. Я плакала, била ее ручонками, хотела вырваться. И взрывы. Нас бросало, опрокидывало, трясло, а женщина держала меня крепко, так крепко, что было больно. А потом какой-то серый и забрызганный кровью мальчик, которому оторвало руки. Его уносили от нас, и тогда я впервые услышала непонятные слова, они остались в моей детской памяти. Их, размахивая кулаками, выкрикивал в небо сопровождавший нас боец. Много позже узнала я, что слова эти нехорошие, запретные, попросту нецензурные.
Война… После победы уже новое поколение взрослых людей выросло, совсем иные, даже мне во многом непонятные пареньки и девочки до хрипоты спорят, что правильно и что неправильно делали их отцы, а о войне еще говорят, припоминают ее, говорят, и слезы не сохнут.
Потапыч пояснил мне:
– Здесь поля изрытые, натерпевшиеся. В том логу, где лесок, наши тяжелые орудия прятались. Во время боев в землю железа понатыкали – страсть!.. Летошним годом пастушонок у нас на старой мине подорвался. Окопы скреперами и бульдозерами заваливали… Я старшиной был, и Россия передо мной не на картах топографических, а вот такая всегда… Люто, конечно, было, но невозможного не было. Свое кругом.
У Глеба спрашиваю:
– А если новая будет?
– Я стрелять умею. – Подумал и добавил: – Ну ее! Тут и так во многом разобраться надо, голова забита, народ, как Потапыч определил, усталый, забот полно… Да и когда кто ее хотел?! А случится – теперь, думаю, не растеряемся.
А вчера в ожидании катера знакомая женщина рассказывала на дебаркадере (до этого прибегала жаловаться на местную продавщицу – с сахаром обманула, законного мужа от дома отваживает…). Никак не могу обойти этот рассказ.
Вот он:
– Заходит, значит, этот немец, – а я мала́ тогда была, с печки, свесившись, глядела, – заходит и бросает на пол зарубленного гуся. Показывает матери на пальцах: отереби, дескать. Часа через два опять пришел. Мать как сидела на лавке – так и сидит, гусь как лежал посеред пола – так и лежит неощипанным. Немец, значит, топнул ногой и снова сердито лопочет что-то – показывает: тереби! Ну, вернулся он заново, может, через час, а может, и больше… Мать – на лавке, гусь неощипанный – посеред пола. Тогда он, рыжий такой, нестриженый, взял птицу и давай, значит, сам ее теребить. Пух, перья по всей избе! Потом собрал старую бумагу, пакли из паза надергал и поделал из всего этого жгуты. Сунул гуся матери в руки – держи, мол, а сам жгуты поджигает…
– Палить птицу задумал, – вставил кто-то из слушателей.
– Значит, палить… Только – гляжу я с печки-то – он, фашист, горящие жгуты не под гуся, а под материны руки подставляет. Мать не шелохнется, вроде закаменела, и глаза – вот ну, верьте, как с иконы ее глаза были, не перескажешь… Так и вытерпела, все руки он ей, сволочь, спалил и слова от нее не дождался…
– Жива мать-то? – спросили у женщины.
– Жива, – по-хорошему улыбнулась она, – мое дитя выхаживает.
III
Бригадир Свиридов – мужчина без возраста. Тридцать лет ему, сорок? Лицо гладкое, тугощекое, чисто выбритое, и неторопливость во всем, какое-то величавое спокойствие, – в глазах, жестах, разговорах.
– Почему девушка из деревни, спрашиваете, сбежала? Молодая, погорячилась.
– А вы ее письмо в газете читали?
– Газеты надо читать, только всего не узнаешь…
– Чего не узнаешь?
– Что в семье у Гореловых, к примеру, происходит.
– Она же там ясно написала!
– Нам бы про запчасти написать. Нет запчастей к тракторам…
– Вы же здесь тесно живете, всё на виду…
– За всеми глядеть – работать в колхозе некогда будет. А про Таньку вы лучше у своего знакомого, у Глеба порасспрашивайте. Он с ней… как это… гулял. Дружил, если по-городскому…
«Что?!» – чуть не вскрикнула я.
Эге. Хлебушек, какой ты! И молчишь!
IV
Ко мне приходил (приезжал?) Тимоша. Советовал:
– Рывком не бери. А то распишешь так: один пьяница, другой передовик… Жизнь здесь не в год и не в два складывается, и оставшийся в деревне народ по мере сил держит ее. Подумать, то и все решения, постановления сверху исходят сюда. Их выполнять надо. Много радовался и претерпевал наш деревенский народ…
– А Фрол Петрович, брат ваш?
– Зол я на него, не скрою, а по злобе можно и лишнего наговорить…
– Мне с ним необходимо встретиться…
– …Он от папани покойного ухватку взял. Жадный тот на добро был.
– Наемным трудом пользовался?
– Жена, что ль, у него наемная была, мать наша?! Лютой в работе был, беспощадный.
Приглашал:
– Заходи. Корень в лесу чудной нашел. Сделал ему глаз из стеклянной пуговицы, подставочку приладил – ну динозавра вылитая! Хошь, подарю! Москву удивишь.
Проводила его немного. Страшно это: идешь, здоровая, молодая, а рядом катится на тележке обрубленный человек, поспевает… Разговаривает с тобой, задирая голову, в глаза пытается посмотреть, и тебе неловко, противно, как озноб, смущение: а что догадается – о твоем страдании, жалости, сочувствии к нему – догадается?! По-моему, для умной, сильной натуры нет ничего горше, оскорбительней, унизительней знать, что вызываешь у кого-то жалость, пусть даже искреннюю, благочестивую, я бы сказала!
Тимоша как-то признавался:
– Мне бы Цыганочку свою счастьем оделить, выучить.
И еще признавался:
– Живу в напряжении, ожидании. Напрягешься и ждешь: вот-вот чего-нибудь небывалое, доселе не виданное произойдет, диковинное такое, что перевернет все вверх ногами… Начнешь представлять в уме про страны разные. Китай ли, Америку, иль вот Глеб говорил мне, как с других планет прилететь могут, начнешь представлять – и интересные, веришь, картины получаются. И порадуешься: эх, Тимоша, Тимоша, а если б тебя в сорок втором насмерть пришибло, разорвало на кусочки, кто б сейчас вместо тебя широкими глазами за жизнью смотрел?!
Нелепая мысль преследовала меня: где же остались Тимошины ноги?.. До тягостной, растравленной боли, засевшей внутри, осязала я своими нервами, психикой своей эти чужие для меня, эти ч е л о в е ч е с к и е ноги, исчезнувшие из действительности. Я осязала их, к а к с в о и. И было жутко, потому что требовалось самой себе ответить: хватило бы у меня той святой любви к жизни, той веры в главное и настоящее, чтобы сознательно пожертвовать, если нужно будет, своими ногами, собой в конечном счете?
V
За деревней, сгребая тросом солому, ползает трактор. Иду к нему.
На какое-то время, уже вблизи, он исчезает из поля зрения: съехал по пологому склону вниз. Когда подошла: трактор стоит, двигатель его постукивает, а тракторист Федя Конь взобрался на гусеницу, держит руку над выхлопной трубой. Из трубы пофыркивает едкий синеватый дымок.
Пригляделась: батюшки! – над трубой, оказывается, Федя Конь держит за хвостик мышонка, а тот, бедный, трепыхается, дергается…
– Как вам не стыдно, – крикнула, – живодер!
Федя спиной ко мне был – вздрогнул, выронил свою жертву – не то в трубу, как в крематорий, не то на землю. Лицо у него красными пятнами (испугался), губы от пыли черные, – оправдывается:
– Кошку я, допустим, мучаю иль птичку какую?! Хищника полевого.
Соскочил с гусеницы, вытер ладони о промасленные штаны, протянул мне руку:
– Здрасьте!
Ну, прикидываю, этакой ручищей не то чтобы мышонка, меня, сграбастав, над выхлопной трубой запросто подержит…
Разговорились о том о сем – неглупый парень-то. Развивал передо мной идею, что отошло время маленьких, как Русская, деревень. Кинотеатр здесь, к примеру, на тридцать домов строить не будешь, газ сюда проводить тоже невыгодно; не говоря о семилетней, даже на начальную школу детей тут не хватает… Осталось, по его мнению, одно: свозить крошечные деревни «до кучи» – строить большие сельскохозяйственные поселки.
– Где люди густо, там и культура, – разъяснял мне. – А мы у себя затерялись как в галактике.
«Галактика» меня приятно подивила. Галактика и мышонок. Спросила, читает ли книги, какие любит. А любит Федя читать про шпионов, разведчиков да еще «военные»…
– Танюха-то Горелова? – отвечал. – Куда денется! Возвернется.
– А если насовсем из ваших мест подалась?
– Может, и совсем. Россия велика. – Смеется, нагловато, явно дурачась. – Замуж надо, не взбрыкивала б!.. Опять же – большой поселок нужен. А у нас тут Глеб, жених размазанный, да я… У тетки, в Славышино, Танюха-то!..
…Бегут дни моей командировки, и в орбиту знакомств попадают все новые и новые люди. Возникают вопросы, которые, казалось бы, по заданной мне теме я не должна «разрабатывать», и сама тема – хоть и не видела главную «героиню» Таню Горелову – расплывается, разбухает, туманится, и пока совсем не представляю, что напишу в газету о Русской и ее аборигенах. А может быть, это все подступы, многое – необязательное, второстепенное, а главное, основное, – это впереди, его нужно нащупать? Ведь и Фрол Горелов – вопрос, если не самый заковыристый… Встреча с ним – программная задача номер один.
VI
– Хлебушек, съездим в Славышино?
Выждала, продолжаю:
– Там, слышала, церковь диковинная сохранилась. Деревянная, шатровая. Что ж молчал? Обязательно посмотреть! Ну как?
После молчания:
– Съездим.
О Тане он – ни гугу!
VII
Я уже было направилась к заветному месту – песчаной косе – купаться, когда увидела: Фрол Горелов сошел с дебаркадера с ружьем за спиной, закурил и подался через выгон к Русской. Была не была, думаю. Смелее, девочка, зачем откладывать!
Расстояние меж нами было солидное, и, как ни пыталась, поспешая, сократить дистанцию – нагнала Фрола лишь у самой деревни.
– Поговорить? – Он прищурил глаза и ногтем потер свои «фюрерские» усы. – А и ладно. Пойдем в избу.
Просторная горница, где деревянная кровать, увенчанная горой подушек, телевизор на тумбочке, запах сухого дерева и чистых полов, традиционные фотографии в рамках на стене, милые домотканые дорожки, две черные старые иконы в переднем углу (одна в серебряном окладе – Николай-угодник, кажется), непочатая бутылка «Столичной» на подоконнике, открытка с улыбающимся Юрием Гагариным, пришпиленная над численником, и среди всего этого костлявая и угрюмая, с некрасиво выпирающими зубами жена Фрола – Аксинья.
Сел за столом напротив. Внимательный, прямой, не выпускающий меня взгляд. Сказал – отрубил:
– Если о дочери – не получится. Была у меня дочь – теперь дочери у меня нету. Эт давайте договоримся.
– Мне обо всем интересно, – ответила ему, хитрить пытаюсь. – Хочется узнать, чем и как деревня живет…
– Небось на меня карикатуру уже навели. Прижимщик, одним словом…
– Не понимаю вас.
– Сходи на погребец за молоком, – сказал Аксинье. – Пускай гостья холодного попьет… Пообедать не желаете? Грыб соленый ужасно вкусный у нас.
Я отказалась.
– Прижимщик-то? Обрисовали, чего там! Как его… прижимщик… ну да, стяжатель! Стяжатель я.
– На себя наговариваете?
– Зачем? – усмехнулся. – С братом моим, калекой, сдружились, вижу. Он, окромя увечных ранениев, смолоду пыльным мешком из-за угла вдаренный… Затаился на меня. А из-за чего?
Аксинья внесла отпотевшую крынку с молоком, тарелку с белым хлебом – крупно нарезанные ноздреватые куски. Равнодушно кивнул в ее сторону:
– Пока в госпитале лежал, он с ней тута жил, во! Как с женой.
Аксинья вздрогнула, медленно выставила еду на стол, повернулась и пошла из горницы. У порога хриплым, перехлестнутым обидою голосом сказала:
– Бог знает… Отольется ишшо…
Больше я ее не видела.
– Семейное, впрочем, дело, – пояснил мне Фрол. – Зря при вас затеял. Чего нужно, про деревню, да? Спрашивайте. Иль ладно, погодите.
Подошел к тумбочке, на которой стоит телевизор, вытащил из нее большую коробку от печенья «Овсяное». Раскрыл ее – бумаги, документы, голубоватый водянистый «Аттестат зрелости» (дочкин, конечно). Со дна извлек медали: большую, белую – «За отвагу» и еще какую-то желтенькую, с пестрой ленточкой.
– В тридцать девятом восемнадцатого августа был осужден за растрату. Вина моя, как халатного… Доверил – председателем колхоза я был – казенную печать и большую по тем временам сумму денег одному человеку, а он с ними убег. Осудили на десять лет. Из лагеря в сорок втором направили в штрафной батальон, где после первой боевой крови был произведен в ефрейторы и отчислен в нормальную часть – ездовым в сто пятьдесят четвертую стрелковую дивизию. Вот награды. А эта бумажка – мирная, грамота почетная за леспромхоз. Эт с одной стороны…
– А с другой, – непростительно озлясь, перебила я, – дочь ваша пишет: браконьерствуете втихомолку, наживаетесь…
– Пейте молоко, – пододвинул он мне кружку. – Разговора средь нас не выйдет.
– Извините, – бормочу, – письмо было напечатано, его не обойдешь…
Молчит. Ладонью, как блюдцем, пытается накрыть солнечный зайчик на столе и накрывает – только зайчик все равно сверху, на его толстых, поросших коротким волосом пальцах. Кляну себя за несдержанность. И нужные слова не находятся. А он курит, и дым волнистыми кольцами вытягивается в форточку. Непонятно, почему лишь форточка, а не целиком окно распахнуто, – солнца-то сколько снаружи! Курит. Молчит.
– Фрол Петрович, – опять прошу извинения, – надо продолжить нам беседу.
Не сразу, раздумчиво отвечает:
– Со следователями и особистами встречался – сдержанные, образованные люди, вежливостью берут. А дочь была – и моложе вас, и несдержанная тож… Образовывал ее.
Тянет из коробки от печенья «Овсяное» плотный, сложенный вдвое «Аттестат зрелости».
– Учил.
Неожиданно, резко, сверху вниз, рвет аттестат, и еще – раз, раз, крест-накрест… Шепчу – голоса нет:
– Что делаете?! Это же государственный… документ государственный!
Клочки аттестата – на полу. Сидит ссутулясь. Потом встает – наверное, чтоб поняла: хватит, наговорились… Нет, разомкнул рот:
– Браконьерствует, можть, вся деревня. Доказать возьмись. А что вожу со своего огорода на базар лук, овощ разный – это почетно. В изобилии участие принимаю. Партия и правительство за изобилию в народе печется. Скот разрешено в хозяйстве держать, комбикормом снабжают…
Ухожу. Провожает до калитки. Какое-то гаденькое, трусливое чувство во мне – чуть ли не желание подлизаться к Фролу. Честное слово. Стыдно, но было, было! Как за соломинку хватаюсь за проблему маленьких деревень, – вспоминаю разглагольствования Феди Коня. Пытаясь внешне казаться спокойной, интересуюсь, что на этот счет – о переселении в большие поселки – думает Фрол.
– Я от крестьянства отколотый, мне все одно, – трогает усы, скребет их ногтем. – А когда-то при земле был. Землю пахать – ее руками щупать надо. Ухом к ней, бывалыча, приложишься, чтобы дыхание ее определить, – простужена она еще иль время зерно в борозду бросить… Поспеют хлеба – ночью вдруг ветер с норовом засвищет и бегешь в одних подштанниках смотреть, не полегла ли пшеница. Во как. А издали? Власти решат, они у нас умные… Можно перевезти, чего тут… Землю вот как перевезешь?
…И не могла ни о чем думать.
VIII
Мне хочется понять узаконенный временем и привычками ход жизни в Русской. Вижу людей, разговариваю с ними, теряясь перед необъяснимостью и загадочностью их характеров, поступков. Я чужая здесь, случайная, как не в своем государстве, когда приехавшему гостю снисходительно прощают незнание обычаев, когда из-за вежливости не смеются над наивностью его расспросов и представлений.
Я человек с легкого городского асфальта, мне дано официальное право разговаривать с бригадиром Свиридовым о необходимости воспитывать у молодежи любовь к земле. Он соглашается, поддакивает, и чем больше поддакивает, тем яснее, обнаженнее чувствую шаткость и условность своего «официального права». Фрола Горелова слова: «Землю пахать – ее руками щупать надо…» А Свиридов соглашается: говори, приезжая дамочка, говори; ты напишешь для себя, а мы вскоре забудем, что мельтешила здесь такая – с карандашиком в руках, ведь нам пахать… «Елочки, – говорю ему, – красивые какие! Из леса выбежали и на лугу застыли…» – «Красивые, – отвечает, правда, а, вишь, недосмотрели вовремя. Луг они нам сгубили, елочки-то, корчевать надо…»
В редакции друг и наставник Василь Дюков выражается твердо и непререкаемо: «Журналист – не регистратор фактов. Он боец прорыва, а точнее – активно вмешивается в ход событий. Мы не раздаем наград, но после яркого газетного выступления человеку, герою очерка, могут дать орден, – были такие случаи! Мы прямо не пользуемся статьями и параграфами судебного кодекса, но после газетного выступления прокурор может возбудить против того или иного лица уголовное или прочее дело… Мы – разведчики. Помните это, гвардия литсотрудников, – в наступление! А обозники, сентиментальные душки пусть пасутся где угодно, но не в нашем отделе!..»
Итак, согласно установке моего шефа и если следовать ей, я «в наступлении», «в прорыве», «разведчик», я обязана «вмещаться в ход событий». По письму незнакомой девушки мне требуется четко расставить по местам фигуры – что-то развенчать (привлечь к ответственности), что-то утвердить (представить к ордену).
«В чем вы видите смысл жизни?» – вот вопрос, на который (со всевозможными ухищрениями!) пытаюсь получить ответ от каждого из своих новых знакомых. И кое-кто, на мой взгляд, уже высказался.
Тимоша Горелов (моряк). Я ужаснулся, а теперь хочется согласиться с собой…
Захар Купцов (заглядывая в мой блокнот, важно). Пиши: дождаться светлого торжества коммунизма!
Свиридов (долго не понимал, чего я от него добиваюсь). Два новых трактора б нам, а еще невозможно, когда запчасти не достанешь…
– Тракторы, допустим, будут, и запчасти будут. Что тогда?
– Еще чего-нибудь не будет.
– Представьте, что все будет…
– Такого не бывает.
Федя Конь. Маху дал! Все кореша после демобилизации на стройку в Сибирь двинули, а я сюда – сельское хозяйство поднимать. А вот сейчас чего я, беспаспортный, могу? Влип по уши. Чего я могу, что мне желается?!
Председатель колхоза. Печень болит, на пенсию б пора, а я семена клевера добываю. Пораскинешь: уйдешь на пенсию – и не будет клевера, и так: уйдешь – и будет клевер.
Потапыч. Эх, Люда, был род Самохиных – раздробила жизнь. Кажное растение корни пускает, а мы навроде перекати-поля…
Глеб. Я над этим думаю.
IX
К вечеру на песчаной косе – очередное знакомство. Этакий провинциальный полубог на моторной лодке, надменный и с девственным интеллектом. Рыбный начальник Спартак по фамилии Феклушкин.
Как это он?
«…Меня не затруднит доставить вас к собору. Любите русские древности?.. Заранее прошу прощения: свободного времени мало. Думаю, за час обернемся туда и обратно… У вас что за книга? Ну, об Эйнштейне почитайте лучше немца Зелига!.. Прыгайте в лодку. Не бойтесь, не перевернется…»
О Глебе.
«…Вы о Глебе? Мечется. В наши дни много таких… пестреньких. На большое не способны, из малого выросли. Что? Оглянитесь, посчитайте! Говорите, побольше бы таких, как он? Неуспокоенный, в поиске, себя ищет? А что мешает ему проявить волю, силу, дело себе выбрать мужское, чтоб нервы в напряжении, чтоб сам себя уважал!..»
О смысле жизни. Скаламбурил:
«Чтоб в жизни собственной был смысл».
Еду к нему на остров.
??
P. S. А записывать о нем – это не о Феде Коне или о ком другом: так вот, по первому впечатлению, не втискивается в строчки.







