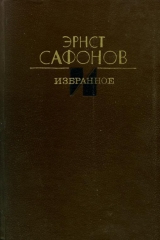
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
ГОЛОСА
Глеб бредет вдоль берега. Чуткая ночь, богатая звездами, с едва уловимой прохладой, и река – еле различимая, как небо, а приглядеться – небо лежит на ней, замочило свои звезды… Какая долгая эта ночь!
Хоть далеко ушел от них, шарят по нему, хватают за локоть, за рубашку – потные и слабые руки Потапыча. Там, в комнате, они искали в нем опору, поддержку, а он, высвобождаясь, бормотал: «Спать ложись… Напился – спи!.. Кому сказано: спи!..» И впервые почувствовал он брезгливость, брезгливую жалость – ко всему, что было сейчас в Потапыче, к неряшливому телу его и к путаным словам его. Почувствовал, а в самом себе густел, обволакивал все, расползался испуг: родной же ведь он, старик, по крови родной, единственный…
Он иногда приходил перед сном, садился на койку у Глеба в ногах, проминал пальцем свой пухнущий живот, щурился и будто ждал, что вот сейчас Глеб скажет ему что-то такое – важное, настоящее, необходимое для них обоих… А Глеб тяготился неумением с к а з а т ь, курил, и старик со вздохом шел к себе. А однажды он сам сказал Глебу:
– Я ночью себя проверяю.
Глеб удивился:
– Как?
– Слушаю себя, сколько во мне жизни осталось.
– Ты здоровый еще, молодец ты.
– Думаешь? Я же не тело слушаю, а это… ну дух, что ли… Дух!
– Как же ты его… слышишь? В Бога вроде не веришь, и – дух!
– При чем Бог, при чем! – рассердился тогда Потапыч. – Дух – это смысл, наша полезность в жизни, доброта. Если это еще есть, жить можно, значит.
До Глеба вдруг доносятся голоса, невнятные, неразличимые, но их много, – у дебаркадера они, и там луч карманного фонарика бьет в небо, как прожектор. Что еще такое? Что за люди, откуда они ночью? Татьянка, где она? Ну-ка – бегом! Бегом… И не то мягкая, с травянистым покровом ночная земля странно звенела при беге, не то прямые струны его нервов натягивались до предела – со звоном.
А добежал – снаружи никого, втянулись внутрь, видны колыхающиеся тени в окнах зала ожидания. Рванулся по трапу на палубу и застыл в проеме распахнутой двери.
Он не сразу разглядел, кто из мужиков здесь, – милицейскую фуражку увидел, качание темных и светлых голов, какую-то тетрадь, в которую записывали; и увидел, что на скамье в грязных сапогах лежит Спартак Феклушкин, – бобровский лысый фельдшер Ситников копался руками у него на груди, и руки фельдшера – красные от крови, а лицо Спартака – белое, с закрытыми глазами. На коленях, склонившись к Спартаку, стояла Люда, и через плечо у нее на узеньком ремешке висел транзистор, – в нем шуршало и потрескивало. Она заметила его, хотя не отрывала взгляда от Спартака и ужасных рук Ситникова, – заметила, потому что по-чужому и, показалось ему, с ненавистью сказала:
– Он звал тебя. Почему не приехал?
«И опять сегодня, – подумал он, – в один день. Все сразу!»
…Он стоял и смотрел.
Милиционеров было трое. Один писал в тетрадь; другой глядел на фельдшера и Спартака, опираясь на его, Глеба, ружье, – да, это была двуствольная, ему принадлежащая «тулка», у которой цевье аккуратно и красиво перетянуто витком алюминиевой проволоки!.. «Ружье!..» И он вслушивался, как Федя Конь, хлюпая разбитым носом, плаксиво объяснял третьему милиционеру случившееся; объяснял милиционеру и всем, кто был здесь. Они вместе сидели на отдельной скамье – Федя Конь и насупленный Фрол Горелов, оба мокрые с ног до головы, так что растекались, ширясь, возле них на полу лужи.
– Когда стали настигать нас, – запинаясь и отсмаркиваясь в пальцы, говорил Федя, – сетку бросили мы, в камыши ткнулись. Одна моторка близко, по ту сторону камышей… «Пужани», – Фрол шепнул, и рукой за ствол ружья, и повел стволом-то… Стрельнули, поверху хотел-то я, а Фрол стволом повел, а там, с лодки, как закричат… Корреспондент кричала… «Чего ж ты, Фрол, наделал, – так и обмер я, – куды ж стволом нацелил…» Вот Спартака подранил…
– Напраслину возводишь, – сурово перебил Фрол, кепку скинул, привстал со скамьи. – Не виноват я, гражданы…
От мужиков, что стояли в сторонке, отделился Захар Купцов, придвинулся к Фролу, свистящим шепотом выкрикнул:
– Раскрылся… Враг классовый!
И, взмахнув суковатой палкой, с силой ударил Фрола по голове; на лбу Фрола пробрызнулась багровая полоса – закачавшись, он осел на пол; к Захару кинулись – хрустнула его палка. Милиционеры кинулись к дерущимся… «Отставить!» И еще закрепилось в, памяти у Глеба: кривились губы Спартака, силился он поднять голову, и Люда с фельдшером Ситниковым удерживали его…
– Это мое ружье, – сказал Глеб милиционеру.
Тот кивнул:
– Запишем. Надо будет – вызовут.
– Можно я уйду?
Он вышел из зала, и далеко идти – сил не было. Упал на берегу, зарываясь лицом в теплую влажную траву; успел подумать про Татьянку (почему же не пришла?) – и навалилась на плечи ночь…
Ему виделось, что Люда и Антонина Николаевна Феклушкина озабоченно поддерживают с двух сторон рассветный шар солнца, который только что выкатился из-за кромки земли; вернее, это даже не шар, а нестерпимо-красный плоский диск, это багрово отсвечивающее гигантское зеркало, и Люда с Антониной Николаевной, с трудом управляясь, наводят такое диковинное зеркало на него, Глеба, стараясь, чтобы от холодного плещущего света он непременно бы открыл глаза. Кто-то задал им неприятную для них и, конечно, для Глеба работенку, они должны ее делать, но делают без старания – занимает их собственный разговор:
Люда. Милиция больше никого не взяла в машину. Спартака уложили, арестованных забрали, фельдшера еще… А вы с первым катером можете поехать…
Антонина Николаевна. Он спрашивал про меня, да?
Люда (помолчав, твердо). Нет.
Антонина Николаевна (убежденно). Как предчувствие или, как называют, – телепатия! Надо же: просил немедленно, в ночь, быть на острове… Просил меня быть! Что это, по-вашему, Люда?
Люда молчит.
Антонина Николаевна. Вы чудесный человек, Люда, и я верю: поправится Спартак, а мой муж не будет долго в больнице – о! надо знать его волю! – и мы навсегда останемся большими друзьями, так ведь, Люда? Друзьями, Люда.
Люда (рассеянно). Да… конечно… А вы уверены, что он быстро поправится?
Антонина Николаевна (нервно). Когда же придет катер! С ума сойти…
Голоса как бы отодвинулись, солнечный диск растворился в невидимых волнах, – Глеб, перебарывая себя, уже готов раскрыть глаза, и уже не дрема, а пугающая ясность происшедших событий какое-то время еще держит его в оцепенении – на грани сна и яви. Импульсивно, кинжальными вспышками возникают в нем, сменяясь, видения минувшего дня; перекошенный криком рот Тимоши, трясущиеся пальцы Потапыча, кровь на рубахе Спартака, злые слова Люды, Захар Купцов, взмахивающий суковатой палкой, милицейские фуражки с красными околышами… И что-то стыдное – в том, что он уснул, спит, а все другие – обеспокоенные, встревоженные; все другие – в жизни, а он как бы выпал из нее, он так, со стороны… И смутное, нарастающее чувство вины: стреляли в Спартака, а могли бы стрелять в него или в них обоих… Ружье! Его ружье!..
Бессилие и ярость; он застонал, а взволнованные руки легли на его лоб, трогают щеки, пытаются приподнять его голову. Он угадывает эти руки, он доверяется им, как своему спасению, подчиняется их требовательной женской силе, размыкает веки: на фоне лазоревого утреннего неба склоненное к нему лицо Татьянки.
– Вставай, – сказала она требовательно, – а то уезжаю…
– Куда? – тут только он окончательно приходит в себя: спал на берегу, и вон неподалеку отрешенно сидят Люда и Антонина Николаевна, курит на взгорке небритый бригадир Свиридов, лежит подле него хуторской Гришка, две деревенские женщины с хворостинами в руках (стадо провожали) сочувственно рассматривают Люду и Антонину Николаевну, а на быстрине весело гудит приближающийся к дебаркадеру катер… И наступившее утро, и люди, пережившие ночь, – это как продолжение всего, что случилось.
– В город еду, чтоб там его… увидеть… отца увидеть, – говорит Татьянка. – Пустят к нему? Проснись же!
– Ты плачешь?
– Нет, – сердито отвечает она и трогает кончиками пальцев влажные ресницы.
– А Спартак? – шепотом спрашивает он; ему снова хочется посмотреть туда, где сидят Антонина Николаевна и Люда, но перед глазами – круглые шероховатые колени Татьянки с прилипшими блеклыми травинками, и надо привстать или отклониться, чтобы увидеть что-то другое, – круглые колени, и в них он готов ткнуться воспаленным лицом, потереться о них зажмуренными, налитыми тяжестью глазами.
Подходит Люда, и ее грустная – на мгновенье – улыбка, как прощенье ему за все; она обнимает Татьянку за плечи, и он, поднявшись, смотрит им вслед: идут к причалившему катеру. Впереди строгая Антонина Николаевна; твердый у нее шаг, и все же, несмотря на эту твердость, что-то до неловкого жалкое и трогательное в ее фигуре: не оттого ли, что остро и некрасиво выпирают лопатки под блузкой, и вся она – напряжение, вся приглушенный горький вскрик.
Люда и Татьянка с палубы махнули ему рукой, но сделали это неловко, поспешно, обе оглянувшись на скованную Антонину Николаевну, будто устыдившись, будто вольность какую-то позволили себе. Он жадно, с надеждой глядел на их удаляющиеся лица; катер вскоре стал размером с водяного жучка, а когда осилил плес, исчез из виду.
«Не насовсем же они, – думал Глеб, – увижу я их. И Спартак будет жить… А Татьянка так и поплыла: травинки на коленях… Они с Людой обо всем уж, наверно, поговорили…»
Подсел ближе Свиридов, и Гришка с Мокрого Хутора, ленясь встать, подполз на локтях.
– Припаяют теперь Коню с Гореловым, – вздохнул Свиридов и вдруг засмеялся: – Хорош! Ишь, за себя и за нас наклюкался!
Они посмотрели, куда указывал пальцем Свиридов, – и Глеб вздрогнул. Он почему-то забыл, что кроме других, увиденных им сейчас людей, кроме всего, что окружает, есть еще Потапыч, его – Глеба – боль; забыл и не сразу бы, может, вспомнил, не появись тот сам на палубе дебаркадера.
Потапыч пошатывался, не замечал или не хотел замечать их, сидящих на берегу, – так, наверно, ему было все равно. В чистом незамутненном свете начинающегося дня он выглядел особенно чужеродно и нелепо – опухший, заспанный, равнодушный, никого и ничего не стесняющийся: расстегнул брюки, долго и обстоятельно мочился в воду. Свиридов отвернулся и сплюнул; с досадой сказал:
– Вы еще сделаны не были, нигде не значились, а он уже трудился. Были б живые дети – в них жизнь, развитие, – вкалывал бы он навроде меня… А вы, молодые, на одно гоже: судить стариков! А не вам судить!
– Ой ли! – Гришка присвистнул. – Нашему почтарю шестьдесят верных, если не с гаком… Самый, самый старик! А вчера мою жену в овраге встрел – поиграться с молодой бабой задумал, а! От нее по роже сгреб, и я встрену – придавлю его, козла старого. Старик – и я ему судья!
– Тоже мне судья! – лениво отозвался Свиридов. – Я про сурьезное, про детей, а он про бабу, да как бывает… Ежели хошь, баба завсегда сама виновата.
– Как это?
– А зачем она, к примеру, в овраг поперлась? Ага, не спрашивал! А ты спроси. Ты наперед узнай. Какой же тогда судья? Верно, Глеб? Потом, узнаешь, суди…
– Узнаю, – погрозился Гришка: не то жене издали погрозился, не то Свиридову или почтарю.
Глебу было не до их трепотни, она раздражала его своим пустословием. Потапыч по-прежнему на палубе, растерзанный и отрешенный, – покачивался, мял пальцами живот… «Стой, стой, а газета?! Чего же это я – там газета, у него оставил. Он в нее смотрит и смотреть будет… ТОТ, ЧТО С ИЗУВЕЧЕННОЙ РУКОЙ, ИДТИ НЕ МОГ, ПЛАКАЛ, ПАДАЛ… КИРОВА ТОГДА МУХИН ВСПОМНИЛ… ФРОЛ СТВОЛОМ ПОВЕЛ… КОРРЕСПОНДЕНТ КРИЧАЛА… ГОДЫ РАБОТЫ, И – НА ВОСЕМЬ СЕКУНД ВСПЫШКИ!..» Спартак рассказывал о циклотроне, ссылался на 102-й элемент из таблицы Менделеева, а в журнале – уже о новом, 104-м, получившем имя Курчатова… ОБЕЗРЫБЕЛИ РУССКИЕ РЕКИ… НА ОСТРОВЕ СПАРТАК ИВАНОВИЧ ОСЕНЬЮ ЗАЛОЖИТ САД… Я ЛИЧНО НЕ СТРЕЛЯЛ…
– Мужики, – Глеб ощутил сухость во рту, знобкую дрожь к теле, – мужики, а ведь он мог убить Спартака. Убить!
Он широко раскрытыми глазами смотрел на сморенных недосыпанием и горячим солнцем Свиридова и Гришку; он весь был во власти этого неожиданного для него, только что возникшего ужасного предположения: а вдруг бы от ночного выстрела Спартак погиб?! Не ранили бы его, а с о в с е м.
– Чуть левее – и в сердце, – подтвердил Гришка. – А что, выстрел – он дурак… Тогда б, думать надо, на суде прокурор для Коня в ы ш к у б затребовал…
– Понимаешь, Свиридов, – Глеб почему-то выбрал Свиридова, – он его убить мог, пусть случайно, а у Спартака свое есть, чего у меня или у тебя нет, мысли свои…
Он должен был в чем-то убедить и себя, и Свиридова с Гришкой, – в том, наверно, в чем и не надо никого убеждать: смерть всегда нелепа, преступна, потому что насильственно обрывает мир думающего, деятельного человека. А мир этот – у каждого свой, неповторим он, и держится в конечном счете на мечте: завтра будет лучше, чем сегодня…
– При службе, известно, Спартак состоял, – по-своему понял Глеба Свиридов. – Повредили его – и остров голый, река беззащитна.
– Пришлют другого голубя.
– И то.
– А я возьму, – сказал Глеб, в себе самом не удивляясь неожиданному решению. – Спартак сам меня звал! Я возьму остров.
Он стоял над ними, раздергивал жаркий ворот тенниски; они, подняв головы, снизу смотрели на него. Свиридов пытался что-то говорить, но Глебу было не до его слов. Он видел в этот момент город, видел так зримо, что даже у г а д а л слабую желтую травку, которая упрямо пробивается по краям асфальтированных тротуаров; угадал запомнившиеся ему автоматы газированной воды на площади Первого Космического Полета, трещины на гипсовом монументе в честь Первого Космонавта, еще угадал за неровным стеклом милицейского «стакана» сердитое лицо рябого сержанта-регулировщика; и поверилось ему, что в одном из подстриженных скверов высмотрит он на скамейке Татьянку и Люду, которые разговаривают и разговаривают, и они проводят его до больницы, где лежит Спартак. Там он и п р и м е т от Спартака остров.
– Оглох? – Свиридов тоже поднялся, стоял рядом и, обращая на себя внимание, даже ткнул Глеба кулаком в живот. – Что мы тебе с Гришкой, послушай… Федьку-то Коня забрали… Оглох, что ль? Федьку-то забрали, а трактор его стоит! Какой тебе остров – трактор вот! Принимай его.
– Мне в город надо, – одержимо ответил Глеб.
– Плевать, гуляй в городе день-два, обождем, – покровительственно, как бригадир, разрешил Свиридов, полагая, видимо, что своей последней фразой Глеб почти высказал согласие принять беспризорный трактор. – Кабину он, стервец, помял, а так – машина новая.
Тут с дебаркадера что-то крикнул Потапыч, и не им, может, крикнул, а вообще – в пространство; они взглянули туда, на него. Потапыч как-то так, вроде и не по-настоящему, неохотно переваливаясь через перила, падал за борт, – не по-настоящему, а на самом деле. Темным серебром взметнулись брызги; Глеб, Свиридов, Гришка бросились к реке, и Глеб (в одежде, конечно) первым достиг того места, где вода скрыла под собой Потапыча. Он нырнул, и сразу же в мутной зелени у дна наткнулся на него, на темный, без особых форм предмет, мягкий и недвижный, – рывком, ухватив за что-то, вытолкнул его вверх, и в какой-то момент показалось, что не выдержит, опять тело Потапыча уйдет на глубину – такое оно страшно тяжелое и неподатливое… Помогли подоспевшие Свиридов и Гришка, подняли на палубу, делали Потапычу искусственное дыхание, давили ему на грудь, дергали за руки, пригибали к животу его ноги, и хлынула из нутра Потапыча обильная вода, рвало его и корежило, и это означало: жив!
– Пусть просыхает, – сказал Свиридов, – и ты не мандражи. А ему б по роже, сивому хрычу, надавать. Кино устроил.
Он несильно и зло ткнул приходящего в сознание старика мокрым сапогом и пошел с дебаркадера, а за ним и Гришка двинулся, потому что уборка хлебов, трудиться им надо, а к дебаркадеру тянулся другой народ – мужики на леспромхозовскую баржу, женщины, нагруженные корзинами и бидонами, – эти на рынок; подкатил дальний хромой почтальон на мотороллере. Солнце дробилось в реке: если на небе оно было одно, то в воде отражалось несчетное количество раз; ласточки с шорохом носились в воздухе; в деревне кто-то визгливо приказывал (и было слышно за версту): «К моей корове, слышь, быка не подпускай!»; невнятно, трескуче гремел репродуктор (тоже в деревне): что-то про угрозу войны; блестел фальшивым золотом купол реставрированного собора, – и все это, как и мужики, собиравшиеся к работе, женщины, озабоченные предстоящей куплей-продажей, тот же почтальон, все подтверждало невозмутимость, последовательность и, пожалуй, обязательность здешней жизни.
А через сожженный зноем выгон, ловко отталкиваясь деревянными лопаточками, на своей тележке спешил к дебаркадеру Тимоша Моряк – с разговором к Глебу, со жгучими вопросами о смысле бытия.
1964—1965
МИМО И НАВСЕГДА
Инженер-мостостроитель Ижиков ехал с семьей из Средней Азии в Прибалтику, к месту своей новой работы. Когда перегретый поезд достиг срединной России, замелькали снаружи березы, стожки на спокойных лугах, серые крыши близких деревень, засеребрились мелкие, в высокой траве речки, он уже не отходил от окна. Курил, бессознательно улыбаясь; на стоянках выбегал из вагона, приносил жене и детям бумажные кульки с земляникой. На землянику, видно, в этот год был урожай, бабы и ребятишки поджидали с нею на каждой станции, и вскоре весь вагон пропах сладкой лесной ягодой, стал вроде бы прохладнее и чище от этого особенного запаха.
В душе Ижикова еще держались и жили видения Киргизии, ее высокое синее небо, снежные шапки на вершинах гор, островерхие тополя над мутными арыками, шум капризного горного потока, поверх которого вознесся ажурный мост, построенный им, Ижиковым, – все это еще присутствовало, но уже уходило, отодвигалось, тускнело в перестуке вагонных колес, в новых видениях, открывшихся взору. Ижиков волновался, невпопад отвечал жене, думал, что человеку в его короткий век все же дано многое – увидеть, перестрадать, испытать тихое счастье и сжигающую страсть, в чем-то убедиться и что-то не принять… Он думал бессвязно, но мысли были хорошие, об одном, в общем-то, – о счастье жить на белом свете.
Он понимал причину своего волненья, и, конечно, не только вид земляники в бидончиках и туесках, продаваемой на станциях в пакетиках из вырванных наспех тетрадочных и книжных страниц, – не только это встревожило его, заставило в себе самом ярко высветить кусочек прошлого… Сейчас будет тот разъезд, коричневая железнодорожная будка с колодцем перед ней, – сейчас будет, минут через десять – пятнадцать, ведь уже проехали Ряжск, а это рядом, совсем близко от Ряжска… Ижиков закурил по новой, высунулся из окна, жмурясь от теплого солнечного ветра, – поезд, изгибаясь, летел в зеленую даль.
Разъезд проскочили, не сбавив скорости; будка, на миг замерев перед Ижиковым, отбросилась назад, но жадным зрением он успел что-то выхватить для себя – и знакомый колодец, небритого человека в форменной фуражке, поднявшего флажок, развешанные на веревке простыни, кучу хвороста у крыльца, стайку белых кур… «Кто живет теперь здесь? – прикрыв глаза, подумал Ижиков. – Я мимо, а они живут здесь…»
* * *
Лет четырнадцать назад, тогда студент-практикант на строительстве третьеразрядного моста, он вышел к этой будке, перепутав проселочные дороги. Умыл потное лицо из колодезной бадейки, осмотрелся, думая спросить, как дойти до города, но никого не было видно, лишь миролюбиво виляла хвостом длинноухая собачонка да огнистый петух из-под лопухов пробормотал угрозы-предупреждения… Была открыта дверь сарая, Ижиков направился туда, заметив уже, что там кто-то есть, светлеется платьем.
На ворохе свежескошенной травы стояла на коленях молодая женщина в цветастом сарафане, выбирала из травы кустики земляники. Она подняла голову, открыто улыбнулась, как знакомому; сказала чуть нараспев, не поднимаясь:
– А ты с моста ведь! Ездила к мамане, видала там такого… усатенького!
Рассмеялась, а он смотрел на нее, скованный застенчивостью и тем, как она просто с ним обращается, какая красивая она, и хотел легко, под стать ей, что-нибудь ответить – и не мог. В полусумрачной глубине сарая в солнечных полосах, пробивающихся через щели, дрожала золотистая пыль; было здесь душновато, отдавало накаленной жестяной кровлей, пересохшими березовыми вениками.
– Хочешь ягодку? – опять засмеялась она, неспокойно и зазывно, помахала пучком земляничных стебельков.
Он приблизился к ней, тоже опустился на колени, стал шарить руками по траве, стараясь не смотреть на ее близкое обнаженное плечо и на то, как, наклоняясь, она показывает в вырезе сарафана свою высокую сильную грудь.
– Кушай, – шепотом сказала она, поднесла ладонь с ягодами к его рту, туго прижала ее к его губам, – он задохнулся, ощутив вкус земляники и горячее тепло; увидел требовательные глаза, обращенные к нему, – и все произошло мгновенно, просто, на едином вскрике, как, наверно, бывает в природе, у тех же вольных зверей, ослепленных желанием и не подвластных условностям… После она с закрытыми глазами подняла руку к его лицу, разжала сжатую ладонь, вымазанную раздавленной земляникой, и тут же бессильно уронила ее.
– Встань… тяжело… – подтолкнула локтем.
Он послушался; не знал, говорить ли что или молчать, – оцепенело стоял спиной к ней, в дверном проеме сарая, слыша ее дыхание, шелест поправляемой одежды, – и прыснула смехом она, сказав, что всюду набились травинки и от этого щекотно.
Вдруг заметил он, что краем железнодорожного полотна, по тропинке, уже близко, идет к будке человек – молоток с длинной рукояткой у него, зачехленные сигнальные флажки на поясе путейской тужурки с посверкивающими металлическими пуговицами, и, скорее всего, это обходчик.
– Муж, – сказала она; ее пальцы коснулись спины Ижикова. – Ступай себе…
Мужчина, толстенький крепыш, свернул с тропинки на луг, к теленку, привязанному длинной бельевой тесьмой к колышку. Он поднимал ноги теленку, распутывал его; теленок был маленький, крутолобый, с белой звездочкой в междурожье, курчавый и рыжий, пускал веселую струйку. Солнце тоже было светло-рыжее.
– Боря, – услышал Ижиков, как громко позвала она мужа, – покажи дорогу парню!
Железнодорожник опять от теленка поднялся к тропинке, подождал, пока Ижиков поравняется с ним, подошел, подал руку, корявую от тяжелой работы, – ухмыльнулся, широколицый, в редких глубоких рябинах… Он расстегнул нагрудный карманчик тужурки, достал оттуда, продолжая ухмыляться, круглое зеркальце, протянул Ижикову. Тот посмотрелся: весь рот и подбородок были у него в красном – от земляники, и даже кончик носа был вымазан ягодным соком… Ижиков, не отыскав платка, плевал на трясущиеся пальцы и тер ими лицо, а мужчина деликатно засмеялся; наконец и Ижиков нервно засмеялся, – смеялись оба. Так и пошел Ижиков прочь, дергаясь пунцовыми щеками.
Изрядно отшагав вдоль рельсового пути, он оглянулся. Они стояли рядышком возле колодца, смотрели ему вслед. Ижиков бросился в лесополосу, обдирая колени о колючий кустарник, – упал в траву. Она была сухая, прикопченная паровозной гарью. Если бы в этот момент Ижикову приказали: умри! – он согласился бы, пожалуй, умереть, преданно подумав о женщине, которую он уже любил как никто другой и ради которой его молодое доверчивое и ослепленное сердце было готово на все…
До сумерек лежал Ижиков в кустах, содрогаемый грохотом проносящихся мимо составов; улыбался плывущим по небу желтым, постепенно багровеющим облакам, своим встревоженно-радостным мыслям… Тесно ему было от переизбытка собственной силы, когда даже твердая земля, в которую он упирался ладонями, уходила куда-то вниз, ускользала, оставляя ему ощущение полета и беспрерывного кружения… «Что же делать теперь? – спрашивал он себя. – Можно разве так – уйти? А она?» Ему казалось, что помимо всего особенного в происшедшем с ним уж очень по-особенному смотрела она, как уходил он, – будто бы вернуться звала. И утверждался в правоте догадки своей: «Звала!»
На то место, где лежал он, выбежали заигравшиеся мальчик и девочка, перепугались, попятились – у мальчика в руках была авоська с двумя поджаристыми буханками. Ижиков внезапно почувствовал, что он ужасно голоден, поманил мальчика пальцем, попросил отщипнуть ему хлебную корочку, – тот отломил чуть не полбуханки, бросил хлеб Ижикову и кинулся прочь; девочка, замешкавшись, метнулась за ним, – лишь округлые глазенки сверкнули да отозвались шорохом кусты…
Давясь, икая, ел Ижиков теплый хлеб, и откуда-то издалека наплывала неясная грусть, – вроде бы завидовал, что в мире были и всегда будут такие вот маленькие дети, беззаботные, которым до определенного возраста не нужно переживать, мучиться, как переживает сейчас он, Ижиков; а ведь он тоже недавно – каких-нибудь десять лет назад – был ребенком, любил сахар, вырезал ножницами картинки из старых журналов… «Что же делать? – спросил он себя вслух, поднимаясь с травы. – Что? И как она может… могла… сказала: «Боря, покажи дорогу парню…» Нет, я определенно дурак, мечтатель, выдумщик, тут просто, как дважды два…»
Он махнул рукой и решительно зашагал в сторону города, мимо темных сосен и живой изгороди из шиповника; тусклая синеватая луна качалась над ним. Фантастичным осколком какой-то иной, далекой жизни пронесся стороной сияющий огнями пассажирский поезд, оставил после себя взвихренный воздух и слабый гул рельсов… Томилась грудь – и когда лежал в посадках, и сейчас – шел когда. Бессознательно чудилось Ижикову, что этой летней ночью обязательно откроется что-то в нем самом – вроде бы он найдет что-то, поймет, определится, и завтра ему будет легче разговаривать в прорабской, он, наверно, пойдет с рабочими пить пиво в ларек, куда еще ни разу не ходил, непременно поправит инженера Котова, чтобы тот называл его не Ёжиковым, а как надо – Ижиковым, и вообще все увидят, какой он толковый, размашистый, твердый человек, вовсе не наивный в свои девятнадцать лет… Нужно быть смелее, всегда и во всем мужчиной, сказал он себе, и – стой, подожди! – нужно пойти назад, к железнодорожной будке, обязательно нужно, а то что ж, скрылся, получается, был и нет, а она вдруг ждет, зажгла лампу, сидит у окна… Он явственно представил ее, как в кино увидел, сидящей у окна, красивую и печальную, – увидел, испугался, что опоздает, обругал себя тупым и сволочью, побежал – теперь уж туда, к разъезду… Она же говорила: «Ездила к мамане, видала…» Значит, не так чтоб сразу все это, а знает она его, приглядывалась, выбрала среди других (а их на мосту двадцать четыре гаврика!), отыскала родственное в нем, близкое, и плохо, жутко ей, наверно, наедине с мужем. Он грубый, жадный, кулак по натуре, конечно, а она, вполне возможно, выдана за него насильно, не по любви, по расчету… Ах, какой ты гад, Ижиков, ах, сопляк еще какой! И ушел бы в город, ведь чуть не ушел!
Бежал он, ругая себя и озаренный желанием встречи. Как у огрузшего коня, пущенного в галоп, что-то екало у него в боку, хотелось пить; он жмурил глаза, тряс головой, вспоминая, какие у нее руки, какое сено там, какой был зной и вообще все какое было… С ума сойти! Ах, Ижиков, что же все-таки делать будешь?!
Будка высветилась издали, горел действительно в окнах свет, отбрасывался в палисадник, освещая тонкие кривые стволы яблонь, выбеленные мелом. Одно окно было распахнуто – створками наружу; Ижиков с расстояния увидел в этом окне мужа ее – Бориса, так ведь? – одетого в знакомую форменную тужурку. Он сидел вполоборота к улице, хлебал из глубокой миски деревянной ложкой, задумчивый, лениво-расслабленный…
Ижиков подкрался совсем близко, затаился за высоким колодезным срубом. Усмотрел в окно край металлической кровати с горкой подушек, висели там портреты в простенках, железнодорожный плакат еще, и продолжал есть, обстоятельно, крепко, в удовольствие, хозяин… Вдруг совсем близко что-то негромко звякнуло, сердитым квохтаньем отозвались куры, женский голос сказал: «У-у, пустомолки!..» И понял, задыхаясь, Ижиков: это она! Разумеется, она – сарай запирает…
– Ой! Кто ж? – вскрикнула тонко, когда он резкой тенью возник перед ней.
– Я, – по-прежнему не справляясь с дыханием, трепетно доложился он. – Я это…
– Ты? Ух, напугал… – Она отняла руки от груди, вздохнула шумно, с облегченьем; сказала полушепотом: – Иди домой. Не поваживайся сюда, мальчик… Повадливый, ишь! Ступай!
– Нет…
– Чего нет… Муж, смотри, выйдет. Убьет.
– Что ж ты, – выдавил он из себя, услышав сам, какой у него рыдалистый голос, и все рыдало в нем. – Ладно, если так…
– Так, так… – согласилась она, позвенела связкой ключей; попросила, как приказала, – строго: – Не сболтни кому смотри!
– Что ж ты… – он повторил нелепо свое.
– А вот ты женисси, жену заимеешь – жене не изменяй. Ты ей изменишь, а после со зла она тебе. Назло, понял… Изменишь жене – про меня вспомни.
– Подлая ты, – сказал он.
– Ступай! – сердито и тихо прикрикнула она, подтолкнула его рукой в плечо. – Тошно и без тебя… Убирайся же, ч-черт!
Ижиков подумал: а вот ударю ее сейчас, хотя знал, что не ударит, и никогда не осмелится на женщину руку поднять, – но уж очень муторно было, и гнали-то от ворот как нищего, только что собак не науськивали… Он сунул руки в карманы брюк и пошел прямо, не разбирая во тьме дороги, по картофельным грядкам, путаясь в ботве, обрывая ее. Слышал, как скрипнула дверь будки, вышел на крыльцо муж Борис и сказала она мужу – громко, с досадой:
– Хорь вроде к курям подходил!
– Хорь? – заинтересованно переспросил муж. – А был же сегодня на станции, а про капкан, едрит-т твою, забыл, ну!
– А ты не забывай…
«…Не забывай, – повторил тогда про себя удалявшийся от будки Ижиков и подумал: – Иные стреляются, вешаются, с ума сходят… Бывало ж такое… А я выдержу!» И отчего-то после этого душа его повеселела, походка обрела твердость, он подмигнул оранжевым звездам и пожалел искренне, что зря не попросил у женщины краюху хлеба: вынесла б, не отказала. А теперь когда удастся позавтракать – утром лишь, в городе… А звать ее как?
* * *
…За вагонным окном нескончаемо продолжалась летняя Россия, пока еще не тронутая осенними ветрами и холодом дождей; дети и женщины провожали взглядами поезд… Ижиков думал, что все имеющее определение в этом мире и не имеющее принадлежит ему, остается с ним, пока он остается среди живых людей.
Из купе вышла жена, он подвинулся, уступая ей часть места у окна.
– Простор какой тут, – сказала она. – Ты видишь… смотри!.. церквушка.
– Да, – рассеянно ответил он, обнимая ее за плечи; машинально произнес вслух: – Десять наверняка…
– Что десять?
– Посчитал… Мостов десять – двенадцать успею еще построить, – сказал он.







