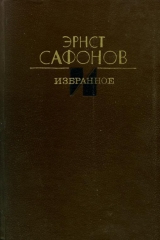
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
Он с удовольствием произносил это – «стремительный десант». Звучало, по крайней мере для него самого, очень здорово и неотразимо: «морская пехота – стремительный десант…»
– А что́ – я водитель, и там – за баранку. У них амфибии, вездеходы-амфибии… Махнемся? Я тебе свой берет, ты мне фуражку? Трешница в придачу.
– Не надо трешницы. Пользуйся.
Неотмываемые пальцы паренька жадно погладили якорек на фуражке, – Глеб порадовался: вот и к месту вещь пристроил… А синий берет, что оказался у него в руках, был щедро забрызган маслянистыми пятнами, впитавшими грязь, и вообще – шоферский головной убор, что с него возьмешь! Не в карман, а незаметно за сиденье сунул его – пусть у хозяина остается.
Славышино на подъеме укатанной дороги вынеслось навстречу – красными, зелеными, в основном серыми крышами, поблескиванием оконных стекол, грачиной стаей, тяжело повисшей над кладбищенскими тополями.
– Где притормозить?
– Жми. За магазином.
– А за фуражку спасибо… Девки тут есть хорошие?
– А где их нет?
Глеб сошел с дороги, одинаково чувствуя жесткую пыль на губах и под ногами; раздвинул кусты акации, тоже пыльные, теплые, и очутился у крыльца дома тетки Лександры.
– Нету ее у меня, – зло отрезала она, открыв дверь; была тетка Лександра желтолица, худа, костлява, с выпученными неведомой нутряной силой глазами, – чем-то смахивала на сушеную треску; поглядела на него еще, повнимательнее – неожиданно улыбнулась. – Ты, чай, при стоячем пароходе служишь? И молчишь. Знаю я тебя тогда… А она, вишь как, утресь в район укатила. На день-другой. Заходи в избу-то, отдохни.
– Я поеду, – отказался Глеб, переживая в себе неудачу. – Надо ехать.
Снова через кусты акации выбрался на дорогу, зашагал к чайной, прикинув, что здесь легче словить попутную; тянуло на холодное питье – хоть воды из колодца…
Ждал долго – ни одной машины, а дорога, оставив поселок, бежала в поле: вначале через желтизну кормовых подсолнухов, затем по бурой картофельной плантации; Глеб, посмотрев на то, как она, эта дорога, легко и свободно устремилась в сторону Русской, решил податься пешком. («Нищему десять верст не крюк!»)
Идти вот так – спорым, уверенным шагом, без груза, в одиночестве, – необременительно, даже приятно; и он, сбросив рубаху, шел, вспугивая перед собой сусликов, бессознательно радуясь голубому небу, тишине, густым запахам перезревших трав, всему, что в избытке было вокруг и что не всегда замечается. Он вспоминал тех, кого встретил сегодня, думал о них, по привычке пытаясь найти в каждом хоть маленькую долю того, что как-то отвечало бы на тысячу и один вопрос, занимающие его в жизни. Он всегда не мог сразу забыть, равнодушно оставить позади себя людей, с которыми случайно сталкивался: они волновали непохожестью друг на друга, хотелось угадать, какому счастью они радуются и какой печалью заботятся, хотелось сравнить с собой…
В тетке Лександре, присмотреться, в ее нынешнем одиночестве – прожитая жизнь; в этой прожитой жизни, за опущенными занавесками на окнах, в полумраке вдовьего дома, – какие-то свои большие тайны, минувшие счастливые мгновения и остановившиеся горести; ночами пищат мышенята в подпечье, и просыпается она от скрипа рассохшихся половиц, и вздрагивает, пугаясь, холодея от предчувствия долгожданной встречи… Но нет – никого! Никого…
«И Потапыч, – раздумывает Глеб, – к чему-то стремился, а чего достиг – растерял. Утвердить хочет меня на земле, поскольку себя не утвердил. Или другое тут… Он опять же ищет, чего всю жизнь не нашел. А может, каждому человеку так всю жизнь и искать?..»
Глеб припоминает, какое веселое оживление было в Потапыче по весне, когда внезапно пришла к нему из Бобровки одна женщина, рябоватая, но достойная с виду – чистая одеждой, с ясным спокойным взглядом; и еще она приходила, сам Потапыч бывал в Бобровке, помолодевший и очень гордый за себя… Электробритву купил тогда, – по утрам гудела на весь дебаркадер; смущаясь, ободрял его, Глеба: «У Софьи в Бобровке племянница в учительницах, видная, в белых туфлях, современная, в волейбол играет, губы крашены, и тебе, прикидываю, интересная для совместного разговору будет…» Учительницу Глеб увидел – после уже: обычная учительница, суховато-вежливая и хорошая, возможно, а вот у Потапыча с бобровской Софьей недели через две на третью расстроилась предполагаемая совместность. «Сморщился я весь, – дыша обидой, пояснял Потапыч, – а Софья – она в прекрасном жизненном расположении, настроенная женщина, а я куда ж тут…» С той поры, пожалуй, потерпевший поражение старик и ухватился за мысль отгрохать (да еще на зави́дки всем!) собственный дом. (Я отгрохаю, а ты, племянник, живи, тебе есть для чего жить, – я на п р о д о л ж е н и е смотреть буду!)
– А на черта мне! – вслух сказал Глеб, отгоняя от себя пришедшие глаза Потапыча – укор в них, тоска.
Без устали шагал Глеб твердой дорогой, не одна машина уже обогнала его, обдавая перегретым воздухом; томились в своей красивой бесполезности васильки в пшенице, – была бы девушка, не прошла бы мимо, – и другие неизбалованные цветы росли в изобилии: цикорий, ромашка белая, вьюнок полевой, синюха… «Татьянка их любит, – говорил себе Глеб, – я в следующий раз большой ей букет нарву. Пусть тогда улыбается. А лучше – в Славышино ночью приду и на крыльце букет оставлю!..»
Все же смутно было на сердце, что не застал Татьянку, она была рядом и недосягаема, как этот мир, окружающий его, – мир в эти минуты, со своей высотой, голубизной, легким дыханием, ласковостью, со своим, наконец, умением дальше и дальше отодвигать призрачную линию горизонта и никогда, нигде и ни в чем не кончаться… Он любил Татьянку, не знал, куда деть невысказанные слова, они мучили его, и в то же время как бы в стороне стояла Люда, он чувствовал даже неловкость от ее близкого присутствия, – такая реальная, такая деловая, прочная Люда! Можно любить Люду и не любить, терпеть, уважать, бояться, ждать от нее чего-то; Люда – понятие конкретное.
Она вчера читала ему стихи:
…Бой был коротким. А потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую…
– Это я понимаю, – отозвался он на ее молчаливый вопрос – Война. Я войну понимаю. Правильные стихи. – И добавил неуверенно: – Против войны.
…Знакомо выплыла из-за молодых елочек деревня Русская, и Глеб, натягивая рубаху на прокаленные плечи, не без душевной приподнятости представил, что через полчаса он увидит Люду. О чем она будет спрашивать?
…Он подсел к ним, радуясь, что Потапыч вроде бы оживился, повеселел, разговаривая с Людой; хотелось Глебу, чтобы старик окончательно оттаял, забыл про чернобородого и про то, как он, Глеб, швырял банки вслед теплоходу.
– …Неужели? – Люда улыбалась, смотрела сквозь черные очки на разлитое по реке солнце, покачивала головой. – Первый, значит, парень на деревне…
Потапыч до этого окатил горячую палубу из шланга – она сейчас пари́ла, бесцветный дымок стлался по ней; сухой воздух, казалось, похрустывал, будто кто перетирал меж пальцев жесткие табачные листья.
– В тень шли бы, – предложил Глеб.
Ему не ответили; Потапыч продолжал начатый разговор:
– В сам деле, злой я до гармони был. Как заиграю, бывалыча, вся улица – и старые и малые – округ меня… Гармонисты еще были у нас – три брата Мурзенко́вы, – ненавиствовали, руки покалечить мне в мыслях имели, однажды двухфунтовой гирькой по пальцам били, – во какая игра моя была!.. В Магнитогорск уезжал – домну строить, отец, хоть я и сам в возрасте уже находился, не дал гармони с собой, из рук вырвал. «Не привезешь ты, Серега, не токмо музыку свою назад, башку свою с этой музыкой там оставишь. Гармонь ленивых любит, а ты бешеный при ей!»
– Это удивительно, Сергей Потапыч. Ну вот это, что люди из зависти к таланту пытались покалечить ваши пальцы…
Люда сняла защитные очки, прищурила поблескивающие нетерпеливые глаза, вглядывалась в старика, словно пытаясь отыскать в нем для себя то далекое, интересное, нечто особенное, порастерянное им с годами, безвозвратно ушедшее и для него самого, и для других.
– Что же вы бросили, играть бросили?
– Играл вдосталь, а после отошло само по себе. Война финская, война немецкая, и дальше горького под завяз… Оно следом, горе-то, за мной всю жизнь… Эх, ежели порассказать! Ежели порассказать – роман что твой «Тихий Дон» получится!.. А так, веришь, иной раз свербит – взял бы гармонь в руки. Похоронят, можть, с гармонью, как, Глебка?
– Нашел о чем!
– Нет, удивительно! – тихо произнесла Люда, думая о своем; она положила узкую загорелую ладонь на толстые пальцы Потапыча, и тот – Глеб заметил – дрогнул щеками, сжался, заробел, что ли; и Глебу было странно, что с такими тяжелыми пальцами Потапыч, оказывается, лучше всех играл на гармони.
А Потапыч, покашляв, вдруг заговорил о другом, и обращался он к Люде, хотя глядел на свои сандалии, – оттого, наверно, чтобы не замечать Глеба.
– Льду на реке встать – отведут дебаркадер на судоремонтный завод, в затон. Поселят нас в общежитии, шесть коек в комнате. Работенку на складе дадут – железки перебирать до открытия навигации, – и шесть коек. Они все молодые, пятеро-то, ухари, веселые, а мне как? Узкие койки, казенные – всю жизнь на казенных койках я, под нумерованными одеялами. Как?
Он встал с ящика, пожевал губами, – что-то хотел добавить, но махнул рукой и зашагал прочь. Глеб силился отогнать тяжесть, звучно прилившую к вискам, искоса видел, как нахмурилась, закусила губу Люда, – она многое поняла.
– Я не знаю, Глеб, – тронула она его за плечо, – как тут…
– Подожди, – перебил он, боясь, что она скажет не совсем о том, что мучительно для него, – подожди. Строить – год нужен! Год! И останусь я в нем, да?! Останусь?
– Не знаю я, – повторила Люда, – и не кричи. Ты кричишь. Мне обдумать надо, тогда скажу. Обязательно скажу, Глеб.
«Все равно ты уедешь, – Глебу душно было; залетные чайки – редкие гостьи тут – пронзительно кричали над ними, ссорясь меж собой. – Уедешь. А Потапычу разве одному дом нужен! Он давно бы построил…»
Без дня неделя, как Люда на дебаркадере. Уже все знают, что она «с московской редакции», будет писать о деревне; Глеб замечает, что мужики, даже когда Люда выходит в Русскую в своих узких брючках, с накрашенными губами, да еще берет его под руку, сменили, обычную насмешливость на почтительное удивление. Первый раз такое, чтобы из Москвы специально посылали сюда человека: про их деревню в газете рассказать! Будто она, деревня, особенная иль глаза кому мозолит…
– Ходом уборки чего ж она не интересуется? – узнавал у Глеба бригадир Свиридов. – Про людей расспрашивает. А люди, они что? Люди и есть люди.
Приезжал с центральной усадьбы, наслышанный о появлении столичного журналиста, председатель колхоза; смущенно сморкался и укорял «товарища корреспондента» за то, что не повидалась с ним в первый же день. Предлагал машину для осмотра «окрестностей». Люда отказалась, дав слово, что перед отъездом они обязательно увидятся…
Прибегала женщина, сноха Захара Купцова, – тоже поговорить с корреспондентом. Озиралась по сторонам, горячим шепотом докладывала, какая нечестная продавщица сельмага Серафима Мясоедова: брала у нее три килограмма сахара, так в пакете, внизу, одни крошки вместо кусочков, а еще Серафима приваживает чужих мужей…
Глебу льстило, что все видели в Люде человека значительного, большого; только сам он, оставаясь с ней наедине, не мог освободиться от скрытого, идущего изнутри смущения: с одной стороны, она, Люда, – близкая с детства, навсегда поселившаяся в памяти, что-то такое родное, неотрывное, а с другой стороны – вот она, самостоятельно-неподступная, внимательная и подсмеивающаяся, и главное – незнакомая, чужая, будто и детдома не было, и воспитывали ее по-особому, для особых дел… И неприятным казалось, когда она выпытывала у него про его прошлую и настоящую жизнь, выпытывала, чувствовалось, не из интереса или сочувствия, а как бы и на нем собирая материал для своего очерка, для будущей задуманной писанины… Может, казалось лишь?
С первым почтовым катером Потапычу привозят газеты. Выписывает он центральные, районную, «Водный транспорт». И читает долго, обстоятельно – можно сказать, истово. Послушать его во время чтения, получится, что он, Потапыч, неотделим от всего, чем занят, живет белый свет. Отсюда, с дебаркадера, ему даже виднее все.
– Так и знал – будет в Индонезии ситуация, – авторитетно рассуждает он.
Или:
– Опять е г о за кукурузу ругают. А я разве не говорил, что овес и вику с наших мест изводить нельзя?!
Выходит так: не приняли т о г д а во внимание его, Потапыча, мнение – расхлебывайте сейчас…
Глеб, встретив и проводив катер, пошел к Потапычу: у него как раз перед открытием буфета час чтения газет.
Потапыч оглянулся на скрип двери; сидел за столом, и газеты лежали перед ним, но он не читал. Снова оглянулся на Глеба, и Глеб внезапно поразился пепельной, какой-то неживой дряблости его щек, и маленькие полуприкрытые глаза Потапыча были чужими, остановившимися, будто зрачки сейчас смотрели не на Глеба, а куда-то внутрь самого Потапыча.
– Что с тобой? – Глеб наклонился к нему, ощущая, как в испуге захолодело его собственное сердце; он почуял запах водки и наполовину опорожненную бутылку увидел – стояла у ножки стола; подумал: «Началось…»
С Потапычем такое случается: раза два в год он запивает – дней на пять, на неделю. Запивает не то чтобы страшным образом: всегда, главное, помнит себя, только делается болтливым – не остановишь, и спит часов по восемнадцать в сутки. Но никогда, сколько помнит Глеб, не было у него такого странного, обезжизненного лица, и пить он начинал, как правило, не один, а с кем-нибудь из мужиков – с тем же Захаром Купцовым, например. И его, Глеба, виновато предупреждал: «В разнос иду. Присматривай…»
– Вразнос, а, Потапыч? – Глеб пытался заглянуть в пугающие глаза старика, пытается вызвать в них живинку. – Заболел?
Потапыч шевелит тяжелыми пальцами, мычит – не разобрать, и наконец с трудом выдавливает:
– Ты ступай… Я посижу… Ступай к этой… ну, к этой… своей…
«Моя вина, – мучается Глеб. – Совсем забросил старика… Сруб не стал смотреть. Тоска в старике…»
– А я было пришел позвать тебя на хутор. Сруб оценим.
– Ступай, – в голосе Потапыча уже раздражение, а глаза не оживают, смотрят в никуда. – Посижу я.
– У Потапыча в войну умерли жена и дочь. И вообще…
– Что вообще?
– Понял, не я при Потапыче – он при мне должен быть. Вот. Увезу. Подадимся на море. Селедку ловить. Я матросом, он коком…
– Старо, Хлебушек, затасканно. Чуть что – в рыбаки или моряки бежать…
Они стоят, облокотившись о перила, на том месте, где обычно швартуются к дебаркадеру суда; смотрят на воду, запятнанную мазутом, смотрят на знакомый выводок гусей, плывущих мимо. Глеб вспоминает, как с месяц назад этих гусей рисовал заезжий художник. Впрочем, не рисовал – красками не рисуют, пишут. Он и Татьянка с расстояния всматривались в кусочек холста, а художник, щурясь, быстро и резко водил кистью. Вода у него получалась зеленой, цвета весенней травы, а гуси на ней почему-то были розовыми. «Отчего же они розовые?» – осмелев, спросила у художника Татьянка. Тот, отерев потное лицо и лысину платком, ответил: «Это искусство, мадам. Я могу прочесть лично вам лекцию, что такое истинное искусство. – Он мельком взглянул на Глеба, повторил: – Лично вам… К тому же вы отменный типаж… Договорились?..»
– Купаться идем? – спросила Люда.
(Посмотреть бы тот фильм, в котором снималась Люда: красивая у нее улыбка – ослепительные, великолепные зубы…)
– Не могу. «Прогресс» по расписанию, потом семнадцатый катер… И Потапыч такой. Ты прости.
– Тогда одна. И в деревню схожу. Не хмурься, и мне грустно… Хмурый, хмурый и шершавый! – Она кладет руки ему на плечи, пригибает его голову, целует в губы. И смеется неслышно, шепчет: – Второй раз тебя целую… шершавый!
Голубое, бездонное небо, опрокинутое, – это ее глаза.
А сзади громкие шаги и громкий кашель.
Сзади Фрол Горелов.
Глеб видит его черный открытый рот, вздернувшуюся щеточку усов, и после, где-то после доходят до него слова:
– …Извиняйте за некстати… К тебе, Глеб.
– Побежала, – говорит Люда.
Фрол глядит на нее – в упор, с усмешкой, и ей приходится обойти его.
– Что, Фрол Петрович, надо?
– Мимоко́м шел, вспомнил… Ружье у тебя хочу попросить.
– Сезон не открыли…
– Какая там охота. Собака у меня взбесилась. Хвост себе начисто сгрызла. Шерсть грызет. Пристрелю.
– Ветеринара вызови.
– Пристрелю.
Они поднимаются наверх; Глеб сдергивает со стены и отдает Фролу свою двуствольную «тулку», вытаскивает из ящика стола два патрона.
– Хватит? В металлической гильзе, вот этот – с картечью.
– Благодарствую.
– Овчарка?
– Овчарка. Заходи при случае, Глеб.
…Вовремя встретил и проводил Глеб и «Прогресс», и катер, сделал уборку помещения; заглянул к Потапычу – старик спал.
Прилепился Захар Купцов. Вся его тощая, потрепанная фигура, какая-то неопределенно-серая, как и щетина на лице, выражала одно: выпить бы! Захар мялся, жаловался на боль в спине («…к перемене, знать, погоды…»), говорил про урожай и про то, что на этой неделе получит он аванс.
К Потапычу Глеб его не пустил.
Захар все одно не уходил. Глеб, чтоб занять себя, возился с тросом – с помощью оплеток заделывал размочаленные концы; Захар, опираясь на суковатую палку, принялся рассказывать, как в двадцатые годы работал председателем сельсовета:
– С наганом завсегда, веришь. Многим куркулям кровя попортил… Ты с корреспондентшей связался иль к Гореловым в зятья пойдешь?..
– На́, – в сердцах сказал Глеб, – на, бери трояк. И топай в деревню.
– Ладно, – Захар взял деньги. – За это дам тебе совет… Не вяжись с Гореловым. Гнилой человек…
И еще был катер. И небо багровело за лесом, день темнел, от воды по-вечернему ощутимо тянуло сыростью, тиной, гниющими водорослями, на середине реки всплескивала рыба.
«Что же это, а? Я пахал землю, служил в армии, опять пахал, встретил Потапыча, встретил Люду… Временное, непрочное в моей жизни, и дебаркадер – временное, ненастоящее. Оторвался я от чего-то, как повис… На турнике бывает такое, когда на двадцатый раз не хватает силы подтянуться. Висишь мешком, болтаешь ногами, и трудно самому себе признаться, что слабо́… И еще. Будто в щелку забора смотрю. Высокий, не перемахнуть его, а хочется туда, по ту сторону забора, там лучше, чем здесь, – как попасть?.. А с Татьянкой как? Добрая она. Потапыч – добрый. Оба добрые. А Люда другая. Почему ее так долго нет? Сейчас последний теплоход пройдет, бакенщик огни зажег, а ее нет…»
Он сбега́ет на берег, томительно всматривается в сумерки, но они туманно покачиваются, в них тусклыми шарами завязли огни деревни, – Люды нет. По реке с характерным, известным Глебу стуком бежит моторная лодка – Спартака лодка, и встревоженный Глеб решает: сейчас проводит последний теплоход, и они пройдутся на моторке вдоль берега, отыщут Люду. Оставят лодку, в Русскую заглянут… Он познакомит Люду с интересным человеком – Спартаком Феклушкиным.
И тут видит лодку и в ней двоих, и второй, маленький, съежившийся, – это Люда.
Он чувствует влажную зябкость в теле, медленно идет к себе, садится за стол, и после – смолк двигатель, по настилу простучали шаги – его напряженный слух ловит близкий голос Спартака:
– Вы рассуждаете, Люда, об итальянском неореализме по газетным статьям… Да, да! Я постараюсь вас разуверить…
К нему – лодка уже рокотала где-то вдали – она ворвалась весело; громкие суматошные слова:
– Твой приятель подвез. Купалась, и, понимаешь, появляется из воды такой… волоокий! О том о сем – ба, твой приятель! Съездили в монастырь… А ты и не волновался? А если б похитил меня какой-нибудь Федя Конь?.. Потапыч как?.. Не ложишься еще? Кое-что запишу и забегу к тебе… Ладно, Хлебушек? Завтра Спартак покажет мне свой остров. Там правда кабаны дикие? Живые?..
Ночью ветром нанесло дождь.
Он глухо, сплошняком ударился о реку, раз, другой, и ветер улетел дальше, а дождь зашумел хотя и споро, но успокоенно, с рабочей деловитостью – не на один час.
Дождинки звучно приплясывают на палубе; темнота снаружи плотная, жирная.
Не спится Глебу.
За перегородкой, в своей комнате, Люда распахнула окно – постукивают под дождем створки, позванивают стеклами; вода скапливается на крыше, время от времени глыбисто, с гулом срывается вниз.
Завтра Люда будет на острове…
Спартак покажет кабанью тропу, а может, затаившись часа на два – на три в камышах, кусаемые комарами, увидят они одичало-сумасшедшего от непарного житья кабана, единственного на весь остров; в новом, недавно поставленном финском домике инспектора Люда будет рассматривать книги, раскиданные на полу и подоконниках, – книги, которые Глеб берет читать… Им, конечно, будет не скучно… О чем они не доспорили, что Спартак «докажет» завтра? О реализме… Нет, о неореализме. Итальянском.
В тот день, когда впервые пошли в лес, он, Глеб, заикнулся Люде о циклотроне. Хотелось ему тогда высказаться. Не о самом циклотроне (он к случаю вспомнился!) – обо всем, над чем думает… О циклотроне же от кого первого было услышано – это от Спартака.
– …Глеб, занятная штука, возьми – прочтешь. О циклотроне. Улавливаешь? Циклотрон! Незаполненные клеточки на таблице элементов Менделеева помнишь? Так этот циклотрон – установка для получения нового, сто второго элемента таблицы. Но зерно не в этом, Глеб… Установка, циклотрон этот, – громадина, современный заводской цех, и прежде чем ее построить, ученые, инженеры долго и нудно считали, делали математические выкладки разные, спорили, массу экспериментов производили, – не один год готовились, Глеб! Обращаю внимание, не один год… И вот наконец построили – пуск! – элемент получен, элемент жил, его засекли приборы, его увидели… сколько он, думаешь, жил, Глеб, этот сто второй элемент?! Восемь секунд! Всего. Годы работы и – на восемь секунд вспышки!..
Спартак возбужденно рассуждал, и вся его речь сводилась к тому, что каждый человек обязан упрямо, продолжительно – если надо, всю жизнь! – готовить себя к тому, чтобы однажды, пусть на восемь секунд, обязательно вспыхнуть. Ярко, горячо вспыхнуть, дивя людей своим подвигом. И подвиг этот заполнит ту пустую, свободную клеточку, которых пока немало на таблице времени…
Что тогда поразило его в рассказе Спартака? Вряд ли можно ответить… Спартак говорил о вспышке, но для Глеба, в его сознании, в самой глубине резко, волнующе, тягостно осело, возгораясь, угасая и снова возгораясь, вот это: ци-кло-трон…
Это было все время где-то поблизости и все время обходило его, или, вернее, он сам был глухим и спокойно-расслабленным; он уехал от черной целинной пшеницы и устроился на дебаркадере, где много тепла, много леса, где Потапыч и деревня Русская. И вдруг – ци-кло-трон! Она идет, невидимая отсюда, идет мимо, краем, как переполненная грозовая туча, насыщенная тревожными разрядами, – совсем иная жизнь. И отблески ее разрядов изредка и неожиданно бьют в глаза, падают на дебаркадер, и кто знает, куда они еще падают, слепящие, неподступные, заманивающие:
ЦИКЛОТРОН!
Он взял у Спартака вузовский учебник физики, многое не понял на его страницах и не пожалел об этом. Прочитал книгу об изобретателях ядерной бомбы – «Ярче тысячи солнц», и шевельнулось в нем, прорастая, глухое ожесточение; опоздал, на целых пятьдесят лет опоздал… И почему спокойно живут, едят, пьют, рожают детей все, с кем он нынче знаком, – все, тоже опоздавшие… А в тех засекреченных лабораториях люди уже рванулись за порог двадцать первого века, они уже дальше, оставляя в двадцатом веке космодромы и циклотроны, тоже засекреченные: ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!
Там и здесь… Здесь тихая, по извечному распорядку идущая жизнь: едим, пьем, рожаем детей… Это Люда сказала: н е с о о т в е т с т в и е…
Он Потапычу говорил:
– Слушай, Потапыч, есть такая установка – циклотрон…
И Потапыч слушал, по привычке проминая пальцами живот; выслушав, сделал свое замечание, непонятно к чему – во всяком случае, не к циклотрону – имеющее отношение:
– Устал народ.
…Ох и долгая эта ночь, приправленная дождем!
Мокнет планета: колхозы, воинские части, лаборатории из стекла и бетона, домик инспектора рыбнадзора, деревня Русская, дебаркадер, – мокнут под радиоактивным дождем. В эти часы, наверно, многих терзает бессонница; один на один со своими растрепанными, неподъемными мыслями – каждый, кто сейчас не спит; и когда совсем невмоготу, когда от неумолимого, непонятного, ускоряющегося кружения планеты падаешь – будто в пропасть – в тоску, вот тогда хочется, чтобы рядом было теплое, доверчивое плечо близкой женщины, в которое можно уткнуться разбухшими от бессонницы глазами. И женщина поймет. Ведь женщине дано больше спокойной, терпеливой силы; потому, может быть, что каждая женщина – мать.
«…Люда, я знаю… Этот мир, который вынужден заражать дождь стронцием, который тайно работает над будущим, – он оправданно равнодушный, этот мир… Равнодушен от своей великой озабоченности, спешки…
Несоответствие… Твое слово… Век несоответствий!.. Запоздал – это правда, Люда. А что-нибудь еще могу успеть? Как? Я многое хочу понять. И не хочу быть посторонним».
Он находит в темноте сигареты, закуривает; табак волглый – затяжки трудные. Огонек сигареты как единственная звездочка в тесной ночи.
Горькая сигарета жжет пальцы и губы. Где-то читал, что если выкуривать сигарету вот так, до основания, – быть раку легких.
Он испугался – постучали в дверь, и в ночи стук этот был неестественным, вызывающе-странным.
А стучала Люда.
– Спишь? – спросила она из коридора. – Поболтаем, можно? Только оденусь, а то в одной сорочке – кто бы глянул только!
Ее шаги в свою комнату – скрипнула дверь, опять скрипнула – шаги к нему…
Он сидел на кровати, и она села рядом, придерживая халат на груди, чтобы не распахивался, закурила, и оба молча слушали шепелявый разговор дождинок снаружи. Он был во власти одиночества, и то, о чем он горячечно думал в эту ночь, звенело и билось в нем, раздражало, искало выхода; может быть, не загляни сейчас Люда, – он в конце концов заснул бы, а каждое утро сулит обновление, на него надеешься, недаром же присказывают: утро вечера мудренее! «Черта с два, – сказал он себе, – утром надо делать уборку, провожать леспромхозовскую баржу, продавать билеты, утром надо… Что? Ну что надо?!»
Он вдруг почувствовал жалость, и странное дело – жалость к Люде. Вот она тут, возле, – маленькая, худенькая, курит длинную сигарету, морщинки у губ, молчит, размазалась тушь под глазами… Бесприютность в ней, и свое у нее одиночество, и пришла она к нему поэтому…
Ночной дождь не кончается, шпарит себе, и кто-нибудь в эти минуты бредет под ним, подняв воротник, чавкая ботинками или сапогами, с томительной надеждой вглядываясь в шелестящую тьму: не прорежется ли впереди случайный желанный огонек?
А Люда молчит. Ее твердое острое колено выпросталось из-под халата, покачивает она оранжевой туфелькой без задника, стряхивает пепел в ладонь – и держит ее лодочкой, и в нем растет потребность сказать ей какие-то ласковые, простые и очень понятные слова, чтобы они, главное, были как сама правда, и она сразу бы приняла их, согласилась с ними.
– Глеб, – неожиданно говорит она, – а твой приятель Спартак – занятный, кажется, парень…
Она подавляет зевоту, и – кувырком, в трам-тарарам – летит нагромождение его чувств и домыслов, и видит он, видит то деланное, притворное равнодушие, которым она пытается прикрыть свой вопрос. И все в ней, чудится ему, – наигрыш, обман, хитрость.
– Занятный, – соглашается он; ему уже все равно (она уйдет, посидит и уйдет!), а раз заглянула «поболтать» – надо о чем-то. – А что ты считаешь занятным?
И от нее не ускользнуло, как подействовал на Глеба ее вопрос, – смутилась на миг, а в голосе еще больше равнодушия, почти безразличие:
– О чем ни говорила с ним – государственные заботы у него на первом плане.
– Это занятно?
– Нет, понимаешь… И не придирайся! Нет… – мнет недокуренную сигарету, идет к окну – дождь, дождь; стоит спиной к нему, Глебу, постукивает пальцами о край стола. – Понимаешь, твердых убеждений человек… И не это! Я не знаю. Есть что-то – вот уж точно!.. Господи, льет и льет. Твой томик Есенина? Давай наугад открою страничку – попадется что?.. Ты светишь августом и рожью и наполняешь тишь полей такой рыдалистою дрожью неотлетевших журавлей… Глеб?
– ?
– Глеб! Ты обязан найти Таню.
Она снова садится рядом – горбится, зябко поводит плечами, усталая и «…одинокая, конечно, – говорит себе Глеб, – и нет в ней хитрости. Спартак, может, ей нравится… Ревность у меня? Нет. Что же у меня?.. А она мне – про Татьянку! Она знает уже… что я… Татьянка… И как ей не узнать?».
– Хлебушек, послушай. Мысль шальная появилась – соглашайся только, а то раздумаю! Эти дни, понимаешь, вела я записи в тетраде, деловые. Почти деловые. Хочешь почитать? А после поговорим, обменяемся мнениями… И не обижайся, если что там тебя коснется… Мы же свои. Поспорим, и последнее слово опять же за тобой! Сейчас принесу, и – спать! И что мне, собственно, если ты прочитаешь?! Ты будешь читать, а я буду думать, как ты читаешь!







