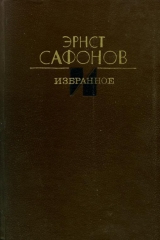
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Эрнст Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
– Дознается, у него голова! – говорит дед Гаврила и от волнения вздрагивает. – Ефгем – голова!
– Ну даешь, Гаврила Ристархыч! Едучий какой, а еще графский… – бормочет дядя Володя, зажимая пальцами нос – Отодвинулся б да помолчал…
– Дедок молодец, – смеется Константин, не отрывая напряженных глаз от ямы со скрытым теперь Ефремом. – Мы на Черном море тоже бродячие мины из крупнокалиберных расстреливали… Действуй, дедок!
– Каша с молоком, – смущенно оправдывался дед Гаврила, – она осадку, подлая, непгилично делает…
– Там человек, зубоскалы… – отец упрекает, – работает.
Л Ваня представляет, как было бы здорово на глазах у всех стремительным рывком достичь ямы, спрыгнуть на ее дно, к боевому старшине Ефрему Остроумову, и чтоб тот, удивленный, подмигнул, одобряя внезапную помощь с Ваниной стороны. Они бы вместе ощупывали, трогали шершавые бока бомбы, советовались, что предпринять, какой имеется выход в таком трудном положении… И Ефрем щелкнет пружинной крышкой заветного трофейного портсигара, предлагая ему папиросу «Бокс». Курить Ваня откажется, чего толку коптить чистую кровь в теле, но будет, конечно, приятно, если Ефрем угостит из портсигара, из которого угощает не всякого.
Тем временем, пока Ваня фантазировал, Ефрем вылез из ямы, стряхнул песок с коленей, не обуваясь пошел к ним, вытирая ладонью пот с лица, разглаживая усы, – серьезный, сосредоточенный; и было слышно, как сочно ломаются под его босыми ногами кустики молочая и лебеды.
Ждали…
Подойдя, присел Ефрем к общему кружку, и сколько-то длилось томительное молчание, и наконец сказал Ефрем:
– Фугаска ничего себе… на двести кило тянет. Однако, славяне, загвоздочка. Марку взрывателя невозможно распознать. Маркировку ржа разъела. Коррозия это по-научному называется, когда такая ржа… А так – си-ильна! Такая рванет – от амбара кирпичей не сыщешь. Да и школа вроде стеклянной расколется… Тут берегись!
Константин присвистнул; отец спросил:
– И что, Ефрем Петрович?
Ефрем смолчал.
– Звонить, выходит, требуется? – дядя Володя проговорил.
– Шанс риска налицо, – задумчиво отозвался Ефрем.
– Риск, – возбужденно сказал дядя Володя, – без риска с печки не слезешь… А все ж – звони, Ефрем!
– Звонить так звонить, чего ж, – проговорил, нахмурясь, отец и стал вслух рассчитывать, как но времени все сложится: – Из военкомата иль райкома сегодня ж позвонят в область, оттуда пришлют команду саперов… это почти двести семьдесят километров до нас. Жди завтра к вечеру… А что? Надо ждать, а когда надо – будем…
– Ладно, братва, – поднялся Константин, обирая с брюк приставший к ворсу мусор, – спасибо за компанию… я пошел. Завечереет – жду в гости. Всех!
– Погодь, Костя, – попросил Ефрем, – хоть по одной вместе выкурим давай… Успеешь. Я тебя на Орлике домчу.
– Сторожа требуется выставить к бомбе-то, – сказал дядя Володя, – загородить от козы шальной иль от какого человека…
– Я посторожу, – отец пообещал, – да и Гаврила Аристархыч…
– Ты какое же занятие для себя, Костя, предполагаешь иметь? – спросил Ефрем. – В штатском состоянии.
– Не спешу.
– А все ж? Ты грамотный, науку изучил…
– Дай в себя прийти.
– И то верно. А в заместители ко мне не согласишься? Зампреда – это, Костя, должность, между прочим… Закрутим дела!
– В заместители, – ввязался дядя Володя, – в заместители отчего ж!.. Не теряйся, Константин! У нас в колхозе на каждого работника начальник с заместителем…
– Ты! – Ефрем строго глаза сузил, лицом посуровел. – Болтай, Машин! А мог бы, между прочим, поостеречься… Нашей структурой, что ль. Машин, ты недоволен?
– Я молчу, – махнул рукой дядя Володя, наклонив голову. – Структура так структура…
– Константин учителем обязан стать, – заметил отец.
– Жирно будет, Сергей Родионыч! – отрезал Ефрем. – При нынешней катастрофе кадров жирно на начальной школе двух учителей держать.
Отец побагровел, хрустнул сцепленными пальцами рук, ответил резко:
– Полагаю, Ефрем Петрович, Константин сам в состояние решить…
Ефрем жестко засмеялся, перебил:
– Есть кому за нас решать… А кто на фронте, Сергей Родионыч, не по тылам, а на передовой был – ему и тут, между прочим, передовое место. Так скажу!
Отец отвернулся, проследил взглядом за солнечным диском, перемещающимся за облачко, на Константина посмотрел, словно стараясь найти в нем какую-то поддержку для себя, – Константин расслабленно улыбался, не принимая разговора всерьез.
Лежали, курили, отгоняли назойливых слепней.
Ваня думал, что завтра не будет настоящего первого сентября, оно из-за бомбы переносится на послезавтра, но зато объявятся у них в Подсосенках саперы, одетые в военное, с оружием, с командиром, можно будет ходить рядом с ними, и еще неизвестно, что лучше – первое сентября или приезд саперов…
XV
Время течет медленно, невозмутимая тишина стоит над затоптанным лугом, школой, близким от нее лесом, над приземистыми избами Подсосенок, над мужиками и Ваней, вольготно развалившимися с теневой стороны зернового склада, надо всем, что есть в видимой близости окружающего мира, привычно дышит, существует, греется в легком тепле наступающей осени. «Господи, пгости мя, ггешного…» – в затяжной старческой дреме шепчет дед Гаврила, и дядя Володя Машин сморился, похрапывает, стонет изредка, маясь чем-то своим; а Ефрем с Константином, переговорив о сражениях, бомбежках и собственном везучем фронтовом счастье, стали тихо припоминать, каких товарищей они потеряли, душевно хваля их и горделиво похваляясь своей недавней дружбой с ними, тогда еще живыми… Один отец, как обеспокоенный журавль, ходит возле кругами, заложив руки за спину, вскинув высоко голову, – ходит, ходит…
– Ванюш! – Константин окликает. – Давай стихи читать. Знаешь стихи?
– Художественная самодеятельность, – подмигивает Ефрем, – валяйте!
– Я мало знаю стихов, – робея перед матросом Константином, отвечает Ваня, – я всякие знал да позабывал…
– А какие не позабывал?
– «Не спи, вставай, кудрявая…»
– Стоп! Песня. Не пойдет.
– Еще одно к школе по бумажке выучил…
– Жми.
Ваня, чувствуя, как потеют у него ладони и струйка щекочущего пота бежит под рубахой по позвоночной ложбинке к попке, – быстро, захлебываясь, читает:
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно…
– Ай да мастак, классно! – хвалит Константин. – И как к месту стих! Спешишь разве… В следующий раз не торопись. Нож за мной, как обещано.
– Обещано, – соглашаясь и ликуя, повторяет осчастливленный Ваня.
Константин проверяет на ощупь, надежно ли бескозырка на копешке волос примостилась; на расшагавшегося отца глядит, советует:
– Брось переживать, Сергей Родионыч, будет еще у ребятишек праздник…
– Переживает он, – поддакивает Ефрем, – срок срывается. Дорого яичко к пасхальному дню.
Отец подходит к ним, рукой отмахивается: к чему, дескать, пустая болтовня; говорит Константину:
– Эко ты с нами!.. А дома-то!
– Ну! – Лицо Константина расцветает. – Как увидят – упадут.
– Товарищи, – вдруг с нажимом, решительно произносит Ефрем, – а, товарищи, а что, если попробуем!
– Что? – тихо спрашивает отец, снимает очки, трет стекла пальцами. – Что, Ефрем Петрович?
– А того, Сергей Родионыч, того самого… Я за себя – ни-ни, я готовый. А вы как? Нежно ее на носилки да осторожным манером в овраг, ну?
– А ну-ка она… – не договаривает Константин.
– Не должна. Володька ее шевелил, я ничего такого в ней не чую. Подкопать, чтоб она на вздохе, не дрогнув, сама на носилки положилась. А в овраге подвзорву ее, чем – есть…
– А если? – Константин пальцами в воздухе крутит. – На этих твоих носилках, Ефрем, нас по домам понесут если – как?
Ефрем пренебрежительно, позевывая, рассмеялся; говорит с вызовом:
– Могу, собственно, за себя отвечать, а у вас каждого свое понятие.
– И жизнь у каждого одна своя, – подняв всклокоченную голову, вставляет проснувшийся дядя Володя. – На хрена попу гармонь…
– А между прочим, я тебя не зову! Никого не зову! – не кричит – орет Ефрем. – Не зову, понял! Сопи себе!
– Не разоряйся, – отвечает ему дядя Володя, усаживаясь на корточки, заклеивая слюной «козью ножку». – Хотишь так: ты свистнул, а к тебе чтоб собачонкой…
– Кончай базар, – одергивает Константин, – тут серьезно очень – раскинуть мозгами требуется.
Отец возбужденно ладонь о ладонь трет, сутулится, жмется, Ефрема спрашивает робко и с надеждой:
– Считаешь, Ефрем Петрович, в наших силах? Это, разумеется, имеет свои существенные положительные стороны… если и наших силах…
– Шанс риска всегда в наличии, – поясняет утихнувший после крика Ефрем. – Но главное – не колыхнуть ее, терпеньем, лаской взять. Мы тоннами их подымали, Киеву очистку производили… Взрыватель не раскрытый осложняет…
Дед Гаврила тоже очнулся от полусна, ему свое хочется сказать, – бороденку подергивая, словно на крепость ее проверяя, успокаивает:
– Володька лопатой шибал – не живая.
– А ты, Гаврила Ристархыч, сам сходи поширяй, – советует дядя Володя, – поширяй ее, а мы посмотрим! Один шут, где вонять-то!
– А я схожу! – ерепенится дед. – А чего не сходить-то… Ефгем Петгович укажет – схожу, вот те кгест! А лучше – пусть лежит она, какая нам от ей польза… Было б из-за чего…
– Дело добровольное, – цедит сквозь зубы Ефрем. – Не подневольность, а общее согласие.
– Да, – отец кивает, – осознанное, так сказать, стремленье…
– Ух, жулики-прохвосты! – мрачно восклицает Константин. – Ух, подсосенские жуки-короеды! Так и не дали трех шагов до родной матери дойти… Чего тянем-то? Кота за хвост! Давай, Ефрем!
– Чего, конечно… давай! – с отчаянной дерзостью поддерживает отец. – Давай – чего!
– Погодите, скорые…
Ефрем поочередно разглядывает каждого – внимательно, как бы стремясь в чем-то убедиться, найти необходимое подтверждение мыслям своим; и – бросается Ване – один лишь матрос не отвел взгляда, с мутноватой скукой в светло-серых глазах упрямо смотрел на Ефрема, пока тот, отвернувшись, не заговорил снова:
– Прикидывайте сообразно настроению своему. Мероприятие такое, докладаю, что каждый сам выбирай… Учитель наш, понимаю, согласный почему? Ему нетерпенье завтра школу открыть! Я сам обещал дочке за руку в класс отвести… И другой завтра вроде как праздник – хлеб выдавать. Это от меня в зависимости… А вам не открывать, не выдавать, а деду вообще персональная отставка по его ветхому возрасту, по невоеннообязанности… Так что, Константин Сурепкин, кури, и ты, Володька Машин, кури, пускайте дым через обе ноздри, думайте, и никакой обиды за ваш отказ никто иметь не станет… Притом домой Константин идет…
– Давай, давай, – невнятно буркнул Константин.
Дядя Володя промолчал.
Ефрем, подождав, с нескрытой издевочкой поинтересовался:
– А что, Машин, спросить я забывал, ты на войне хоть раз выстрелил?
– Не выстрелил, – сквозь зубы ответил дядя Володя. – Нас под Харьковом с одними саперными лопатками из эшелона высадили. Так и бой приняли, врукопашную… Не стрелял я, Остроумов, чего еще?
– Снимаю вопрос, – сказал Ефрем, – я знаю, Володька, какая она, рукопашная… А все же какую повестку дня утвердим?
– Я утвердил бы, чтоб не надо, – первым отозвался дядя Володя, – чтоб без приключениев на свою…
Константин же, обрывая его, снова нервно спросил:
– Тянем чего? – Рубанул по воздуху тяжелой рукой: – Загорелось – давай! И у ребят начало школы не сорвется!
– Вот именно! – отец громко поддержал.
– Зря, земляки, – упрямо не соглашался дядя Володя, – куда спешить-то? У пацанвы целый год впереди, а из-за них такую опаску примай…
– Та-а-ак, – медленно тянет Ефрем, его верхняя губа в ухмылке угольничком, по-заячьи, ползет вверх, топорща усы, – та-ак… Согласья нету! Получается – отставить.
– Это мнение имею, – неохотно объясняет дядя Володя. – А коли все – я со всеми.
– Так, – тверже произносит Ефрем, – согласье налицо. Однако, дед Гаврила, ты свидетель: каждый тут ответчик за себя, никто никого не понуждал…
– Истинно так!
– Ух, Ефрем! – угрозливо говорит Константин. – Душу тянешь! Я встану – без меня тогда игра, Ефрем…
– Сергей Родионыч, тащи из школы носилки.
– Сейчас, сейчас… – И отец трусцой бежит к школьному дому; его худые острые лопатки под сатиновой рубахой – как цыплячьи крылышки: взмахиваются, а не взлетишь… (Ваня готов был следом броситься – лучше б он за отца носилки припер, а то будто мальчик отец побежал, а Ефрем ему в спину смотрит, а мог бы и сам Ефрем сходить, чем смотреть, потому что отец учитель да еще младший лейтенант административной службы, офицер, не кто-нибудь, ему старшина обязан подчиняться, первым честь отдавать, а не лежать, и пусть отец не совсем лейтенант, младший – зато все равно главнее старшины!..)
День же заметно слабеет, расплывчатей тени, глуше случайные звуки, и хоть сумерки еще далеко, таятся за лесом, но неуловимое предчувствие вечера уже закрадывается в сердце.
Приподнимаясь на локте, Константин, веселея лицом, произносит нараспев:
– «Шла-то она не путем, не дорогою, а глубокие реки, озера широкие те она плывом плыла, а мелкие-то реки, озера неглубокие те она бродом брела…»
– Молитва?
– Не, Ефрем! – Константин улыбчиво обнажает крепкие белые зубы, ровные, тесно пригнанные один к одному (Ваня с ревнивой завистью опять подмечает: «А у папки не вырастут никак…»), и поясняет: – То из былины. Адмирал приезжал, специально слушал, как я на лидере матросам-братишечкам старинные былины наизусть читал… Для поднятия патриотизма! Голосом читал вот так… «Да прошла ли она заставу великую и чистые поля те широкие…»
Константин смеется, показывает кивком Ефрему вдаль, и все смотрят, куда он показал, – видит Ваня: через луг, косыночкой, по обыкновению, помахивая, его мать идет… Обернулся – отец от школы носилки волоком тащит.
– Дает же бог кому-то счастье, – тихо и с опаской взглянув на него, Ваню, говорит дядя Володя Машин.
– Счастье, – задумчиво повторяет Ефрем, – счастье такое, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
Он встал на ноги, подпоясал гимнастерку, кривясь, будто на себя сердитый, сказал:
– Отменяется, славяне. Нечего, между прочим, судьбу пытать. А ну-тка она… с ней расписку не возьмешь! Будем звонить, пиротехников вызывать.
– И то, Ефрем, – обрадованно подхватил дядя Володя. – Пожить-то хочется!
Никто – ни Константин, ни переводивший дыхание, с носилками в руках отец, ни дед Гаврила не возражал.
XVI
Можно было б разойтись, – отец взял на себя охрану бомбы, дед Гаврила в помощники ему поступил, – можно и разойтись, но мужики продолжали сидеть у складской стены, почесывались, дымили самосадом и Ефремовыми папиросками, пересмеивались, и что-то крылось в их осторожном смехе, на Ефрема с затаенным одобрением поглядывали, словно тот дал им что-то такое, отчего жизнь повеселела, легким ветром унеслись неприятные заботы… Не только мать – другой народ собрался подле, шумно стало, как на бригадном собрании, а дед Гаврила громко врал бабам: бомба оставлена для всеобщего испуга немцем Карлом, он ее сюда по приказанию графа ровно на тридцать лет заложил, предназначено ей взорваться в сорок седьмом году, да, выходит, не рассчитал сбежавший управляющий, что учитель облюбует тут местечко для школьного сортира… А Майка дергала Ваню за рубаху, дрожали в восторге ее конопушки, спрашивала:
– Ты видал ее? Покажешь, Ванечка?
Мать поодаль ото всех сидела на траве, туго натягивая сарафан к щиколоткам ног, у которых прилег дядя Володя Машин, – смотрел он, задрав голову, на мать, пояснял ей:
– А чего надрываться – такую чушку тащить! Пупок развяжется. Солдат пригонят, им харч за службу идет, они и вытянут бомбу… Я ж опосля, обещал, над ямой дворец ребятенкам выстрою, для облегченья учебы им… За Сергей Родионычем поллитра опять же, а ты, Алевтина, закуску готовь…
– Я отныне когда-нибудь тебе приготовлю, – хмуро пообещала мать и отвернулась.
– Чего ты… чего… – Дядя Володя поморгал глазами, однако слов никаких не отыскал, лишь улыбнулся криво.
Подошел отец, присел рядом с матерью; поковырял ногтем потрескавшиеся головки сапог, сказал:
– Неладно-то как, некстати… Вот выявилась!
– Как еще не стрельнула она! – мать головой покачала.
– «Стрельнула»! – Ваня даже подскочил в возмущении. – Стреляет, мамк, винтовка, а эт бомба!
– Пускай, – сказала мать.
– Ого! – Ваню сердило такое женское непонимание. – Она взорвется – склад на кирпичики! Все зерно – по зернышку!
– Скла-ад?
– Я б сейчас, она если б стрельнула, уже в воздухе, растворимшись, плавал… с богом беседовал! – хвастливо заметил дядя Володя. – Я ее, Алевтина, лопатой долбил.
– Неужто она склад достанет?
– Да, – отец подтвердил. – Ефрем говорит. Он такие на фронте видывал…
– Ну если Ефрем… – Мать прядку волос со лба отвела и согласилась будто б, поверив и ужасаясь. – Она б тогда весь хлебушек наш, все труды…
– «Хлебушек»! – Дядя Володя недобро усмехнулся. – Пожалела ты, Алевтина… А как бы меня она подорвала – это как называется?! У нас человек дороже всего… иль, допустим, для кого как?.. иль неправду в газетах пишут, по радио передают? А, Алевтина? И гляди-ка, Сергей Родионыч, не замечаешь, можть, как со стороны Алевтины нам с тобой вроде б доверья нет… Надоть на Ефрема ссылаться, чтоб убедить… Вот Ефрем ежели сказал – ему доверье.
– Поговори! – с досадой обрезала его мать, мимолетная гримаса ненависти передернула ее лицо; сказала с вызовом: – А на тебя разви понадеишьси… помело!
– Не мешайте нам, Владимир Васильевич! – строго сказал отец. – Оставьте нас!
– Перетерпим. – Дядя Володя встал и пошел прочь.
Рот у отца приоткрыт; видны припухлые, морковного цвета десны с осколками зубов, – и печалится Ваня: головками ест отец чеснок, не напасешься, обещает, что новые вот-вот проклюнутся, вырастут, такие же белые, как дольки очищенного чеснока, но где они, новые зубы?
– Сережа, – у матери в глазах слезы, – сколько они мне в глаза тыкать будут? Ты ж знаешь… А им разви знать, как мы с тобой, Сереженька?.. Их давние блохи грызут – на меня они с того вскидываются. В молодости глупа была, кто тогда не глуп, а сейчас-то? На что, Сережа?
– Хватит, хватит, – пробормотал отец, нашел пальцы матери – погладил своими. Поднялся он, к Ефрему и матросу Константину пошел; мать лицо отвернула; косыночку на щеки пододвинула, чтобы кто другой случаем не увидел ее закрасневшихся глаз.
Прощался со всеми Константин, прощался до вечера, приглашая к себе в гости. Пошагал он лугом, легко неся свои дорожные вещички, – ветерок трепал за его спиной ленты бескозырки и широкий синий воротник, похожий на кусочек вспененного моря.
Бабы говорили меж собой:
– Бравый какой Константин-то, улыбчивый, гостинцы богатые понес!
– Стенки на пароходе железные – он и уцелел, не подставился под пулю…
– Их, Сурепкиных, вся порода бравая, горделивая, лишь Витюня горбат…
– Не скажи, Настя, тоже бравый Витюня-т, вида-а-али на сенокосе-т… тож силён!
– Полятка лучше кажной знает!
– Ха-ха-ха…
– Женщины! – Ефрем крикнул. – Кто от занятиев вас ослобонял? Кина не будет, бабоньки… по местам! А то построю сейчас по ранжиру, заставлю на первый-второй рассчитаться! Коровы-то небось недоеные стоят, так, Настя?
– А далеко ль ты нам строем укажешь, Ефрем Петрович?
– Ох, далеко! Вначале, значит, строем, по команде, а после по одной обучать буду… ружейным приемам! Пока Нюшки моей нету. Успеть, а то она не сегодня завтра объявится…
– Ха-ха-ха…
– Ефрем Петрович, – отец отвлек Ефрема от женщин, – нужно позвонить, не затягивая. Идет время.
– Сейчас поеду. А ты смотри, Сергей Родионыч, чтоб какая шальная скотина в яму не затесалась.
– С Гаврилой Аристархычем попеременно будем…
– Заснет еще, смотри, дедок…
– Ефрем! – Подскочил, искаженно дергаясь лицом, дядя Володя, выговорил взахлеб: – Она стукает, Ефрем… подошел я, нагнулся – явственно стукает!
– Чего?
– Тик-так, тик-так… стукает! тикает! Тик-так, Ефрем…
– И-и… да ну?!
Ефрем страшно посерел лицом, прыжком в сторону рванулся от мельтешащего перед ним дяди Володи и отца, упал, тут же поднявшись, бросился к яме, успев приказать: «Константина верните!»
Как переполошенная стая гусей, вразброд, подгоняемые дедом Гаврилой, бежали от страшного места женщины – за школу, под ее защиту.
Константин, которого догнал Ваня, не дослушал его, поняв, в чем дело, откинул прочь чемодан и мешок, помчался к складу громадными прыжками, не выпуская Ванину руку из своей, волоча его за собой, как какой-нибудь неживой предмет; а когда Ваня, не вытерпев, заплакал от боли – оглянулся недоуменно, отпустил:
– Прости, браток!
– Механизм… завод заработал… Стронулась, сука! – громко, так, что Ваня издали услышал, объяснил Ефрем Константину. – Секунды решают, славяне. Носилки, Сергей Родионыч!.. Хоть малость от амбара отволокем, хлеб, можть, спасем!
– О-о-о!.. – застонал вдруг дядя Володя, сел на землю и, как недавно Ефрем делал, перед тем как в яму спуститься, стал тоже для чего-то сапоги стаскивать. Правый снял, левый не поддавался.
Ефрем пнул его коленом в спину: вставай!
– Черт с ей, уйдем, Ефре-е-ем! – обреченно, высоким срывающимся голосом выкрикнул дядя Володя.
– Дура… хлеб же! Давай, давай!
Растерянно оглядывался отец – искал глазами, наверно, мать; ему, Ване, махнул: убегай дальше, туда, за школу, еще дальше…
– …твою… живо!
Ефрем первым спустился в яму, а за ним Константин, мелькнув своим ярким воротником; отец им носилки подал и сам туда сполз, а дядя Володя Машин наверху, у края, остался, ждал, ерзая по песку коленями…
Ваня видел, что первым выбрался из ямы Константин, и вместе с дядей Володей с огромным трудом приняли они, наволакивая от края ямы на себя, приподнятые спинами отца и Ефрема носилки, на которых, уткнувшись в глину, бурым кругляшом лежала тупорылая бомба.
Не мешкая, взялись мужики за носилки, поспешно, сгибаясь под тяжестью, но соблюдая осторожность, понесли их – Ефрем и отец впереди, Константин и дядя Володя, в одном сапоге, – у задних ручек… Шли они вдоль откоса Белой горы, мимо ободранных козами и овцами кустов боярышника, крушины, задичавшей сирени; казалось, что неоправданно медленно они идут, медленно, можно б поскорей… скорей, скорей! Еще немного, шагов сто, там овраг…
И услышали Ваня, женщины, дед Гаврила – все, кто был тут, за школой, – дробный перестук колес, как нежданный гром с ясного неба, а оглянувшись, признали сразу, кто мчит сюда, стоя в телеге, лихо размахивая над конягой вожжами. Это ж горбатый Витюня Сурепкин, на помине легкий, его минутами раньше бабы, потешаясь, вспоминали! Ему, наверно, сказали, что Константин здесь, в Подсосенках, вот и мчит ошалело, одурев от счастья предстоящей встречи с братом. А в телеге у Витюни, взлетающей и громыхающей на кочках, сидит, хватаясь, за живот, Нюша Остроумова – из больницы выпустили, привез ее Витюня оттуда, а то, подумать, совсем уж залежалась на чистой больничной постели! Майка, ойкнув, кинулась навстречу, а Витюня, осадив взмыленного коня, блеснув такими же белыми, как у Константина, зубами, весело, зычным голосом крикнул:
– Кост-я-я!
«Я-я-я!..» – отозвалась Белая гора.
И там, где тяжело шли мужики с бомбой, произошло еле заметное замешательство: крик Витюни будто ударил в спину Константина, он спутал шаг, а Ефрем и отец в размеренности установившегося движения потянули носилки на себя, и Константин, торопясь исправиться, сделал что-то не так, оступился вроде, – невозможно было понять с расстояния, да и случилось все в одно мгновенье… Бесцветный призрачный шар окутал мужиков, сиюсекундно обрастая красными звездами, словно это ордена Константина разлетались в стороны, и вместе с чудовищным громовым ударом фонтан черной земли взметнулся в небо, а от тугой знойной волны отброшенного воздуха с острым звоном лопнули, осыпаясь, стекла в школьных рамах… Еще запомнил Ваня оскаленную морду Витюниного коня, как, обезумев, рванулся тот в сторону: концом оглобли поддел и отбросил деда Гаврилу, опрокинул его, Ваню, – летели, летели огненные звезды, рассекая тягучую темноту…
В том сентябре сорок пятого года, хоть и с запозданием на три недели, школу в Подсосенках все ж открыли.
Перед началом занятий, созывая учеников, Ксения Куприяновна Яичкина двумя руками держала над седой головой, украшенной розовым шелковым бантом, медный школьный звонок, – ее руки тряслись, и звонок звенел. С фанерки из-за ее спины выглядывали приветственные буквы:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ!
Первый урок проводил Николай Никифорович Егорушкин. Он сидел за столом, приплюснутый с боков пустыми рукавами кителя; волнуясь, смотрел на притихших ребят; сказал им:
– Товарищи дети, вы должны усвоить, что нет таких крепостей, которые мы не в состоянии были бы взять…
Он говорил долго, громко. Закончив речь, побледневший, вызвал к столу единственного Подсосенского жителя мужского пола Ивана Жильцова. В разлохмаченном, довоенного издания букваре Егорушкин подбородком указал нужные строчки, велев прочитать их вслух и внятно.
Перебинтованный Ваня, отыскав глазами у стены черные глаза и черный платок допущенной на урок матери, прочитал крупно написанные, в столбик расположенные слова:
МЫ НЕ РАБЫ,
РАБЫ НЕ МЫ.
– Молодец, Жильцов, злободневно, политически грамотно, – одобрил Егорушкин, – садись. А сейчас поставлю перед вами главную задачу дня: как учащиеся школы будут помогать колхозу в выполнении государственного задания по сельхозпоставкам…
И снова звенел школьный звонок…
1971







