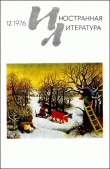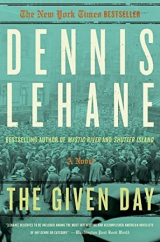
Текст книги "Коглин (ЛП)"
Автор книги: Деннис Лихэйн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 81 страниц)
Дэнни договаривался по телефону с Дипси Фиггисом из 12-го насчет дополнительных стульев для сегодняшнего собрания, когда вошел Кевин Макрей с видом человека, который только что узрел нечто совершенно неожиданное – вроде давно умершего родственника или кенгуру в собственном подвале.
– Кев?
Кевин глянул на Дэнни так, словно пытался сообразить, откуда тот здесь взялся.
– Что случилось? – спросил Дэнни.
Макрей протянул вперед руку с листком бумаги.
– Меня отстранили, Дэн. – Глаза у него расширились, и он провел бумагой по голове, точно полотенцем. – Отстранили, черт побери. Можешь себе представить? Кёртис говорит, мы все должны явиться на слушания. Нас обвиняют в нарушении служебного долга.
– Все? – переспросил Дэнни. – Скольких отстранили?
– Я слышал, девятнадцать человек. – Лицо у него было растерянное, как у ребенка, потерявшегося в толпе. – Что мне делать? – Он помахал листком, озирая комнату, и голос у него упал почти до шепота. – Это была моя жизнь.
Всех членов правления нарождающегося профсоюза бостонской полиции временно отстранили от занимаемых должностей. Всех, кроме Дэнни. Всех, кто распространял и собирал подписные листы в пользу вступления в АФТ. Всех, кроме Дэнни.
Позже он позвонил отцу:
– Почему не меня?
– А ты сам как думаешь?
– Не знаю. Поэтому я тебе и звоню, папа.
Он услышал шорох кубиков льда: отец вздохнул, сделал глоток.
– Я всю жизнь тебя уговаривал заняться шахматами, сынок.
– И игрой на пианино.
– Это мать. Я лишь поддержал ее идею. Но умение играть в шахматы, Эйден, сейчас бы тебе очень помогло. – Еще один вздох. – Куда больше, чем способность сыграть регтайм. Что думают ребята? Для тебя, вице-президента их профсоюза, сделано исключение. Что бы ты подумал на их месте?
Дэнни, стоя у телефона, который миссис ди Масси держала на столике в вестибюле, подумал, что он тоже не прочь бы иметь под рукой стакан, когда услышал, как отец наливает себе еще, добавляет льда.
– На их месте? Подумал бы, это потому, что я твой сын.
– Кёртис и хочет, чтобы они так думали.
Дэнни прижался к стене виском и закрыл глаза; он слышал, как отец раскуривает сигару, втягивает и выпускает воздух, втягивает и выпускает.
– Значит, вот как оно разыграно, – заметил Дэнни. – Внести раскол в ряды. Разделяй и властвуй.
Отец рассмеялся:
– Нет, мой мальчик, разыграна еще не вся пьеса. Это лишь первое действие. Как, по-твоему, отреагирует пресса? Первым делом они заявят: комиссар – человек благоразумный, городские власти непредвзяты, а эти девятнадцать отстраненных наверняка что-то совершили, поскольку их вице-президента не тронули.
– Но потом, – вставил Дэнни, – они сообразят, что это лишь уловка, и тогда они…
– Болван, – объявил отец. – Репортеры быстро пронюхают, что ты – сын капитана, начальника участка. Они пустятся расследовать, и рано или поздно какой-нибудь писака набредет на якобы безобидного дежурного сержанта, который якобы случайно, мимоходом, упомянет о некоем «инциденте». И уж тогда репортер начнет рыть как следует, мой мальчик. А мы знаем, что твои занятия при ближайшем рассмотрении могут показаться сомнительными. Кёртис назначил тебя козлом отпущения, сынок, и дикие звери в лесу уже взяли твой след.
– Что же должен сделать этот болван, папа?
– Капитулировать.
– Не могу.
– Нет, можешь. Ты просто еще не научился видеть нюансы. Они не так уж боятся вашего профсоюза, как ты думаешь, но все-таки опасаются. Воспользуйся этим. Они, Эйден, никогда не примирятся с вашим вступлением в АФТ. Но если ты разыграешь эту карту правильно, они пойдут на уступки по другим вопросам.
– Но если мы откажемся от членства в АФТ, то разрушим все…
– Как знаешь, – промолвил отец. – Спокойной ночи, сынок, и да хранит тебя Бог.
Мэр Эндрю Дж. Питерс непоколебимо верил в то, что все всегда само собой устраивается.
Сколько людей потеряли массу драгоценного времени и энергии, искренне считая, что они в состоянии управлять собственной судьбой, хотя на самом-то деле мир продолжал совершать свои курбеты вне всякой зависимости от их воли. Да что там, достаточно вспомнить эту ужасную заграничную войну, чтобы увидеть всю глупость принятия опрометчивых решений. Да и любых решений. Ты только подумай, не раз хотел сказать Эндрю Питерс своей Старр в такие вот предвечерние часы, как сейчас: подумай, как все могло бы повернуться, если бы после гибели Франца Фердинанда австрийцы воздержались от бряцания клинками и сербы поступили бы точно так же. Подумай, какую глупость отмочил Гаврило Принцип, убив эрцгерцога. А теперь потеряно столько жизней, обезображено столько земли, и ради чего? Если бы возобладали не такие горячие головы, если бы у людей хватило терпения удержаться от поспешных действий, их соотечественники перекипели бы, переключились бы на другие мысли и занятия… В каком славном мире мы бы тогда жили сегодня.
Потому что именно война отравила умы множества молодых людей мыслями о пресловутом самоопределении. Этим летом цветные, недавно сражавшиеся за океаном, как раз и стали главными агитаторами, вызвавшими беспорядки, те самые беспорядки, из-за которых в Вашингтоне погибли их же сородичи. То же самое произошло в Омахе, а самые ужасные события такого рода – в Чикаго. Не то чтобы Питерс оправдывал поведение белых, которые их убивали. Нет, едва ли. Однако причины налицо: цветные пытаются поколебать стабильность, внести сумятицу. А людям не нравятся перемены. Им не нравятся потрясения. Они хотят наслаждаться прохладными напитками в жару и любят, чтобы обед подавали вовремя.
– Самоопределение, – пробормотал он, сидя на палубе, и Старр, лежавшая рядом на шезлонге, зашевелилась:
– Что ты сказал, папочка?
Он наклонился к ней с собственного шезлонга, поцеловал в плечо и подумал, не расстегнуть ли ему штаны. Но в низком небе собирались тучи, и море помрачнело.
Старр смежила веки. Прекрасное дитя. Прекрасное! Щечки – как наливные яблочки, такие спелые, словно вот-вот лопнут. И задок соответствующий. И все у нее такое сочное и упругое, что Эндрю Дж. Питерс, мэр великого города Бостона, забавляясь с ней, иногда воображал себя древним греком или римлянином. Его возлюбленная, его кузина. Этим летом ей исполнилось четырнадцать, но она куда более зрелая и страстная, чем Марта.
Старр лежала на животе совершенно нагая, и когда первая капля дождя упала ей на спину и рассыпалась мелкими брызгами, он снял канотье и положил ей на попу. Она хихикнула и сказала, что ей нравится дождь. Потом повернула голову, потянулась к его поясу и непринужденно заметила, что просто обожает дождь. И в этот момент он заметил, как в глазах у нее мелькнуло что-то темное и мятежное – как нынешнее море. Мысль. Нет, больше того: сомнение. Его это несколько обеспокоило, ведь у нее не должно быть сомнений. У наложниц римских императоров наверняка не было сомнений. Когда он позволил ей расстегнуть ему пряжку ремня, его посетило смутное, но острое чувство утраты. Брюки упали к его лодыжкам, и он решил, что, быть может, все-таки есть смысл вернуться в город и выяснить, не удастся ли ему всех образумить.
Он посмотрел в море. Такое бескрайнее. Он произнес:
– В конце концов, я же все-таки мэр.
Старр улыбнулась, глядя на него снизу вверх:
– Я знаю, папочка, и ты в этом деле самый-самый лучший.
Слушания по делу девятнадцати сотрудников полиции, временно отстраненных от занимаемых должностей, проходили 26 августа в кабинете комиссара Кёртиса. На них присутствовали Дэнни и Герберт Паркер – правая рука Кёртиса. Кларенс Раули и Джеймс Вэхи выступали защитниками всех девятнадцати обвиняемых. Внутрь допустили четырех репортеров – от «Глоб», «Транскрипт», «Геральд» и «Стэндард». Прежде в состав такой комиссии, помимо комиссара, входили три капитана, но при Кёртисе судьей выступал лишь он сам.
– Отметьте, – изрек он, обращаясь к журналистам, – я позволил находиться здесь единственному неотстраненному лицу из числа ведущих сотрудников полиции, которые вступили в незаконный профсоюз полиции под эгидой АФТ, чтобы никто не смог обвинить меня в том, что здесь недостаточно полно отражен состав этого так называемого профсоюза. Отметьте также, что интересы обвиняемых представляют два уважаемых защитника, мистер Вэхи и мистер Раули. В то же время я не привлек никого, кто поддерживал бы обвинение.
– При всем уважении к вам, комиссар, – вмешался Дэнни, – обвиняют здесь не вас, сэр.
Один из репортеров яростно закивал и застрочил в блокноте. Кёртис посмотрел на Дэнни, а затем оглядел девятнадцать человек, сидящих перед ним на шатких деревянных стульях.
– Джентльмены, вы обвиняетесь в пренебрежении служебными обязанностями, наихудшем проступке, какой только может совершить сотрудник органов правопорядка. Конкретнее, вы обвиняетесь в нарушении параграфа тридцать пять бостонского полицейского кодекса, каковой параграф запрещает сотрудникам вступать в какие бы то ни было организации, не являющиеся частью Бостонского управления полиции.
Кларенс Раули заметил:
– Если так рассуждать, комиссар, то получается, что никто из них не может вступить, скажем, в общество ветеранов или в Оленье братство .[80]80
Оленье братство – американский клуб, своеобразный аналог масонской ложи.
[Закрыть]
Два репортера фыркнули.
Кёртис потянулся за стаканом с водой.
– Я еще не закончил, мистер Раули. Да, это не уголовный процесс. Это внутреннее разбирательство Бостонского управления полиции, а если вы желаете оспорить легитимность параграфа тридцать пять, вам следует подать иск в окружной суд. Единственный вопрос, на который сегодня предстоит ответить: нарушили эти люди параграф тридцать пять или нет. Законность самого параграфа мы сегодня не обсуждаем, сэр. – Кёртис посмотрел на сидящих подчиненных. – Патрульный Дентон, встать.
Марк Дентон, в своей голубой форме, встал и зажал под мышкой круглый шлем.
– Патрульный Дентон, состоите ли вы в профсоюзе бостонской полиции, имеющем номер шестнадцать тысяч восемьсот семь в Американской федерации труда?
– Состою, сэр.
– А не являетесь ли вы еще и президентом названного профсоюза?
– Являюсь, сэр. Имею такую честь.
– Ваша честь не является предметом настоящего обсуждения. Занимались ли вы распространением подписных листов?
– Да, сэр, имел такую честь, – ответил Дентон.
– Можете сесть, патрульный, – объявил Кёртис. – Патрульный Кевин Макрей, встать…
Это тянулось два часа. Когда пришла пора адвокатов, выступление взял на себя Джеймс Вэхи. Он долго служил защитником при Союзе работников городского транспорта Америки и прославился еще до рождения Дэнни. Двигался Вэхи с плавностью и стремительностью спортсмена; он вышел вперед, просиял уверенной и хитрой улыбкой, глядя на девятнадцать обвиняемых, и только затем повернулся лицом к Кёртису:
– Хотя я и согласен, что мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать легитимность параграфа тридцать пять, я вынужден констатировать, что и сам комиссар, автор данного параграфа, признает его неопределенный статус. Если комиссар сам не верит в незыблемость собственных постановлений, какой вывод можем сделать из этого мы? А вывод такой: это попросту вторжение в личную жизнь человека…
Кёртис постучал молотком.
– …и неслыханное посягательство на его свободу действий.
Комиссар снова поднял молоток, но Вэхи устремил указующий перст прямо ему в лицо:
– Вы, сэр, не признавали за этими людьми основополагающих прав трудящихся. Вы упорно не соглашались поднять им зарплату выше прожиточного минимума, обеспечить им сносные условия работы и сна, а кроме того, требовали такой продолжительности смен, что подвергалась угрозе не только их собственная, но и общественная безопасность. И теперь вы восседаете перед нами как судья. Это низкий поступок, сэр. Кроме ваших заявлений, нет ничего, что позволило бы усомниться в преданности этих людей интересам населения нашего великого города. Они не покидали свои посты, не отказывались выполнять профессиональный долг. Будь у вас свидетельства обратного, вы бы их уже нам представили, не сомневаюсь. Единственный проступок, который совершили эти люди, – и прошу заметить, я употребляю слово «проступок» в ироническом смысле, – состоит в том, что они отказались склонить головы перед вашим желанием запретить им вступать в общенациональную профсоюзную организацию. Кроме того, простой взгляд на календарь подскажет: ваша новая редакция параграфа тридцать пять сделана с подозрительной поспешностью, и я более чем уверен, что любой судья на планете сочтет это хитростью. – Он повернулся к обвиняемым и журналистам, расположившимся сзади, изящный в своем великолепном костюме и с копной белоснежных волос. – Я не собираюсь защищать этих людей, поскольку здесь нечего защищать. Сегодня в этой комнате подвергается сомнению не их приверженность американским ценностям и патриотизм, – прогремел Вэхи, – а ваша, сэр!
Кёртис стучал молотком, Паркер кричал, призывая всех к порядку, а обвиняемые улюлюкали, аплодировали, вскакивали на ноги.
Когда Вэхи вернулся на свое место, наступила очередь Дэнни. Он встал перед побагровевшим Кёртисом.
– Я скажу просто. Мне кажется, вопрос состоит в том, отразилось ли наше членство в Американской федерации труда на эффективности работы полиции. Комиссар Кёртис, я со всей уверенностью заявляю, что этого не произошло. Несложное исследование статистики уровня преступности на территории наших восемнадцати участков показывает, что это не так, а конкретные данные я могу привести. Мы – полицейские, это наше главное дело, и мы поклялись поддерживать законность и порядок. Заверяю вас, что это никогда не изменится.
Все захлопали, и Дэнни сел на место. Кёртис поднялся из-за стола – трясущийся и бледный, узел галстука ослаблен, волосы всклокочены.
– Я приму к сведению все замечания и свидетельства, – произнес он, ухватившись за край стола. – Всего хорошего, джентльмены.
С этими словами он покинул комнату, и вместе с ним вышел Герберт Паркер.
ТРЕБУЮТСЯ ЗДОРОВЫЕ, КРЕПКИЕ МУЖЧИНЫ
Бостонское управление полиции проводит набор в добровольную полицейскую дружину, которую возглавит бывш. суперинт. полиции Уильям Пирс. Только для белых. Желательно с опытом участия в войне или атлетического телосложения. Кандидатам обращаться в Арсенал штата с 9:00 до 17:00, пнд – птн.
Лютер положил газету обратно на скамейку, где он ее и нашел. Добровольная полицейская дружина, вы только поглядите. Вооружить свору белых мужиков, которые или слишком тупые, чтобы получить нормальную работу, или до того рвутся проявить свою мужскую силу, что готовы ради такого дела бросить хорошее место. И тем и другим оружия лучше бы не давать, а то скверно кончится. Он представил себе такое же объявление, призывающее на такую же службу черных, и громко расхохотался. Белый, сидевший через скамейку от него, тут же встал и ушел.
Лютер, вот редкость, целый день бродил по городу, потому как от нетерпения готов был наизнанку вывернуться. В Талсе его ждет ребенок, которого он никогда не видел. Его ребенок. И Лайла тоже его там ждет, и она с каждым днем к нему, Лютеру, все больше мягчает. Когда-то он верил, что мир – огроменная вечеринка, набитая интересными мужчинами и прекрасными женщинами, и что, каждый по-своему, они без остатка заполнят все пустоты в нем, в Лютере, и он наконец станет целым, впервые с тех пор, как Лютеров папаша сделал ноги. Но теперь он понимал, что на самом-то деле все иначе. Да, он встретил Дэнни и Нору, и его чувства к ним настолько остры, что даже поразительно. И, Господь свидетель, он любит обоих Жидро, они стали для него как бабушка и дедушка, о которых он раньше часто мечтал. Но в конечном счете это ничего не меняет: Лютер предпочел бы оказаться дома. Со своей женушкой. Со своим сыном.
С Десмондом.
Такое имя выбрала для сына Лайла, и Лютер вроде бы как успел согласиться, прежде чем случилось то, что случилось. Выбрала в честь Лайлиного дедушки, который учил ее Библии, когда она сидела у него на коленях, и, видать, он-то и дал ей этот твердый стержень внутри, потому как не могло же это взяться ниоткуда.
Десмонд.
Хорошее имя. Лютер полюбил его до того, что оно вышибало у него слезу. Это он привел Десмонда в этот мир и когда-нибудь Десмонд совершит великие дела.
Если Лютер сможет к нему вернуться. К ней. К ним.
Человек строит свою жизнь, пашет на белых, чего уж там, но работает при этом на свою жену и на своих детей, на свою надежду, что их жизнь станет лучше. Мужик должен что-то делать для тех, кого любит. Все просто.
Да только ни черта он не может поделать. Потому как даже если он каким-то чудом разберется с Маккенной, он все равно не сможет двинуться к семье: там его поджидает Дымарь. И он не сможет убедить Лайлу перебраться к нему (он еще с Рождества несколько раз пытался), потому как для нее Гринвуд – что дом родной, а еще она, понятно, опасается, что, ежели соберет вещи и отправится в путь, Дымарь пошлет кого-нибудь вдогонку, чтобы за ней проследить.
Он подхватил со скамейки газету и встал. На той стороне Вашингтон-стрит, перед магазином «Файв энд дайм», торчали двое мужиков и пялились на него. На обоих – шляпы и легкие костюмы в полоску, оба маленькие и какие-то пришибленные; они бы даже казались потешными (мелкие биржевые клерки, которые приоделись, чтоб выглядеть посолиднее), если бы у каждого не болталась на боку большая коричневая кобура. Биржевые клерки с пушками. Другие магазины нанимали частных детективов, банки требовали себе не иначе как помощников шерифа, но заведениям поплоше, куда деваться, приходилось обучать собственных сотрудничков обращению с оружием. В каком-то смысле – даже менее надежная штука, чем эта добровольная полицейская дружина. Лютер предполагал (или, по крайней мере, надеялся), что копов-добровольцев натренируют получше, придадут им каких-никаких командиров. Но эти наемные помощнички, мальчишки при лавках, сыновья и зятья ювелиров, меховщиков, пекарей, конюхов, – теперь их встречаешь по всему городу. И они все перепуганы. Они дико взвинчены. И вооружены, братец.
Лютер не удержался: видя, что они косятся на него, пересек улицу, хотя вроде не собирался, и подошел к ним эдак вразвалочку, как самый что ни на есть заправский негр, и озорно подмигнул. Двое переглянулись, и один из них вытер ладонь о штаны аккурат под своим пистолетом.
– Денек-то ничего, а? – сказал Лютер.
Охранники не проронили ни слова.
– А небо-то какое синее, – продолжал Лютер. – В первый раз за неделю развиднелось, а? Вам бы порадоваться погодке.
Пара хранила молчание, и Лютер на прощание дотронулся до краешка шляпы и зашагал по тротуару дальше. Дурацкая выходка, особенно после мыслей о Десмонде, о Лайле, о своей ответственности. Но в белых мужиках с пушками, ей-ей, было что-то такое, что всегда подбивало его на проказы.
Ежели судить по настроению в городе, скоро таких мужиков с пушками появится еще больше. Он миновал уже третью за день палатку неотложной помощи, увидел внутри сестричек, расставляющих столики и койки на колесиках. А чуть раньше сегодня он проходил через Вест-Энд и Сколли-сквер, чуть не в каждом третьем квартале натыкаясь на машины «скорой», поджидающие событий, которые уже начинали казаться неизбежным. Он посмотрел на «Геральд» в своей руке, на эту, как бишь ее, редакционную статью:
Сегодня наше общество находится в состоянии небывалого напряжения из-за того, что творится в управлении полиции. Мы на распутье. Мы неизбежно окажемся на пороге советизации и господства коммунистических порядков, если позволим ведомству, охраняющему закон, начать обслуживать чьи-то узкие интересы.
Бедняга Дэнни, подумал Лютер. Бедный сукин сын, они его облапошили.
Джеймс Джексон Сторроу по праву считался самым богатым человеком Бостона. Став некогда президентом «Дженерал моторс», он реорганизовал компанию, причем все его рабочие сохранили места, а его акционеры – уверенность. Он основал Торговую палату Бостона и незадолго до войны возглавил Комиссию по стоимости жизни. А в войну Вудро Вильсон назначил его руководителем Федеральной топливной службы, и он добился, чтобы в домах всегда хватало угля и нефти, иногда ссужая собственные средства, лишь бы поставки осуществлялись без задержек.
Он слышал, как люди говорят, что он не кичится своей властью и силой, но он-то всегда искренне считал, что любое внешнее проявление силы – не более чем безудержное выпячивание эгомании, болезненного индивидуализма. А поскольку все эгоманьяки в глубине души напуганы и неуверенны, они проявляют свою «силу» на самый что ни на есть варварский манер, чтобы окружающий мир, упаси господи, не догадался.
Ну не кошмар ли, все это нынешнее противостояние «сильных» и «бессильных», эта абсурдная битва, разгорающаяся сейчас в городе – в его любимом городе, и битва, кажется, худшая со времен октября 1917-го.
Сторроу принял мэра Питерса в бильярдной своего дома на Луисбург-сквер; и, как только мэр вошел, глава «Дженерал моторс» сразу же заметил, как тот загорел. Это подтверждало давние подозрения Сторроу, что Питерс – человек легкомысленный, мало подходящий для своего места даже в обычных обстоятельствах, а уж тем более – в нынешних.
Разумеется, он приветливый парень, как многие легкомысленные люди; вот он пружинистыми шагами пересек комнату, направляясь к Сторроу, одаряя его широкой и энергичной улыбкой.
– Мистер Сторроу, как любезно с вашей стороны со мной встретиться.
– Напротив, для меня это такая честь, господин мэр.
Рукопожатие мэра оказалось неожиданно твердым, и Сторроу отметил, как ясны его голубые глаза: возможно, в этом человеке таится нечто большее, чем он предполагал. Что ж, удивите меня, господин мэр, удивите.
– Вы знаете, почему я пришел, – заявил Питерс.
– Полагаю, для того, чтобы обсудить ситуацию, касающуюся полиции.
– Совершенно верно, сэр.
Сторроу провел его к двум кожаным креслам вишневого цвета. Они уселись. Между ними был столик с двумя графинами и двумя стаканами. В одном графине – бренди, в другом – вода. Сторроу предложил напитки мэру. Питер благодарно кивнул и налил себе стакан воды.
Сторроу положил ногу на ногу и снова изучающе его оглядел. Указал на собственный стакан, Питерс послушно нацедил воды и ему, после чего оба откинулись на спинки кресел.
Сторроу осведомился:
– Как вы себе представляете, чем я могу оказаться вам полезен?
– Вы самый уважаемый человек в городе, – произнес Питерс. – Кроме того, сэр, вы пользуетесь народной любовью, ибо помогали сохранять тепло в домах в течение войны. Мне нужно, чтобы вы и другие члены Торговой палаты по вашему выбору создали комиссию для изучения вопросов, которые подняли полицейские, и контраргументов, выдвинутых комиссаром полиции Кёртисом. Цель – определить, на чьей стороне истина и кто из них в конце концов должен одержать победу.
– Будет ли эта комиссия обладать властью принимать решения или же она будет наделена лишь рекомендательными функциями?
– В городском законодательстве указано, что, если нет свидетельств неправомерного поведения комиссара полиции, за ним остается последнее слово при обсуждении всех вопросов, непосредственно затрагивающих полицию. Его решения не вправе отменить ни я, ни губернатор Кулидж.
– Таким образом, наши возможности ограниченны.
– Да, сэр. Но если иметь в виду, с каким огромным уважением относятся к вам не только в штате, но также на федеральном уровне, я более чем уверен, что ваш совет воспримут как должное.
– Когда следует сформировать такую комиссию?
– Безотлагательно. Уже завтра, если возможно.
Сторроу открыл графин с бренди. Питерс подставил стакан, и Сторроу налил ему.
– Что касается полицейского профсоюза, – заметил он, – то их слияние с Американской федерацией труда представляется мне немыслимым. Я хотел бы встретиться с представителями этого профсоюза как можно скорее. Завтра днем. Вы можете это устроить?
– Будет сделано.
– Что вы думаете о комиссаре Кёртисе?
– Озлобленный человек, – ответил Питерс.
Сторроу кивнул.
– У меня сложилось такое же мнение. Когда он занимал должность мэра, я был попечителем в Гарварде, и несколько раз мы с ним встречались. Я помню только его озлобленность – пусть подавленную, но совершенно ужасную, замешанную на ненависти к себе. Когда такие люди обретают власть после длительного пребывания в опале, это вселяет беспокойство, господин мэр.
– Согласен, – ответил Питерс.
– Такие люди перебирают струны, когда пылают города. – Сторроу издал долгий вздох, и выпущенный им воздух наполнил комнату; казалось, тот наблюдал столько веков людской глупости и саморазрушения, что будет кружить по бильярдной до завтрашнего дня. – Они обожают пепел.
В середине следующего дня Дэнни, Марк Дентон и Кевин Макрей встретились с Джеймсом Дж. Сторроу в роскошном номере отеля «Паркер-хаус». Они принесли с собой подробные доклады о санитарно-гигиеническом состоянии всех восемнадцати полицейских участков и анализ динамики заработной платы по тридцати другим городским профессиям – уборщики, докеры, трамвайные вагоновожатые, – в сравнении с которой жалованье полицейских выглядело ничтожным. Все это они разложили перед Джеймсом Дж. Сторроу и тремя другими бизнесменами, вошедшими в его комиссию. Те просматривали их, то удивленно покачивая головой, то хмыкая, так что Дэнни стал опасаться, не слишком ли много козырей они сразу выложили.
Сторроу хотел было взять из пачки очередной доклад патрульного, но передумал и отодвинул ее в сторону.
– Достаточно, – произнес он негромко. – Вполне достаточно. Нет ничего удивительного, джентльмены, что вы чувствуете себя заброшенными в том самом городе, который защищаете и охраняете. – Он глянул на трех своих коллег, и все они, как по команде, с сочувствием закивали. – Это стыд и позор, джентльмены, хотя далеко не вся вина лежит на комиссаре Кёртисе. Такое происходило еще при О’Мире, на глазах у мэров Кёрли и Фицджеральда. – Сторроу поднялся из-за стола и пожал руки сначала Марку Дентону, потом Дэнни, потом Кевину Макрею. – Приношу свои глубочайшие извинения.
– Спасибо, сэр.
Сторроу прислонился к столу, по-прежнему глядя на них.
– Что же нам делать, джентльмены?
– Мы лишь хотим получать по справедливости, сэр, – ответил Марк Дентон.
– И в чем же для вас состоит справедливость?
Дэнни произнес:
– Ну, сэр, для начала – повышение зарплаты на триста долларов в год. Никаких спецзаданий и сверхурочных без компенсаций, сопоставимых с компенсациями в тридцати других сферах деятельности.
– А еще?
– А еще, – вступил Кевин Макрей, – отменить правило, согласно которому мы должны сами оплачивать свою форму и снаряжение. А еще речь идет о чистых служебных помещениях, сэр, о чистых кроватях, о туалетах, пригодных для использования, об уничтожении крыс и вшей.
Сторроу кивнул. Взглянул на трех коллег, хотя ясно было, что здесь по-настоящему весомо лишь его слово. Он вновь повернулся к полицейским:
– Присоединяюсь.
– Извините?.. – озадаченно проговорил Дэнни.
В глазах у Сторроу зажглась улыбка.
– Я говорю, что абсолютно с вами согласен, полисмен. Я разделяю вашу точку зрения и дам рекомендацию полностью удовлетворить вас.
Первой мыслью Дэнни было: так просто?
Однако за ней сразу пришла вторая: подожди, сейчас будет «но».
– Но, – произнес Сторроу, – мои полномочия в данном случае ограничиваются лишь рекомендациями. Сам я не могу принимать решения. Это может осуществить лишь комиссар Кёртис.
– Сэр, – отозвался Марк Дентон, – прошу прощения, но комиссар Кёртис сейчас решает, увольнять или не увольнять девятнадцать сотрудников.
– Я осведомлен об этом, – заметил Сторроу, – но не думаю, что дело дойдет до увольнения. Это было бы в высшей степени неосмотрительно. Верьте или нет, джентльмены, но городские власти поддерживают вас. Просто они не поддерживают забастовку. Если вы позволите мне урегулировать этот вопрос, вы получите все, что требуете. Окончательное решение за комиссаром, но он человек благоразумный.
Дэнни покачал головой:
– Я пока не видел никаких подтверждений этому, сэр.
Сторроу улыбнулся почти лукаво:
– Как бы там ни было, обещаю вам: городские власти сумеют увидеть в вашей позиции логику так же, как это вижу я. И вы получите справедливый ответ на все свои претензии. Я прошу терпения, джентльмены. Прошу рассудительности.
– И вы их получите, – заверил Марк Дентон.
Сторроу вернулся к столу и начал рыться в бумагах.
– Но вы должны будете выйти из Американской федерации труда.
Вот оно. Дэнни захотелось вышвырнуть стол в окно. А вслед за ним – всех, кто в комнате.
– И на чью же милость мы отдаемся в этот раз, сэр? – осведомился он.
– Не совсем понимаю вас.
Дэнни встал:
– Мистер Сторроу, все мы вас уважаем. Но мы получаем жалованье на уровне девятьсот третьего года, потому что наши предшественники двенадцать лет верили пустым обещаниям, прежде чем наконец потребовать положенного. Мы слышали от городских властей клятвенные заверения, что после окончания войны мы сполна получим все, что нам причитается. И что же? Нам до сих пор платят то же самое жалованье, что и в девятьсот третьем году. И что же? Никакой послевоенной компенсации. Районные участки так и остаются выгребными ямами, патрульные как перерабатывали, так и перерабатывают. Мистер Кёртис заявляет прессе, будто формирует некие «комиссии», ни словом не обмолвившись, что формирует их он из своих прихвостней, которых никак не назовешь беспристрастными. Мы уже доверялись городским властям, мистер Сторроу, доверялись бессчетное количество раз, и нас всякий раз оставляли с носом. И теперь вы хотите, чтобы мы отреклись от единственной организации, которая дала нам реальную надежду?
Сторроу положил ладони на стол и пристально посмотрел на Дэнни:
– Да, полисмен, я этого хочу. Вы можете использовать АФТ как козырь. Я говорю вам это откровенно. Это умный ход, и не сдавайте эту карту сразу же. Но уверяю вас, юноша, рано или поздно вам придется ее сдать. Если вы предпочтете бастовать, я буду в этом городе самым убежденным сторонником того, чтобы вы больше никогда не надели полицейские значки. – Он наклонился вперед. – Я верю в вашу правоту, полисмен. Я буду бороться за вас. Но не загоняйте в угол ни меня, ни нашу комиссию.
В окнах за его спиной ярко сияло безоблачное голубое небо. Прекрасный летний день, выпавший в первую неделю сентября: такого достаточно, чтобы все забыли темные августовские дожди и ощущение, что больше никогда не высохнешь.
Трое полицейских встали и отдали честь Джеймсу Дж. Сторроу вместе с его коллегами, после чего удалились.
Дэнни, Нора и Лютер играли в карты на старой простыне, разложенной между двумя железными дымовыми трубами на крыше. Был поздний вечер, все трое устали: от Лютера пахло скотным двором, от Норы – обувной фабрикой, – но все равно они поднялись сюда с двумя бутылками вина и колодой, ибо в городе не так много мест, где черный мужчина и белый мужчина могут вместе повеселиться, и еще меньше таких мест, где к ним могла бы присоединиться женщина и вдоволь попить вина. Когда они вот так собирались втроем, у Дэнни возникало ощущение, что они как-то обманули жизнь.