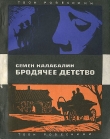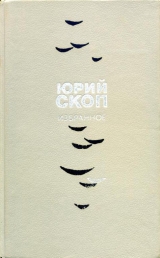
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Скоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Не знаю, существует ли такое в кинотерминологии – режиссерский слух? Про музыкальный-то каждому известно. Особенно тем, кто без слуха. А вот режиссерский… Его я для себя так бы расшифровал: умение слышать не себя, режиссера, в актере, а наоборот, актера в себе, режиссере, значит…
У Макарыча, без закидона, абсолютный режиссерский слух. Он всегда знает, чего хочет. К тому же – не противник принять встречный совет. Актер для Шукшина прежде всего человек, личность. И за предел этого он не любитель ходить… Считает – ни к чему.
На съемках «Странных людей» был такой эпизод. Снималась массовка – проводы сельского гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом…
День выдался на деревне – самое то… С утра дождичком перекинуло, а на́ полдень – по-свежему – солнце. Человек сто, а может и поболе, вышло на расставанье. С песней… Живет в народе такая – «Последний нонешний денечек…». Мотор! Пошли… Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тоё… Будто они и не люди деревенские. Позабыли, оказалось, песню-то… Волнами рассыпался лад, перекатами: где густо, а где просто рты разевают. Дубль… Другой… Макарыч яриться начал. Занервничал. Кстати, на съемках он как-то растворялся в массе – одет, что ли, был простенько: ковбоечка стираная, кепсончик бывалый… Если кто приезжал или со стороны полюбопытствовать норовил – всю дорогу его с Валей Гинзбургом, оператором, путали. То есть оператора принимали за режиссера. Валя-то в комбинезоне, в шапочке с пластмассовым козырьком… Импозантность! А этот – так, без виду… Но это все к слову… Третий дубль! Пленка горит, а в результате – чепуха сплошная. Вот тогда и влетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видали, остановил яростным взмахом движение и как рявкнет:
– Вы што?!.. Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы…
И – начал:
– «Последний нонешний денечек…» – зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным, за всю массовку вложился в голос: откуда что берется?.. И – вздохнула деревня, прониклась песней…
Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толковали: вот уж спели так спели! Ах…
И еще – к теме о режиссерском слухе. Макарыч замечательно просто умеет ладить с абсолютно непрофессиональными, в смысле актерства, людьми. В тех же «Странных людях» то на первом, то на втором плане живут у него обыкновенные сельские жители. К примеру, кто помнит, в новелле «Братка» есть момент – старуха ругается через банное окошко на молодую хозяйку:
– Никудышные совсем молодые пошли! Мужик скоре вернется, а она все ишшо не сготовила баньку!..
Вы бы видели, как разошлась та «актриса». Причем разошлась до «мотора», камера еще не была готова к съемкам. Макарыч аж задохнулся от хохота, припал к бабусе, обнял ее:
– Погоди, ну погоди, мать! Перегоришь раньше-то… – еле унял. А все оттого, что понятное задавал людям, родное им. Неподсильного не вымучивал. Тут его глаза надо видеть или представлять: глубокие, прогретые добротой и лютым вниманием к тебе. В них так и написано: не робей – помогу… Сей секунд поддержку получишь. Мы же – единомышленники…
Ну вот, а теперь почти главное – об единомыслии. Шукшин – универсал. Актер, режиссер, драматург, писатель… Кое-кому это непонятно и раздражает. Слыхивать доводилось разговоры, в которых судят его за данное «многостаночие». Неправильно судят. Не по уму… Макарыч, сам с собой, во всех перечисленных ипостасях – единомышленник. Одно лишь дополняет другое, образуя и объемность, и глубину… Тем не менее интересовался у него:
– Ну, а кто же ты больше всего?
– Писатель. Только, если по правде, – им мне быть больше хочется, чем есть… И нервничаю, когда нехорошо обо мне сомневаются, – когда это, мол, человек успевает все!.. Ничего же особенного. Работать надо непрерывно. Непрерывность – хорошая штука. Всегда в форме, и сегодня можно доделать, додумать вчерашнее… Только не терять форму. Меня иногда вышибает из формы.
Здесь я его попытался изловить на нелогичности:
– Постой… Сам же говорил, – я припомнил ему не вошедший в «Странных людей» кусок диалога. Захарыч там толкует мне – Кольке – по поводу его резьбы:
«– Торопиться здесь не надо. Не выходит – лучше отложи. Это какой-то уж слишком бедный или непомерно самонадеянный человек заявил «ни дня без строчки». А за ним и все: творить надо каждый день обязательно… А зачем – обязательно? Ведь так-то «затворишься» – подумать некогда будет. Понимаешь ли меня?
– Понимаю, – сказал Колька, – спешка нужна при ловле блох.
– Что-то в этом роде.
– Тяжело только, когда не выходит…»
– Ну так и што? – улыбнулся глазами Макарыч. – Правильно говорит учитель. Верные слова. Но ты учти: мне еще до этого самого «затворишься» не скоро. Начал я поздно…
В возрасте тридцати одного года окончил Шукшин ВГИК. В 31 год… А до того за спиной у него было разное: деревня Сростки, что лежит по Чуйскому тракту, служба на Черном море, он был радистом боевого эсминца, школа, где преподавал литературу и историю и где впервые написал в газету статью со страстным призывом о всеобуче, автомобильный техникум, который он бросил из-за «непонимания поведения поршней в цилиндрах»…
– Нам лекцию говорят, а мне петухом крикнуть хочется… Я это здорово умел – под петуха… В Сростках петухи наредкостные… Не петухи – Лемешевы… Да. И конечно, не забуду, как на собеседовании во ВГИКе меня Охлопков – сам! – прикупил… Я приехал в Москву в солдатском, сермяк сермяком… Вышел к столу, сел. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот, после, говорит: «Ну, земляк, расскажи-ка, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный сибирский мороз?» Я это напрягся, представил себе холод и ежиться начал, уши трепать, ногами постукивать… А Охлопков говорит: «А еще?» Больше я, сколь ни думал, ничего не придумал. Тогда он мне намекнул про нос, когда морозно – ноздри слипаются, ну и трешь нос-то рукавичкой… «Да, – говорит Охлопков, – забыл…» Потом помолчал и серьезно так спрашивает: «Слышь, земляк, а где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или Ленинграде?» Я оторопел. «Критик-то который?..» – «Ну да, критик-то…» – «Дак он вроде помер уже…» А Охлопков подождал и совсем серьезно: «Что ты говоришь!..» Смех, естественно, вокруг, а мне-то каково?
Потом, после ВГИКа, случилось четыре года подряд пустоты – и виновника здесь не найдешь… Не было прописки, вот и не снимал. Правда, пока учился и жил в общежитии – «четыре гаврика в одной клетке», – написал «Любавины» – роман…
Потешались тогда над Василием свои, однокашники: мол, живи, хватай веселенького, еще успеешь намарать бумаги… Однова живем!
Слушал и скрипел перышком. Обучил себя начисто отключаться от внешнего мира, в котором разное звенело – и голоса, и стаканы… Писал. Писал назло… И осознавал, что злость эта, хорошая, творческая, как двигатель добрый везла… И все-таки четыре года… Их не вернуть, хоть тресни. Чтобы стать режиссером, которым уже был, надо было совсем малое – штамп в паспорте… В тридцать пять получил. И – лед тронулся…
«Живет такой парень» – «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля;
«Ваш сын и брат» – Государственная премия;
роман и три книжки рассказов;
десяток сыгранных ролей;
звание заслуженного деятеля искусств РСФСР;
орден Трудового Красного Знамени;
фильм «Странные люди»…
…За вокзалом, в отемневшей к ночи Вологде, в пустом зале шел кинофильм. Слоилась, упираясь в экран, исходящая от проектора голубая речка, и до боли, до слез ненужно погромыхивали с экрана такие родные, выстраданные за столько времени голоса Чудика, Броньки, Матвея Рязанцева…
«– Слышь-ка! Проснись! – разбудил Матвей жену. – Ты смерти страшишься?
– Рехнулся мужик! – ворчит Алена. – Кто ее не страшится, косую?
– А я не страшусь.
– Ну, так и спи. Чего думать про это?
– Забудут…
И Алена вдруг отзывается не по-сонному серьезно:
– Всех забудут.
– А вот Степана Разина, поди, не забыли…»
Вася Белов, писатель, большой товарищ Макарыча, надавил ему на коленку, одобряюще заокал:
– Да ничего, хорошо!.. Чего ты? Брось!
– Зал-то пустой, елкина мать!
– Ну, это… Ну и что?..
…Шукшин, уже на кухне, кинул рукой сверху вниз.
– Нет, это неудача. Да, да… Не-у-да-ча. Только почему, а?
Когда Макарыч, покусывая губу и похаживая по кухоньке, рассказывал мне про все это, про просмотр такой «Странных людей», да и чего там уж – сам видел, как выходили из зала, не досмотрев, недопоняв чего-то, а если что и выносили с собой, так это – в большинстве – песенку «Миленький ты мой, возьми меня с собой», – попытался успокоить его навсегда вошедшими в меня словами друга моего по этому фильму, Захарыча. Там он говорил мне – Кольке, а может, и еще кому:
«– И – хорошо! И – славно! А вся-то жизнь в искусстве – мука. Про какую-то радость – тут – тоже зря говорят. Нет тут радости. И нет покоя. Вот помрешь – лежи в могиле и радуйся. Радость – это лень и спокойствие…»
Макарыч долго и внимательно глядел в окно – на городской окраинный пейзаж, на пустырь, шуршал разинской бородой, повернулся, хотел что-то сказать, не сказал. А мне показалось, что он хотел сказать Колькиными словами. Помните, Колька говорит их Матвею в самом финале картины «Странные люди»:
«– Резал, режу и – буду резать!..»
Не сказал. Но «резать» будет.
«…Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование!). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив…»
Переписал этот выделенный пробелами абзац из рассказа Шукшина «Воскресная тоска», и он, так же как и самый первый абзац этого моего очерка о друге – вернитесь, пожалуйста, назад, к началу: «…На каком основании вообще человек садится писать?..» – еще раз подействовал на меня знакомо-тревожно. Что это? – хорошая зависть или прямое совпадение с собственным состоянием, когда садишься за стол, забываешь обо всем на свете, а приходишь в себя – за окнами вяло пошумливает просыпающийся город и горизонт уже набирает разымчивую светлоту…
Бутырский хутор
1971
ЧЕСТНЫЙ НАВОЗ
Только что вернулся с Алтая, из Сросток, и… вот все стоит и стоит перед глазами неожиданно яркий, – с солнцем и зеленью, – распахнутый настежь простор, а в нем… ну, такой… синевато-белесый, что ли, растягивающийся блик от оцинкованной крыши дома, в котором пятьдесят лет назад прибавился еще один человек – Шукшин Василий Макарович.
При жизни его мне не довелось побывать там… «в краю далеком»… В уши сейчас так и вошла любимая Макарычем песенка, которую он, как никто, умел напевать… «Ми-лень-ки-ий ты мой, возьми меня-а с со-бо-ой…» Тембр голоса у Шукшина мягкий, с чуть запаздывающей твердинкой, интонация по-сибирски обрубистая, на концах фраз неуловимо смытая не пропускаемым внутрь размышлением.
Кстати, эта его углубленность, сосредоточенность, моментальная отключаемость от всего сиюминутного, мелкого (хотя он и на мелкое еще как умел смотреть) и абсолютное воссоединение только с самим собой – черта немаловажная в шукшинском сложном характере художника. Иначе и быть не могло: сама жизнь и ее нелегкие порой обстоятельства приучили Макарыча создавать для себя тишину отрешения даже и тогда, и там, где об этом и мечтать-то не приходилось.
Однажды ночью – в пору тревожного оканчивания Макарычем работы над странным в своей судьбе фильмом «Странные люди» – я остался у него в Свиблово, на Русанова, 35, в квартире номер 33, – у нас с ним случился вот какой разговор… Только прежде чем перейти к нему, оговорюсь: пожалуйста, поймите меня правильно – чем дальше и дальше уходит время от дня второго октября семьдесят четвертого года, тем, лично мне, все труднее и труднее рассказывать о Шукшине. И – не рассказывать все труднее и труднее. Суть же этой вот петрушки вот в чем… Само время все отчетливей и отчетливей прорисовывает масштаб личности Шукшина Василия. Масштаб же моего понимания его личности, как мне покуда сдается, не совсем еще точно и плотно накладывается на подлинник. Остаются зазоры, неспелые по мысли пространства. В общем, надо еще многое понять в Шукшине. Мно-о-гое! Ну, а теперь про тот ночной разговор. Я его, но глубине высказанною тогда Макарычем, вывожу для себя чуть ли не в главный…
Было тихо. За окном шел снег. Шукшин сидел на кровати в белой рубахе. Посмотрел на меня как-то… прорубно (иного слова тут не подберешь) и заговорил:
– Ни ты и ни я Львами Толстыми не будем. Мы с тобой уйдем в навоз. Только ты вот чего должен понять… Только на честном навозе может произрасти когда-нибудь еще что-то подобное Льву Николаевичу. Только на честном!
…Нас везли по Чуйскому тракту в Горный Алтай. Автобус покачивало. Беспрерывно говорил о чем-то гид, и потому, что он говорил беспрерывно, я не слышал, о чем он говорит. Диковинные по красоте места становились все диковиннее и диковиннее. И вдруг – сознание цепко поймалось на очередную порцию слов:
– …а вот сейчас, товарищи, мы проезжаем по земле, толщина чернозема которой не имеет аналога во всем мире. Только здесь, на Алтае, этот культурнейший слой почвы достигает одного метра семидесяти сантиметров!..
Разом вспомнилась та далекая теперь уж зимняя ночь семидесятого года; белая смытость рубахи Макарыча; глаза его, ищуще вглядывающиеся в меня, и… конечно же, слова про честный навоз…
Сростки – Москва,
июль 1979
К ЧЕРТУ! К ЧЕРТУ!
Размышления после одного разговора с артистом Андреем Мартыновым
Скажу честно, что вот прямо сейчас, когда я уже пишу эти строки, то есть конкретно хочу поделиться тем, что услышал в себе, вдумываясь, вглядываясь и вчувствуясь в Андрея Мартынова, – а ведь он в большей мере отвечал на мои вопросы и, следовательно, в свою очередь, тоже вдумывался, вглядывался и вчувствовался в меня, прежде чем отозваться или не отозваться откровенностью, – я глубоко убежден в одном: мне повезло на разговор и встречу с человеком глубоким. А вот на сколько футов, дюймов, метров (вообще – кто знает, какими метрическими понятиями измеряется глубина души, да к тому же еще – творческой?) произошло это затянувшееся до апрельской полуночи погружение, – тут я готов на личное и абсолютно чистосердечное признание – на столько, на сколько я к этому разговору был уже зрел, культурен, добр, отважен, порядочен и глубок сам.
Во всяком случае, от чего я более всего оберегал, вернее, остерегал себя, разговаривая с Андреем Мартыновым, так это от хорошо понятного мне, и тем не менее врожденного в каждом из нас, эгоистического критерия, что и подвигает нас, – к сожалению, сплошь и рядом – судить о людях по тем их очевидным признакам, что совпадают с нашими. Короче, я не хотел мерить Андрея на свой аршин. Я хотел открыть в нем то, чем не располагал, но… но вот тут-то и таилась как раз, пожалуй, самая серьезная опасность: я шел на разговор с этим известным на всю нашу державу молодым артистом как за кулисы, а там-то ведь все по-иному: и мечи деревянные, и усы наклеенные, мраморные колонны – из папье-маше, а только что покорявший своей беспримерной мужественностью герой стоит возле телефона-автомата, держа в левой руке парик, а в правой трубку, захлебывается дешевой «Примой» и упрашивает кого-то совсем даже и не мужественным голосом уговорить какого-то жестянщика Костю, чтобы он ему ну хотя бы завтра, к обеду, но заделал левое заднее крыло у «жигуленка», в которое ему вмазалась только что, ну вот прямо перед этим спектаклем, какая-то раззява…
К своим сорока пяти годам я усвоил твердо: посторонним вход в творческую лабораторию души – запрещен!
Объяснить самый сложный фокус, как и развеять по ветру самую прекрасную иллюзию – не стоит ничего: просто и легко. Поэтому я лично терпеть не могу, когда актеры или актрисы начинают натужно показывать с телеэкранов, что они – такие же, как и все, что они имеют право на всякого рода разговоры по поводу собственными же душами сыгранных ролей и тому подобное. А ведь из книг узнаешь, что когда-то сцену, подмостки, актеров освещал загадочный нимб непонятного и возвышенного. Актеры и актрисы буквально приколдовывали к себе… И правильно. Я полагаю, что для людей истинно творческого клана самое важное и самое притягательное заключается как раз в том, как создается и как возникает на свет, «поражая нам чувства» (сейчас я цитирую непревзойденные слова русского поэта Николая Заболоцкого), «неразумная сила искусства»… Значит, по логике, если я и открою в Андрее Мартынове что-то такое, что поможет мне разгадать его лабораторно-душевное, я – ну… этически не вправе делиться своими отгадками. Понимаете?.. К тому же – а вот об этом я просто обязан сказать – мне было интересно идти на разговор с Андреем еще и потому, что знал (кто не поверит, пусть спросит у народного артиста РСФСР, кинорежиссера Владимира Павловича Басова), что он, подбирая на роль, ГЛАВНУЮ РОЛЬ фильма «Факты минувшего дня», актера, чудил довольно-таки странной для меня причудой: ему непременно хотелось, чтобы Кряквин, главный инженер комбината «Северный», внешне (я подчеркиваю это особо – внешне) походил на меня, автора романа «Техника безопасности», что и явился сценарной основой для теперь уже отснятой и готовой двухсерийной картины.
А еще я знал, что, когда Басов набрел-таки на Мартынова (и мы теперь с ним, по правде говоря, благодарим Его Величество Случай, что предыдущий, причем уже согласившийся актер почему-то вдруг отказался сниматься в этой большой и государственной важности роли) и начал рассказывать Мартынову, что его будущий Кряквин должен совершить, выйдя на трибуну в Колонном зале, Мартынов вдруг остановил рассказ Басова нервным жестом и попросил его больше не продолжать…
– А в чем дело? – очень обеспокоенно и крайне сочувственно (Басов как человек – редкостный и внимательный товарищ) поинтересовался Владимир Павлович.
Андрей ответил не сразу:
– Пожалуйста… больше не надо. А то я заплачу.
Итак, я объяснил почти все, отчего я так легко согласился поговорить, а затем и написать об Андрее Мартынове: помимо просто человеческого уважения к нему как артисту, который – а это я видел своими глазами – умеет самоотверженно, до упаду, работать на съемочной площадке, в тонзале у микрофона и никогда не скулить на всякого сорта помехи, мешающие нормальной киноработе, – меня потянуло к нему еще и элементарное профессиональное любопытство: уж коли Мартынов – Кряквин внешне походит на меня – автора, то что же нас разнит в по-сегодняшнему сложном и чересчур уж порой нервном мире искусства?
И был вечер. На квартире у Мартыновых. В приглушенном Большом Тишинском переулке. Я познакомился с женой Андрея, покорившей меня своей неброской обаятельностью и почти неприметной чуткостью.
Франциска – немка. Но при этом говорящая по-русски так… что только диву даешься. Совсем недавно она первой в ГДР защитила кандидатскую диссертацию на тему «Личность и общество в рассказах В. М. Шукшина». Так что покуда не угомонился и мило дополнял нашу компанию сынишка Мартыновых – четырехлетний Саша, – разговор велся о Шукшине.
Франциска была в курсе моей большой личной дружбы с Василием Макаровичем, о котором я могу говорить всегда и бесконечно. И я говорил, говорил о нем, отмечая при этом внимательную, терпеливую невмешиваемость в разговор Андрея. Эта, казалось бы, ничего не означающая деталь только лишний раз убедила меня в том, что он – человек сдержанный. А сдержанность, как мне кажется, свойство драматического порядка. Оно проступает и прописывается в характере только у тех, кто сумел пережить и перетерпеть достаточно большое количество житейских ошибок. Причем масштабы их неважны, важен масштаб перечувствованности их. Только тогда сдержанность способствует самоуглубленности, а именно на ней и произрастает то, что люди окрестили понятием воображения…
Наконец Саша уснул, и мы остались втроем: Франциска, Андрей и я. Франциска сидела у двери, Андрей на кушеточке – против меня. Потянулась обычная предразговорная пауза. Я нарушил ее, вспомнив слова Алексея Толстого об искусстве. Когда-то давно, в одной из повестей, он сформулировал свои мысли о нем следующим образом:
«Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях… Есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу. Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков… Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках, – рождается чудо искусства…»
И Андрей, помолчав, заговорил: он сказал, что вообще-то не терпит и не любит всякого рода статей об актерах, в которых пишут, как правило, не понимая сути этой профессии. Он сказал мне, что я, наверно, не смогу вскрыть работу души актера, потому как то, что требуют от меня, – требуется лишь как реклама, а он приучил себя относиться к популярности крайне сдержанно.
– Я помню себя с двух лет. Я родился в сорок пятом. Мой отец был учителем истории, но очень рано ослеп. Мама… служащая. У меня два брата. Один – теперь врачом в Иванове, городе, где я родился. Второй – тренер по боксу. Началом начал, если говорить об актерстве, для меня послужило радио. Я слушал с детства все радиопостановки, запоминая голоса и интонации. История, книги… Чехов, Некрасов. Актером я захотел быть с пяти лет, но никому об этом не говорил. Самодеятельность и кино терпеть не мог. Потом в Иваново приехал МХАТ. Было приключение-встреча с Грибовым… Потом попытка поступить в студию МХАТа. Провал. Работа каменщиком на стройке. ГИТИС. Меня сначала посчитали комедийного плана. Но когда к нам пришел Павел Хомский, а я до этого отслужил в армии, в войсках ПВО, произошел переворот – я стал играть «негероического героя». Из ТЮЗа я ушел в Театр на Малой Бронной. Своему Васкову, старшине из «А зори здесь тихие», обязан режиссеру Ростоцкому, но нашла меня для него второй режиссер – Зоя Дмитриевна Курдюмова. Из театра сейчас ушел. Почему? А потому что у меня обостренное чувство перспективы… Перестал мне давать театр то удовлетворение, ради которого я готов отрешиться от всего. Понимаете? От всего…
Я открыто и внимательно посмотрел в это мгновение на Франциску и, сам не ожидая того, спросил:
– Франциска, а если бы в судьбе все сначала… вы захотели бы, чтобы ваш муж был актером?
– Нет, – очень решительно ответил Андрей.
– Но это сказал ты, – сказал я.
– Он сказал правильно, – тихо подтвердила Франциска.
И вот именно в это мгновение я понял, что напрасно ищу ту разницу между собой и Андреем. Совпадало слишком многое, и главное – не внешнее – внутреннее: повышенная эмоциональность душ – я-то ведь тоже, хоть и сибиряк и тоже хоть и попробовал кой-чего не сладкого за свои прожитые годы, – не всегда умею припрятать внезапно влажнеющие глаза, то есть могу, могу, черт возьми! – и сейчас расплакаться, как мальчишка… Да и Франциска Андреева чем-то неуловимым походила на мою жену.
– Я умею уходить в себя, – сказал Андрей. – Я и сейчас могу часами сидеть возле клумбы с анютиными глазками, смотреть на них, а видеть людей, разговаривать с ними, спорить, переживать. Эта игра у меня с детства. Не знаю только – зачем я говорю тебе об этом…
– Спасибо, Андрей, – сказал я.
Когда я оделся в прихожей, Андрей и Франциска поманили меня. Я заглянул в дверь. На кроватке сладко-пресладко посапывал белокурый малыш Мартынов.
Андрей проводил меня до выхода на улицу, и я, прощаясь, пожелал ему удачи – знал, что сейчас он снимается сразу в нескольких фильмах и будит, то есть оживляет своей душой – тьфу, тьфу, тьфу! – чекиста Федорова в телекартине «Синдикат-2»; капитана Теренкова в ленте «Через Гоби и Хинган»; конюха Егора в «Крепыше»; рабочего человека в «Мы жили по соседству»; теперь уже безногого Кирьяна в продолжении «Вечного зова»; да плюс заседает в Комитете по Ленинским и Государственным премиям СССР.
– К черту! К черту! – улыбнулся Андрей.
Потом я шел по пустынной, холодной Большой Грузинской к Белорусскому вокзалу и неожиданно подумал, что никогда за все свои сорок пять лет жизни не задумывался – почему мы, люди, желая друг другу удачи, в ответ посылаемся именно к черту. Может быть, между ним и «неразумной силой искусства» имеется тоже какая-то непостижимая связь?..
Во всяком случае, на душе было хорошо. Я встретил на земле еще одного думающего, честного, талантливого человека.
«К черту! К черту!» – мысленно повторил я слова Андрея и вспомнил, к чему они меня подводили: в фильме «Странные люди» режиссера Василия Макаровича Шукшина, где я снимался в одной из главных ролей, мне, деревенскому кузнецу-самородку, адресовал следующие слова сельский учитель:
«– Накормить себя человек никогда не забудет. Вот если бы он не забыл еще хорошую песню спеть, сказку рассказать, черта с рогами выдумать. Вот если бы он не забыл!..»
Была апрельская полночь. И где-то южнее холодной в сей час Москвы наверняка в эту ночь лопались на деревьях почки.
Апрель 1981 г.
СТРАННОЕ СЧАСТЬЕ
– Люда Чурсина согласилась играть Ксению, – сказал мне однажды по телефону Владимир Павлович Басов, набиравший в ту пору актерскую команду на фильм «Факты минувшего дня».
Почему-то запомнилось отчетливое удовлетворение в густоватом, утреннем голосе режиссера и свое, на всякий случай, нейтральное: «Это хорошо…» – которым я хоть как-то, да попытался отреагировать на никак, честно говоря, не удовлетворившую меня новость.
Нет… Чурсина не слагалась в моем представлении с Ксенией. Что-то другое, явно не чурсинское, чудилось, когда я мысленно оживлял свою героиню, сугубо по-авторски зная, что за ее причудливым, внешне отталкивающим экстравагантностью поведением неслышно кричит и тоскует неизъяснимое одиночество…
Если бы двери наших восприятий были очищены, прочитал я не помню уж у кого, всякая вещь показалась бы людям такой, какая она есть. И вот сейчас, из сегодня – так сказать, задним числом, ведь от того раннеутреннего телефонного разговора до этой строки – пропасть минувшего, – я, пожалуй, и попытаюсь объяснить, что же помешало тогда моему изначальному восприятию ленинградской актрисы, а следовательно, и сложению живого ее образа с мысленно оживляемым образом героини из собственноручно написанного романа «Техника безопасности».
Потребность в этом отнюдь не праздная, стучит из души: она же замешена прежде всего на саднящем чувстве вины перед человеком, перед Людмилой Чурсиной. Внутренне не приняв ее тогда, я как бы не доверил ей свою героиню, а значит, прагматически поставил под сомнение сам факт человеческого дарования актрисы. Иной логики, как мне кажется, тут быть не может: свой вкус мы обычно наделяем правами последней инстанции и крайне редко додумываемся до того, что красота актрисы (актера), мастерство, способность воображать и ум ее (его) без таинственной силы души, другого слова не подбирается, именно и творящей, по-видимому, чудо на сцене или перед кинокамерой, – еще далеко-далеко не составляют всего.
Перечитывая сочинения Ивана Александровича Гончарова на одной из страниц его «Литературного вечера», я счастливо открыл в чем-то идентичное и приговорно сформулированное подтверждение своему же соображению.
«Творчество не всякому дается, – говорит там один из героев, – а реализм и техника – это две двери, которые отворяются перед всеми, кто постучится в них».
Все правильно. «Технарей» и «реалистов» нынче расплодилось на сцене и в литературе – пруд пруди. Уже никого не удивишь, что клоун играет вождя, а журналист сочиняет романы, претендующие на эпохальность. И это бы еще полбеды… Полная беда как раз в том, что вероломное нарушение границ амплуа и потенциальных возможностей дарования нет-нет да и подбадривающе выдается теперь за расширение творческого диапазона, продуктивный поиск-эксперимент, вскрытие внутренних резервов и так далее. Вот откуда, как следствие оправдываемой вседозволенности, стереотипное размножение по сценам и книжным страницам расчетливого рационализма, технических упражнений вместо выражения чего-то глубинного, личного, производного от судьбы, незрелого, лишенного малейшей индивидуальности, подражательства.
В литературе, например, кстати и драматургической, я уже давно обнаружил, сперва интуитивно, а потом и очевидно, существование странной формы инфантилизма. Я эту его модификацию для себя определяю как приспособленческую. Суть же ее, в двух словах, заключается в том, что изрядное количество современных писателей и драматургов в своих произведениях, рассказывая о каком-либо социальном явлении, умышленно рассказывают меньше того, что знают о нем. Но… это особая тема для раздумий, и я к ней готовлю себя специально.
Сейчас же мне хотелось бы попробовать ответить на вопрос чрезвычайной важности: так чем же питается и за счет чего возникает на свет это самое «творчество», что «не всякому дается», и эта самая «таинственная сила души», что, – конечно, слава богу! – не подвластны покуда обывательскому здравому смыслу с его разъедающим критицизмом?
Я полагаю, что добросовестный ответ, а я в нем обязан открыться личностной точкой зрения, позволит мне в какой-то мере искупить вину перед Людмилой Чурсиной. Во всяком случае, ей, человеку, должно стать понятным, с какой такой колокольни судил я, писатель, о правильности выбора режиссера, не будучи еще знаком с самой артисткой и зная о ней лишь по случайному для себя экрану… Ведь то, что я знал о Людмиле Чурсиной, к тому телефонному разговору с Владимиром Павловичем Басовым не укладывалось в параметры, могущие мне спокойно доверить ей свою Ксению. Здесь налицо, я так считал тогда, было другое: пресыщенность от внимания, сытое благополучие и продуманное процветание. Газеты, не уставая, наперебой писали о таланте артистки. Звания и премии, президиумы и заграницы, поклонники, наряды и аплодисменты, интервью и популярность, раздаривание автографов и цветы, автомобили, самолеты, целования рук, щек и губ, жизнь напоказ – вот временно устойчивый и, конечно же, банальный фон, на котором перетекала из фильма в фильм, как из рук в руки, упрямая и все более становящаяся статичной красота очередной советской кинозвезды.
Короче говоря, не выражая вслух своего несогласия с режиссером (в конце-то концов, я просто по-человечески обязан был беречь настроение Басова: «Факты минувшего дня» и без того, в силу различных и вовсе не зависящих от нас обстоятельств, рождались в не очень спокойной-то атмосфере), я основательно нервничал и переживал, заранее предчувствуя возможный провал дорогой для меня роли…
А впервые я увидел и познакомился с Ксенией – Чурсиной в самом начале мая на Кольском полуострове в городе Кировске, где шли натурные съемки.