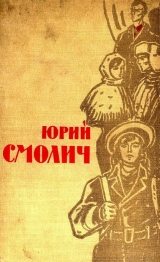
Текст книги "Избранное в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Юрий Смолич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
Первая труппа
У нас тогда не говорили «театр», а говорили «труппа», не говорили «актер», а говорили «артист».
Коль скоро вы приходили в наш театр не как зритель в зрительный зал, а через актерский вход, то, отворив дверь, вы попадали в тесный коридорчик. Вправо этот коридорчик заворачивал на сцену и в костюмерную, влево были большие двери в декоративную мастерскую. Эти двери чаще всего стояли раскрытыми настежь. И ежели мы проходили их, не подумав перед тем снять шапку, то тут же, как свист бича, предвещающий резкий удар, вас настигал хриплый крик:
– Вы в храме искусства! Шапку долой!
И невольно ваша рука хваталась за фуражку.
Среди разбросанной завали – старых порталов, парусиновых приставок, иллюзорных деревьев, облезлых колонн и мешков, среди целой батареи ведер, ведерок, консервных банок, кувшинов и горшочков, сверля вас насквозь, – гневно и уничтожающе впивались в вас два черных глаза в покрасневших белках, над огромными пушистыми черными усами.
– Шапку долой! – раздавалось еще пронзительнее, и если вы, растерявшись, не сразу хватались за шапку, то тяжелая кисть, разбрызгивая сажу, охру или мел с клеем, летела вам прямехонько в физиономию.
Это был наш художник-декоратор Ермолаев.
Сам же Ермолаев постоянно сидел в фуражке, нахлобученной на самые уши, – в черной, с огромными приплюснутыми полями и красными кантами фуражке путейца-железнодорожника, – и в черной, с такими же кантами, шинели с поднятым воротником и зимой, в холод, и летом, в жару. Под шинелью у Ермолаева больше ничего не было: ни штанов, не белья. Он был голый, как младенец, и лысый, как пень.
В своей манере встречать «нечестивцев» Ермолаев был непреклонен и неумолим. Он не делал исключения ни для кого и никогда, даже тогда, когда бывал трезв. А трезвым он бывал только раз в году – в день своего рождения. В этот день, собственно говоря, в эти сутки – от двенадцати до двенадцати ночи – он пил только молоко. В ознаменование того, что и в его жизни было время, когда он не употреблял водки.
Однажды Ермолаева пришли расстреливать двое бандитов из банды Шепеля или Орлика. Они ввалились в папахах, заломленных на затылок. Щелкнули затворы обрезов, загоняя патроны в магазины.
– К стенке! – орали они. – Сейчас мы тебя шлепнем, зараза!
– Шапки долой! – крикнул Ермолаев. – Вы в храме искусства!
Бандиты растерялись и опустили обрезы.
– Шапки долой! – заорал Ермолаев еще громче, и тяжелая кисть, описав в воздухе дугу, ляпнула одному из бандитов прямо в рожу. А Ермолаев возвышался над своими горшками, уперев руки в бока, и шевелил длинными усами. Фуражка по самые брови, воротник поднят, полы шинели нараспашку. Пуговиц на шинели уже не было лет пять. Из-под шинели светилась голая синяя кожа да выпирали ребра, как на скелете.
Бандиты попятились.
На крыльце они остановились и принялись стирать краску со своих рож.
– Ну и сердитый какой… – испуганно сказал один.
– Шкелет! – прохрипел другой. – Ну его к черту!
– Может, какой юродивый… Идем!
И они ушли, не исполнив своего намерения.
Ермолаев тем временем снова уже согнулся над плакатом к завтрашней постановке: «Впервые в нашем городе «Дети Ванюшина»!» Он широкими мазками вписывал золотую лиру в ярко-красный луч утреннего солнца на фоне розовой зари.
– О люди, люди! – шипел он, шевеля фельдфебельскими усами. – Порождение крокодилов. Нелепая помесь аллигатора и канарейки, при любезной услуге друга дома – серого зайца!
Декоратор Ермолаев – это, конечно, было явление патологическое. Однако наша труппа не была бедна такими явлениями. В основном она состояла из чудаков, неудачников и случайных людей. Ее ядро составляли несколько провинциальных профессионалов, обломки кочующих гастрольных трупп, которые по случаю запоя или каким-либо иным не менее важным причинам отстали от своих театров и осели в нашем городе, сами не зная точно, когда, как и почему. Каждый из них был мастер похвастаться тем, как начинал он свою артистическую карьеру в театре Корша, Соловцова или в Александринке, прекрасно зная, что ему никто не верит ни на грош. Потому что всем было хорошо известно, что выше «выходных» ролей в антрепризе Лубенцова, Фогеля или Хренникова никому из них никогда не доводилось подниматься. Это ядро густо обросло старыми, по двадцать – тридцать лет проведшими на сцене, городскими любителями из пенсионеров-железнодорожников или чиновников, главным образом почтового ведомства. По их словам, в Российской империи не было ни одной более или менее известной провинциальной знаменитости, с которой бы им не приходилось играть во время гастролей этой знаменитости в нашем городе или в пригородных местах в радиусе пятидесяти километров: Харламов, Горев, Максимов, Мозжухин. И, наконец, третья, самая многочисленная группа актеров – это была одичалая и бесноватая, взбалмошная свора экзальтированных молодчиков, недоучек и профанов, влюбленных в независимость актерской профессии или в актрис. О богема! О беспечное бродяжничество! О великолепие путешествий! О Счастливцев и Несчастливцев! О бог в трех лицах и актер – один в тысяче ипостасей! О Юренева, Полевицкая, Лысенко, Вера Холодная!
Впрочем, Ермолаев был все-таки выше всех других. Он видел Комиссаржевскую. Он плакал, смотря игру Заньковецкой. Писал декорации братьям Адельгейм. Давал сюжеты Ге. Пил с Орленевым. А с Мамонтом-Дальским бил окна приставу за неразрешенный спектакль. Кроме того, он был самым близким другом всех других знаменитостей.
И это была правда. Когда какая-нибудь знаменитость появлялась в нашем городе, она прежде всего приходила за кулисы и, сняв шапку, переступала порог декоративной.
– Сашка! – кричала знаменитость, блеснув над головой, как саблей, сороковкою, а то и целым штофом. – Здоров!
Усы у Ермолаева лезли вверх, под самую фуражку, глаза всверливались в пришельца, и кисть в охре или в саже летела куда-то в потолок или в стену.
– Мерзавец! – ревел Ермолаев. – А где ж огурцы?
Он закусывал только солеными огурцами.
Молодежь труппы состояла из талантов и бездарностей. Сегодня, через много лет, немало этих талантов забыли про театр и завершают свой жизненный путь железнодорожными конторщиками, профессорами биологии, фельдшерами, инженерами или председателями колхозов. Немало из этих бездарностей и до сего времени обременяют подмостки провинциальных театров и аккуратно платят членские взносы союзу Рабис. Но есть также имена, которые не позорят, а продолжают украшать наилучшие театры нашей советской родины.
Но в ту пору все были в равной мере увлечены, возбуждены, все горели единым священным огнем. Семь номеров красок, тетрадка ролей и свет рампы – это было все. Бессонные ночи репетиций, головокружительность премьер, неугасимая радость ежедневных спектаклей, образы, мысли, мечты, бурлящая жизнь вокруг и беззаветная преданность своему, пусть и неблагодарному, но любимому делу! Значит, это дело было самое лучшее. И во имя этого дела мы были согласны и способны на все. Да здравствует труд – не покладая рук не щадя себя, жертвуя всем личным!
Декоратор Ермолаев тоже был молод душою.
В штате труппы он не состоял. Он числился в списках железнодорожных служащих, кажется – движенцев. Однако уже давненько от всего этого осталась лишь фуражка с кантами да шинель. Ермолаев создавал декорации из ничего, писал плакаты на чем угодно, добывал все, что было нужно для оформления задуманного спектакля. И он не получал никакого вознаграждения, никакого жалованья. Это был бессребреник и чудак.
Кормила Ермолаева его жена. Где-то на окраине города стояла покосившаяся хатка, подле нее садик с двумя яблонями, да в углу двора – саж на одну свинью и выводок цыплят. Достатков хватало лишь на один пшенный кулеш поутру.
Она приходила – обездоленная и печальная старая женщина, ежедневно около одиннадцати с закутанным в тряпки горшочком. Разматывала тряпье, снимала крышку и ставила его на стол. Это был горшочек точно такой, как и десятки других, стоявших тут, – с зеленью, охрой, кармином, суриком. Только из него густо поднимался пар: женщина старалась приносить кулеш горячим. Ведь и алкоголику нужно хотя бы раз в день поесть горячего. Из кармана она вынимала деревянную ложку, завернутую в белую бумагу, деревянную потому, что, если бы принесла железную, Ермолаев тотчас забрал бы ее для растирания красок. Она клала ложку перед ним, а сама, молчаливая и печальная, отходила и тихо стояла среди декоративных готических колонн, полотнищ, размалеванных под лес, и листов загрунтованной фанеры для плакатов. Ермолаев молча хлебал, а она внимательно следила, чтобы он съел все, до последней капли, до последней крошки. Глаза ее не отрывались от красного носа мужа-пьяницы. Потом она аккуратно свертывала все, убирала в свою корзинку и уходила. А Ермолаев снова брался за кисть.
Дома Ермолаев не жил. Он не умел жить, как все люди. Он всегда был здесь, среди этих дворцов, лесов, хаток, павильонов, прекрасных беседок и ветхих заборчиков, – среди этих химер, намалеванных собственной рукой и сваленных по углам кучами, как попало. Он жил среди этих ведер, ведерок, котелков и папок с красками, которые распространяли едкий, отравляющий, но единственно милый его сердцу запах. Без этого запаха он умер бы, как и без театра или водки.
Ермолаев и спал в театре. Зимой, когда театр не отапливался и краски замерзали в банках и ведерках, он укладывался спать не в декоративной, а на сцене. Там он разворачивал огромный ковер, ложился поперек его, брался за один конец и, перекатываясь с боку на бок, завертывался в него, как в трубу. Проделав это, он засыпал на всю ночь сном праведника. Иногда ночью, когда в театре никого не было, из ковра гремели монологи Гамлета и короля Лира. Это Ермолаев декламировал, чтобы быстрее уснуть.
Как-то в театр привезли реквизит в сундуках и ящиках. Подводчики неосторожно бросили какой-то сундук на свернутый ковер. Тихим воплем и стоном отозвался потревоженный ковер. И вдруг перед остолбеневшими, перепуганными возчиками появился Ермолаев.
– Шапки долой! Вы в храме искусства, мерзавцы! – еле слышно прохрипел он и потерял сознание.
Наш зритель
Красная Армия разгромила деникинские полчища и погнала их на юг, к морю. Глубоко вклинившись в расположение противника, бравые красные кавалеристы захватили наш город к вечеру зимнего дня. Броневики из пульманов, обложенные мешками с балластом, въехали следом за ними по трем магистралям.
На следующий день утром в одном из особняков на Графской улице разместился военный комиссариат. А в полдень все актеры через вестовых получили повестки с предложением немедленно явиться в комиссариат. Час тому назад приказом по окружному военкомату – это был один из первых его приказов – нашу труппу наименовали «Красноармейским театром-студией при агитпросвете уездного военкомата». Этим же приказом в театр назначался политический комиссар и актерам устанавливалось государственное содержание. В виде аванса всем актерам было выдано по паре прекрасных спиртовых подметок бердичевского завода. Вчера у деникинцев был отбит целый вагон кожи.
Военный комиссар сам прочитал нам этот приказ.
– Играть будете каждый вечер, – добавил он. – А если какая-нибудь часть будет уходить на фронт вечером, то для нее придется играть днем. Спектакли бесплатные. Первый спектакль сегодня. Какой у вас репертуар?
Комиссар театра уже знал наш репертуар. Он приложил руку к папахе и доложил:
– «Свадьба Кречинского», «Поцелуй Иуды», «Красный фонарь», «На пороге к делу», «Роковой шаг», «Гонимые», «Бедность не порок»…
– «Бедность»… что? – переспросил военный комиссар.
– «Бедность не порок».
– Ага! – удовлетворенно протянул комиссар. – Вот, вот! Правильно!
– Это известная пьеса знаменитого драматурга Островского, – пояснил Костоправов-Рудин.
Произнес он это с апломбом, заносчиво, слегка пренебрежительно, потому что наш театр, дескать, не какой-нибудь: знаменитые пьесы имеет в своем репертуаре!
Пренебрежение это уже относилось к неосведомленности самого военного комиссара, которому неизвестно то, что каждый культурный человек должен знать. Военный комиссар действительно в области культуры звезд с неба не хватал, фамилию свою подписывал тремя закорючками, после каждого слова вставлял «значится»; не гнушался он и такими словечками, как «упьять», и вместо шестнадцать произносил «шешнадцать». Университетов он, видимо, не кончал.
– Вот и сыграете, значится, «Бедность не порок», – сказал военком решительно. – Правильная, видать, пьеска.
Так, спектаклем «Бедность не порок» «Красноармейский театр-студия Н-ского уездного военного комиссариата» начал свое существование. Комиссар театра собственноручно сел писать плакат на двух листах фанеры, который должен был оповестить все военные части и эшелоны, что бедность не есть порок, в чем каждый может убедиться, придя вечером на представление. Внизу плаката фиолетовыми чернилами на желтоватой неровной поверхности фанеры были аккуратно, в алфавитном порядке, написаны фамилии всех актеров – настоящие фамилии, согласно документам: псевдонимов комиссар театра не признавал. Я снова обрел свою настоящую фамилию.
Первый спектакль состоялся вечером в тот же день.
Мы, актеры, шли в театр как-то неуверенно. Стоит ли вообще идти? Ведь фронт в десяти километрах, пушки бьют беспрерывно – залпами. Снаряды ложатся совсем близко, иногда на территории города. Случается, что ветер доносит отзвуки пулеметных очередей откуда-то с запада. Придут ли при такой обстановке в театр зрители? Ведь наш город невелик, и среди нескольких тысяч граждан вряд ли наберется полтысячи смельчаков, готовых рисковать жизнью, чтобы посмотреть пусть и известную пьесу, пусть и знаменитого драматурга. К тому же пьеса уже шла до этого раз пять-шесть, и все любители сценического искусства должны были бы ее видеть. Мы шли в театр не очень-то охотно. На каждом углу патрули проверяли наши документы, а ночевать, как предупредил комиссар, мы должны были в самом театре: город был на осадном положении, и ходить ночью по улицам запрещалось.
И вот мы у нашего театра.
Еще издали мы увидели огромную толпу и сильно встревожились. Толпы людей в серых шинелях, с винтовками за плечами суетились вокруг театра, перекатываясь волнами от одних дверей к другим. Стоял страшный гомон, слышались пронзительные выкрики. Кто-то с кем-то спорил, кто-то кого-то усовещивал.
Митинг? Бунт? Может, переворот? Не повернуть ли назад, пока не поздно?
Но дело, оказывается, было совсем в другом. В нашем театре было всего несколько сот мест. Еще за два-три часа до начала, как только появилось объявление о спектакле, все места уже были заняты наиболее заядлыми любителями сценического искусства из числа красноармейцев. Еще через полчаса были забиты и все проходы. А через час уже не было никакой возможности даже подойти к театру. Теперь у входа бурлила толпа из тех, кто пришел с опозданием, то есть за час до начала спектакля. Бойцы подразделений, которым вскоре выступать на фронт, требовали пропустить их в театр вне очереди. Желающих смотреть спектакль было раз в пять больше, чем мест в театре.
И тут выяснилось, что в театре нет ни одного актера. Все мы, актеры, были еще тут, по эту сторону толпы. Наши усилия пробиться к дверям, за кулисы, сквозь густую толщу народа оказались тщетными. Когда же кто-то более юркий все-таки протискивался в толпу красноармейцев, его немедленно вышибали с возмущенными криками: «Вольных не пускать!»
Тогда комиссар театра влез на забор. Он выхватил револьвер и стал стрелять вверх. После пяти-шести выстрелов ему все-таки удалось обратить на себя внимание. В горячей и страстной речи он объяснил собравшимся, в чем дело: актеры все здесь, но они не могут пробиться в театр, а пока актеры не оденутся и не загримируются, спектакль все равно не начнется. Он просил немного расступиться и пропустить актеров в театр.
Громкое «ура» было ему ответом. Десятки рук уже подхватили каждого из нас. У дверей, ведущих за кулисы, толпа расступилась, образовав широкий проход. Высоко над толпой, над головами красноармейцев, под нескончаемое «ура» актеры проплыли в театр.
Нас опустили на землю только на сцене. И красноармейцы, которые внесли нас на плечах, остались чрезвычайно довольны: теперь и они были в театре, и уже никакая сила не могла их выбить оттуда. Теперь-то они посмотрят спектакль. Мест в зале не было, и красноармейцы, доставившие нас, расположились тут же, между декорациями, а то и просто на сцене.
Зрительный зал был похож на военный стан, готовый к бою. Красноармейцы, перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами, сидели с винтовками в руках. Серые шинели, зеленые стеганки, папахи с красными бантами, фуражки с пятиконечными звездами. Тучи махорочного дыма клубились под потолком. Шум, гам, песни плыли над тысячной толпой, втиснутой в небольшой зал, который был рассчитан самое большее на полтысячи зрителей. Горячее дыхание людей могучим порывом било в занавес, и он надувался, словно парус под ветром. Если бы это был парус, а внизу вода – театр уплыл бы вместе с актерами и зрителями.
Актеры стояли, схватившись за головы. Разве может состояться спектакль? Разве хоть одно слово, произнесенное отсюда со сцены, пробьется туда в зал, сквозь этот шторм?
Зазвенел второй звонок. Погас свет. И в ту же секунду глубокая тишина – глубочайшая, абсолютная тишина воцарилась в зале. Оборвалась песня, смолк шум, не скрипнул ни единый стул, замерло все.
Затаив дыхание, тысячи людей в папахах с бантами, с винтовками в руках, все как один впились жадными глазами в занавес.
За годы империалистической войны и позже, за годы гражданской войны, мне приходилось видеть в театральном зале совершенно различные контингенты зрителей. И каждый контингент совсем по-разному принимает начало спектакля. И как раз в ту секунду, когда в зале гаснет свет, вспыхивает рампа и вот-вот должен подняться занавес, зритель лучше всего раскрывает себя актерам.
Безусые мальчишки в зеленых погонах – бледные от кокаина прапорщики царской армии – впивались в занавес взглядами трагическими и пустыми. В драматических сценах пьесы они весело хохотали, в веселых – размазывали слезы по щекам. Лейтенанты немецкой оккупационной армии сидели тихо и чинно, зажав палаши между коленями, и встречали поднятие занавеса взглядами суровыми и безразличными, словно готовились учинить актерам допрос. Во втором действии, какое бы оно ни было, они начинали клевать носами, однако просыпались сразу, как только вспыхивал в зале свет, и, аккуратно подтягивая амуницию, уходили, даже не взглянув на сцену. Петлюровские гайдамаки, как только после звонка погаснет свет, сразу же начинали свистеть и гикать, в патетических сценах спектакля хлестали нагайками по голенищам или, закладывая два пальца в рот, насмерть пугали актеров разбойничьим свистом. Польские поручики и унтер-офицеры разваливались в креслах, бряцая шпорами и палашами, и на протяжении всего спектакля громко разговаривали, лишь иногда чванливо, как бы оказывая милость, бросали взгляд и на сцену. Деникинская офицерня смотрела мутными и пьяными глазами одинаково безразлично на сцену, как и на гладкую стену.
Театральный зал, переполненный красноармейцами, затихает сразу – только прозвенит звонок. Глубокая тишина наступает тут же, как только в зале погаснет свет. Зрители впиваются в занавес взглядами горячими и взволнованными. Занавес идет вверх, по залу сразу перекатывается короткий радостный гул. И руки уже готовы к аплодисментам.
Из-за кулис, между декорациями, а то и просто из-под ног актеров, с самой сцены, следят за каждым жестом и каждым словом артиста раскрасневшиеся, взволнованные и счастливые лица тех, кому не хватило мест в зале.
«Красное зарево»
Мы готовили «Свадьбу Кречинского».
Репетиция застопорилась на самом трудном месте. Бедняга Нелькин только что бросил в лицо великосветскому авантюристу Кречинскому гордый и отчаянный вызов на дуэль. И замер. Замерли все. Напряженная пауза – максимальная пауза, на двадцать, на тридцать секунд – должна была сковать всех присутствующих. И тогда Кречинский медленно, с высокомерным видом должен был повернуть в сторону бедняги Нелькина свое холодное, холеное лицо, надменно усмехнуться уголками губ и бросить единственное, но убийственное слово: «Сатисфакция?» – и снова страшная пауза, на пятнадцать секунд. Нет, он не согласен на сатисфакцию. Сатисфакция этому парвеню Нелькину ниже его аристократического достоинства. Он высокомерно отказывается. И все с презрением отворачиваются от бедняги Нелькина.
Нелькин делает шаг, судорожный шаг. Останавливается. Снова шаг. Руки взлетают вверх. Но он сдерживает себя. Сдерживает ради своей любимой. Он заламывает руки и быстро уходит прочь. На пороге он задерживается и оборачивается. Последний взгляд на это дорогое место, где ему уже никогда не бывать…
Нелькина играл я. Но до сих пор я играл только роли со сварливыми, истошными, «характерными» голосами, и пылкий, страстный голос любовника мне никак не давался. Страстные, любовные интонации терялись, пропадали где-то в глубине моего живота. Режиссер заставил меня повторять сцену одиннадцать раз.
И на двенадцатый раз я бросился вон из этого дома.
На пороге я наткнулся на какую-то фигуру, неясно выделявшуюся в закулисном полумраке. Решительными шагами, как раз такими, какими должен был удаляться со сцены я, фигура вышла на сцену. По выцветшей фуражке, по ремням крест-накрест на груди и по огромному маузеру, болтавшемуся на животе, мы сразу узнали комиссара.
– В чем дело? – подозрительно взглянул комиссар на меня и на «Кречинского», поправляя кобуру маузера. – Репетируете?
Режиссер, опрокидывая стул около режиссерского столика, бросился навстречу комиссару.
– Репетируем, товарищ комиссар! «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина.
– Кобылина? – подозрительно взглянул комиссар на режиссера. – Свадьбу?
Мы насторожились.
– Вот что, – сказал, немного помолчав, комиссар, – прошу всех слушать внимательно!
Он отстранил режиссера и стал у режиссерского столика. Маузер шлепнул его по животу, и он передвинул его назад.
– Так вот что! – начал он сурово, нахмурив брови и тщательно следя за своей речью, стараясь по возможности придерживаться театральной терминологии. – Играете, значится, вы ваши пьесы, ничего не скажешь, на овации и аплодисменты, а присмотреться ближе, так выходит одна критика, да и только. – Он заволновался и насупил брови еще больше. – Разве же это пролетарские действующие лица – всё аристократы, дворяне да генералы? Разве так можно, когда международное положение и гидра контрреволюции поднимает свою десятую голову? Опять же, кому вы служите? Где ваш революционный репертуар?
Мы смущенно молчали, переминаясь с ноги на ногу. Революционного репертуара у нас действительно не было.
– Мы служим искусству! – пискнул из задних рядов неврастеник Петя Калиновский и моментально спрятался за чью-то спину.
– Да ведь и революционных пьес-то нет! – подобострастно расшаркался режиссер Костоправов-Рудин.
– Паника! – отрубил комиссар. – Есть! – Он снова передвинул маузер. – Вот. Получена из центра!
Комиссар выдернул из-за обшлага какую-то брошюрку и бросил ее на стол.
Мы придвинулись ближе.
На столе лежала тетрадь в обложке из синей сахарной бумаги, и на ней большими красными буквами было написано: «Игорь Северный. Красное зарево, драма в пяти действиях и шести картинах».
Комиссар долго мусолил кончик первой страницы, стараясь перевернуть обложку. Наконец это удалось его непривычным к бумаге пальцам.
– Вот, – уже любезнее сказал он, – действующие лица: Купцов – капиталист, банкир – очень толстый. Купцова – его жена, банкирша, ханжа и изверг с прислугой. Купцов-младший – их сын, студент, коммунист…
Комиссар поднял голову и окинул нас взглядом.
– Коммунисты среди вас есть?
Мы молчали. Коммунистов среди нас, актеров, не было.
Комиссар насупил брови и снова поправил маузер.
Тогда ихнего сына, коммуниста, придется, как члену партии, сыграть мне.
«Свадьба Кречинского» была отложена, и мы немедленно приступили к репетиции «Красного зарева».
С новым актером – комиссаром в роли банкирского сына-коммуниста – было до черта мороки. Он не имел никаких данных. Даже голос его – могучий, будто иерихонская труба, на митингах – тут, на сцене, вдруг захрипел и стал каким-то пустым и невыразительным. Кроме того, комиссар никак не хотел примириться с тем, что есть реплики: реплик он не слушал и не ждал, а шпарил свой текст подряд, как речь, как монолог, заполняя паузы обычными митинговыми лозунгами. Режиссер наконец махнул рукой и заявил, что спектакль готов. Все равно из бездарной пьесы получался сплошной напыщенный монолог. Пусть будет так. В крайнем случае это сойдет за инсценированный митинг, в костюмах и париках.
Спектакль, правда, чуть было не сорвался, так как за эти дни наши красные части кое-где отступили под напором врага и линия фронта проходила теперь сразу за городом, за второй железнодорожной будкой. Но комиссар приказал закрыть снаружи все окна театра фанерой, а зрителей по окончании спектакля не пускать домой до рассвета. На первый спектакль, на премьеру первой революционной пьесы, были приглашены служащие всех городских учреждений: ведь бойцы были необходимы на фронте, а не в театре.
Театр был переполнен. Актеры послушно выходили на сцену, раскрывали рты для своих реплик и покорно умолкали, не имея возможности пробиться сквозь лавину нескончаемых митинговых речей комиссара вперемежку с отрывками текста из роли студента-коммуниста, банкирского сына. Комиссар в студенческой тужурке, в парике «блонд», с неразлучным маузером на боку, метался по сцене, посылая проклятия на голову своего отца-буржуя, на голову всей мировой буржуазии и контрреволюции, умудряясь между строк объяснять международное положение и положение на фронте в нашем секторе боевых действий. Он охрип уже в конце первого действия, а в начале третьего его никто не слышал, кроме молчаливых партнеров. Сотрудники всех городских учреждений, главным образом машинистки военного комиссариата, расположившиеся шумной компанией в креслах первого ряда, дружно аплодировали каждый раз, как только, дико вращая белками глаз, комиссар хватался за свой страшный маузер. Суфлер угрюмо переворачивал страницы пьесы, тщетно пытаясь найти хоть одну реплику, за которую можно было бы ухватиться и возвратить актера в русло пьесы. Сценариус печально прислонился к кронштейну сзади входных дверей и меланхолично курил из рукава самокрутку. Актеры выходили на сцену и возвращались сами, когда в отчаянии убеждались, что им не вставить ни единого словечка в комиссарские речи. Мать комиссара, то бишь мать студента, изверг-банкирша, оставалась на сцене безвыходно, тихо всхлипывая в платочек. А впрочем, ей, ханже, и по пьесе полагалось все время всхлипывать. Я играл какого-то министра: действие происходило в июльские дни семнадцатого года, и министр приходил к банкиру с призывом объединить силы самодержавия, буржуазии и еще кого-то против бунта рабов. Я вышел на сцену, но отца-банкира Купцова-старшего на сцене не было: утомившись перекрикивать комиссара, он ушел за кулисы перекурить. Только мама-банкирша крестилась и все плакала в платочек в уголке. Я попытался произнести свои реплики, обращаясь к ней, с отсебятиной о том, чтобы она все это передала своему мужу. Но комиссар метался вдоль авансцены, размахивая кулаками, и все внимание зрителей было приковано только к нему. Я обошел его, стал перед ним и прокричал свои реплики с просьбой передать их отцу. Он отвернулся и продолжал орать прямо в зал про гидру контрреволюции. Я зашел слева и снова прокричал свои реплики и свою просьбу. Он опять отвернулся. Зрители начали смеяться. Тогда я еще раз обошел его и стал перед ним – зал так и покатился со смеху. Зрители хлопали, топали, кричали. И вправду это было смешно. Но комиссар рассвирепел и зашипел на меня своим уже вконец сорванным голосом:
– Уходите! Вы срываете мне спектакль! Я вас посажу на двое суток в подвал!
Я надел треуголку и, сохраняя министерское достоинство, удалился.
Перед последним действием, выпив горшок кипятку, чтобы прочистить горло, комиссар выбежал осмотреть сцену до поднятия занавеса. За это действие комиссар особенно волновался. Отчаявшись возвратить блудного сына-коммуниста в правоверное лоно религии, благонравия и буржуазной морали, старушка мама-изувер умирала с горя и от грудной жабы. Ее хоронили на роскошном кладбище. И вот сын-коммунист пробирался тихо и склеп на ее свежую могилку – сказать ей последнее «прости», проклясть старый мир и произнести среди крестов и памятников горячую речь против мировой буржуазии. В это время за сценой уже начинался бой – стрельба из винтовок и пулеметов, – и, вынув маузер, студент-коммунист, банкирский сын, должен был спешить, чтобы занять свое место на баррикадах.
– Бой готов? – выбежав на сцену, спросил у сценариуса комиссар.
– Готов, – флегматично ответил сценариус.
– А пулеметы?
– И пулеметы готовы! – пожал плечами сценариус. У него было готово все. Но какая от этого польза, когда своим непреодолимым монологом комиссар все равно проглотит всё, все чудесные сценические эффекты – и мелодично-печальный похоронный звон, и «Вечную память» за сценой, и истерику банкира над могилой жены, и даже треск пулеметов, когда начнется бой. Вот они, пулеметы, да какой толк от них?
Комиссар, пораженный, остановился перед двумя театральными трещотками.
– Это пулеметы?! – ужаснулся он.
– Это…
– Вы просидите у меня под арестом двое суток! – зашипел он на сценариуса. – Сейчас же добыть пулеметы: послать вестовых ко мне в комиссариат!
Через полчаса вестовые притащили два «максима». Заднее окно за кулисами – оно как раз выходило в сторону линии фронта – открыли, и комиссар собственноручно установил на подоконнике рядом оба «максимки». Дула он направил немного вверх, с таким расчетом, чтобы пули ложились где-то там, по ту сторону фронта, на петлюровской территории.
Дальше все было так, как и должно было быть. Печально гудел погребальный звон, тихо лилась «Вечная память», папаша-банкир истерично рыдал, невеста сына банкира, студента-коммуниста, появлялась из-за гроба и напрасно силилась не то чтобы уговорить своего жениха, а вообще хотя бы заговорить с ним. Все это слышали только сценариус и суфлер. Зритель же не слышал ничего, кроме катарального хрипения комиссара о гидре контрреволюции и красном зареве.
Терпеливо дождавшись слов: «Слышишь, слышишь, они вышли уже на улицу», после которых, по сценарию, надо было производить пулеметную стрельбу, сценариус махнул рукой пулеметчикам, стоявшим у окна.








