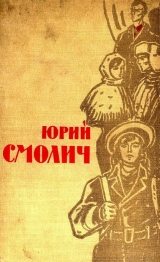
Текст книги "Избранное в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Юрий Смолич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
Подвал кривого Джимми
Под общежитие актерам театра губисполком отвел довольно вместительный флигель, почти в самом центре города, но в глубине грязного двора. Флигель имел два этажа и подвал. Разместились сообразно обычным житейским принципам: кто рангом ниже, тот ниже и этажом. Я попал в подвал.
Весь подвал, если не считать отдельного закоулка, где поселился суфлер, состоял из трех комнат анфиладой, одна за одной. Окна в подвале были под самым потолком, как в тюрьме, так что дотянуться к ним мог только один герой-любовник, Василий Иванович Кобец. Они выходили во второй, задний двор, прямо на огромную коммунальную свалку. Мусор перед окнами громоздился кучами, и на эти кучи хозяйки со всего двора каждый вечер добавляли свежую порцию всяких отбросов. Просыпаясь утром, мы всегда видели новые украшения перед нашими окнами, которые проглядывали сквозь мутные, забрызганные помоями стекла: остатки глубоких калош, банку из-под сгущенного молока «АРА», объеденные початки кукурузы. Когда мы укладывались спать, у нас вошло в привычку биться об заклад, какие именно сюрпризы придется лицезреть, проснувшись поутру: проржавленный, непригодный умывальник или труп кошки, обитавшей в корпусе номер два на четвертом этаже? Тот, кто проигрывал, должен был бежать за водой к разборному крану, так как водопроводные трубы в подвале замерзли еще с осени.
А между тем свалка, если к ней присматриваться ежедневно, совсем не плохая книга жизни. По этим огрызкам и всяким отбросам мы имели возможность ближе познакомиться с нашими соседями и задуматься над кое-какими проблемами бытия. Самым богатым в нашем дворе был кустарь портной Арутянов, – в его мусоре каждый раз попадались кости, банки из-под какао «Ван-Гутен» и коробки из-под халвы. Пожилая брюнетка из двадцать седьмой квартиры, жена автокефального попа, старалась отсрочить приближение старости при помощи польского контрабандного крема «Щенсте кобеты». Лысый конторщик сахаротреста из четвертой квартиры был тайным композитором и свои опусы записывал на обороте конторских контокорренто, сейчас он работал над кантатой в мажорном ключе. Известный специалист по желудочным болезням, перед квартирой которого, номер шестнадцать, всегда выстраивалась очередь, сам, оказывается, страдал тяжелым, неизлечимым желудочным недугом и мог есть только яйца всмятку и белые сухари. Между белокурой уборщицей наробраза Олей и каким-то неизвестным нам Колей тянулась нескончаемая любовная переписка, которая, безусловно, ни к чему доброму привести не могла. Бухгалтер овощной артели «Перемога» очень любил яблоки высших сортов и поедал их ежемесячно на сумму не менее четырехмесячного оклада. У красавицы вдовы с карими глазами и прекрасными стройными ножками, помещавшейся в квартире номер семь, были на этих стройных ножках огромные мозоли, и она тщетно боролась с ними при помощи пасты «Мозолин д-ра Антона Мейера». А нэпман из квартиры номер один, у которого мы каждую ночь пытались стащить из сарая вязанку дров для отопления нашего подвала, чуть ли не ежедневно – зимой, в голодный год, в далекой от южных стран Подолии – пожирал со всей своей родней виноград «дамские пальчики».
Мебели в нашем подвале почти не было. В третьей комнате стояли две солдатские кровати и ящик из-под спичек. Во второй – одна кровать и огромный садовый стол. В первой лежали два снопа соломы и стоял пенек. В широких сенях были свалены наворованные у нэпмана из первой квартиры дрова и стояло ведро для воды. В эти сени вечерами прятались от дождя или милиции проститутки с проспекта. Во втором часу ночи они заводили между собой драку, и мы разнимали их и отпаивали холодной водой.
Наш подвал мы прозвали «подвалом кривого Джимми». Домовой книги подвал кривого Джимми себе не заводил, и потому не всегда можно было точно установить, кто тут проживает. Постоянно кто-то приходил и уходил, кто-то вселялся и выселялся, кто-то неизвестно почему здесь заночевывал, после спектаклей здесь собиралась целая толкучка, а в выходные вечера – настоящий бедлам. Аборигенами подвала кривого Джимми мы, впрочем, считали только девятерых, включая и суфлера с женой, которые помещались в отдельной комнатушке. В третьей комнате, на солдатских кроватях, проживали две актрисы. Во второй, тоже на кровати, помещалась еще одна актриса, а на садовом столе – целая актерская семья. В первой комнате, на охапках соломы, жил я с женой.
Утром мы просыпались и осторожно фукали вверх. По клубам пара мы научились точно определять температуру воздуха. Случалось, что температура бывала и выше нуля. Потом мы поглядывали на окно, чтобы быть в курсе всех обстоятельств окружающей жизни.
– Арутянов, – объявлял я, – ел вчера селедку и пил какао!
Спазмы сжимали наши внутренности, и мы быстро выпрыгивали из-под одеял, чтобы ледяной водой и жестким полотенцем смыть и стереть всякую блажь о какао, которого мы не пивали со дня объявления империалистической войны, и о селедках, которых мы не видели с начала гражданской войны. Мы проглатывали по стакану кипятку с сахарином и рысью бежали в театр на репетицию, чтобы вернуться в подвал кривого Джимми только к ночи, после спектакля.
Вечером, после спектакля, подвал кривого Джимми выполнял функции диалекториума. Тут в споре скрещивали мечи, тут подвергалась критике каждая постановка, каждый шаг и каждый взгляд актера на сцене. О делах и взглядах актеров и актрис в жизни здесь речь не заходила.
Наш театр переживал тогда самую важную пору своего дозревания и развития. Он искал «эквивалент».
Гражданская война на фронтах закончилась, и оружие еще звенело только в лесах и оврагах, в борьбе с бандитизмом. На смену массовому народному движению пришла кропотливая деятельность специальных органов молодого государства рабочих и крестьян. Военный коммунизм как социально-политическая и как бытовая и психологическая фаза уступил место новой экономической политике – нэпу. На смену горячему воодушевлению вооруженной борьбы пришла сосредоточенная напряженность восстановительной работы. Отображение революционного процесса в искусстве переходило теперь с панно на скульптуру: к двум измерениям, длине и ширине, оно приплюсовывало теперь и третье – глубину. Вместо умозрительной перспективы создавался ощутимый реальный рельеф. Какая судьба и какая роль определялись теперь театру?
История нашего театра началась в тяжелейшей обстановке. Родившись из урбанистических тенденций модернистского предреволюционного украинского «Молодого театра», наш театр отстаивал позиции расширения репертуара и приемов сценического мастерства, в противовес ограниченности репертуара и сценических приемов старого украинского, бытового и этнографического, традиционного театра. В эклектическом сумбуре своего становления он и был призван выполнять политико-просветительные функции на ответственнейших участках общественной и государственной жизни. Работа по продразверстке, потом обслуживание прифронтовой зоны – вот какова была задача театра в горячую, напряженную пору гражданской войны. Выполнение этих исключительного значения государственных заданий отвлекало, конечно, внимание театра от каких-либо специфических, формальных художественных исканий и экспериментов, зато подвело под весь коллектив и под каждого актера базу «гражданственности», направляло его на революционный, общественный смысл творческой работы. Театр в художественном плане не пошел дальше того, с чего он начинал, зато сразу стал обеими ногами на почву активной общественной деятельности. Вдумчивому, проницательному глазу философа было бы видно, что этим театр обеспечивает себе великолепную перспективу дальнейшего развития и роста. Но нетерпеливый и пристрастный взгляд самолюбивого артиста прежде всего обращался к тому, что другие, дескать, новаторы, а ты вот нет.
Ведь всем было известно, что началась новая эра, и в новой эре и театр должен быть новым, не похожим на старый, каким-то другим. Но каким?
«Революции – революционное искусство!» – таков был новый лозунг, который возник теперь на смену фронтовому призыву: «Искусство на службу революции!»
Что такое революция – знали все, но что такое революционное искусство – этого не знал никто. Луначарский писал страстные статьи; Маяковский гремел сквозь окна РОСТА; Демьян Бедный сеял частушками; Пролеткульт разрастался тысячами ячеек; Мейерхольд ставил «Землю дыбом»; Евреинов проповедовал театрализацию жизни; Курбас в театре «Березиль» соединял театр с цирком; чуть ли не каждое учреждение, даже гужтранспорт, создавало свои театральные студии; непонятное, страшное к ночи словечко «биомеханика» передавалось из уст в уста – все были взбудоражены, возбуждены и растеряны. А наш театр еженедельно давал новую премьеру – Шевченко, Бомарше, Ибсен, Софокл, Тобилевич, Мольер, Андреев, Леся Украинка, Горький, Жулавский, Гуцков, Мирбо, Лопе де Вега, Уайльд, Пачовский, Гауптман, Гоголь, Гольдони, Винниченко. И актеры всё подряд играли «на пупа» – в бешеном темпе, на душераздирающем крике; даже ибсеновские «Привидения» мы играли форте-фортиссимо, так как театр был глубоко убежден, что он есть театр героики и героический стиль в искусстве и есть художественный «эквивалент» современности.
А впрочем, актер нашего театра и не задумывался много над своей игрой и над проблемами стилей, он играл так, как привык играть на открытых площадках, где-то сразу же за линией фронта, силясь перекричать стрекотание пулеметов и пушечную пальбу. С того времени голоса у всех наших актеров охрипли, хронический катар был приобретен на всю жизнь. Борьба идей, соревнование между традициями реализма, романтизма и психологизма в театре происходили скрытно, подсознательно в каждом актере. Ведь сегодня надо было играть в «Суете» Тобилевича так, как играли еще деды; завтра в «Мысли» Андреева – лишь бы не так, как играли на провинциальной русской сцене; послезавтра «Свадьбу Фигаро» – лишь бы не так, как об этом читали в старых театральных журналах. А ведь еще надо было играть и «Фуэнте Овехуна» или «Лорензаччо» – уж совсем неизвестно как. Эклектика театра начиналась в самом его репертуаре. Переводной западный репертуар, который наводнял театр в порядке «героического эквивалента», все эти «Герцогини Падуанские», «Йолы», «Лжемиссии» и т. п., яростно сопротивлялись «психоложеству», псевдопсихологизму винниченковских «Черных пантер», «Грехов» или «Базаров» в сознании каждого актера. И в сумбуре всех этих неосознанных или даже осознаваемых влияний актер начинал уже вообще отрицать пьесу как основу спектакля. «Революционный театр должен начаться с театра импровизации!» – так заявляли самые горячие головы.
Что касается меня, то на первых порах меня удовлетворял уже один тот факт, что я служил не в мелкой халтуре, а в большом, настоящем театре, где, пусть и не широко, во всем коллективе, то хотя бы в тесном кругу, вот здесь, в подвале кривого Джимми, обсуждаются и дебатируются судьбы будущего театра. Я вообще был профан, и у меня еще не успело сложиться мое собственное мнение о театре и путях его развития. Мне импонировали сами по себе споры – даже тогда, когда они были чистейшей софистикой. Я жаждал спорить, жаждал слушать разные мысли, разные мнения. Кроме того, мне импонировало и другое. Наш театр – это был театр ансамбля, а не индивидуальной игры, театр спектакля, а не одного персонажа, театр актеров, а не одного премьера. А ведь я мечтал именно об этом с самых первых шагов на сцене. И потому с особенной радостью я выполнял порученные мне роли в ансамбле.
Но удовлетворенности моей пришел конец, когда мне пришлось сыграть большую роль. Это была роль Колонна в «Монне Ванне» Метерлинка. Эту прекрасную роль я провалил виртуозно. И та же самая газета, которая расхваливала меня за исполнение Лизогуба в «Солнце руины», называя меня чуть ли не гением, за исполнение роли Колонна обозвала меня чуть ли не бездарностью.
Однако в действительности дело обстояло хуже. Я не был бездарностью, но я не знал, как надо играть!
Я умел выйти на сцену и на протяжении всего спектакля интуитивно держать общий тон; я умел своевременно подать реплику и заполнить паузу, если такая случалась непредвиденно; я умел удачно копировать слепых, глухих, гнусавых и заик; уверенно владел моим довольно правильно поставленным голосом. Я постиг всю внешность актерского пребывания на сцене, но я не знал, как надо играть.
– Как надо играть? – спрашивал я моих товарищей еще ранее, там, в тех труппах, где начиналось мое актерское существование.
– Как все играют, – отвечали мне они, пожимая плечами.
– Как надо играть? – спрашивал я теперь моих новых товарищей, актеров большого, настоящего театра.
В ответ мне рассказывали, как играл такую-то роль Кропивницкий, Садовский, Саксаганский или еще кто-нибудь из корифеев. Но это были только рассказы об их таланте, а не раскрытие самой системы актерской игры.
– Как надо играть? Что надо для этого человеку-актеру? – обращался я с этим же вопросом и к герою-любовнику, Василию Ивановичу Кобцу.
Герой-любовник Василий Иванович Кобец становился в позу Уриеля Акосты в сцене проклятия в синагоге:
– Человеку надо, чтобы он был сыт, пьян и нос в табаке. А актеру нужна роль! Коль скоро он имеет роль, то он согласен всю жизнь есть суп из семи круп!..
Как надо играть – этого, очевидно, никто не знал.
И у нас было достаточно времени, чтоб по поводу этого сетовать в подвале кривого Джимми. Ведь больше нам нечего было и делать: сезон закончился преждевременно и на полтора месяца театр остался без ангажемента.
Подвал кривого Джимми распродал все, что имел, и перешел исключительно на кипяток с сахарином. Когда мы выползали из подвала на свет божий, то даже слабенький мартовский ветерок валил нас с ног. Голод давал себя знать, мы отощали. Лишь изредка случался праздник – нас подкармливало благотворительное общество, наделяя изредка кулечком маисовой крупы и банкой соевого молока.
Тогда по утрам и появлялся Василий Иванович Кобец.
Это была колоритная фигура. На нем были роскошные белые суконные брюки и потертый на швах, ветхий, но элегантный пальмерстон. Сверх пальмерстона он натягивал еще грязную обтрепанную солдатскую шинель, а на голову – суконную каторжанскую шапочку. Больше у него ничего не было. Но зато он обладал чудесным баритоном и даже в будничной обстановке не говорил, а вещал велеречиво, с трагическими модуляциями в голосе. Когда он приходил – не приходил, а появлялся на пороге, – я обычно лежал на своем снопе соломы с бумагой и карандашом в руке. Я тайком писал стихи, Кобец останавливался надо мной в позе царя Эдипа перед народом.
– А дон Померанцо все пишет и пишет! – После красноречивой паузы он печально заканчивал: – И черт его знает, когда ж он напишет…
После этого мы усаживались на пол вокруг пенька и принимались за галушки, состряпанные из муки «АРА». Кобец самолично умудрялся съесть полведра. Когда ведро опорожнялось до дна, Василий Иванович поглаживал пальмерстон в том месте, где был живот, и произносил с жестикуляцией кабальеро из «Мирандолины» Гольдони:
– Теперь я кум королю и брат солнцу!
После этого он подходил к окну и смотрел на помойку.
На третье – банка из-под какао Арутянова и косточки «дамских пальчиков» из квартиры номер один.
И он начинал насвистывать, пристально всматриваясь в окно. Это среди свежего мусора он замечал отрывок контокорренто с неровными рядками нот из нового, только что созданного и забракованного самим же автором, конторщиком-композитором, опуса.
После того мы заваливались на солому и декламировали стихи Есенина, Маяковского, Блока, Олеся и Тычины.
Спали мы – для экономии сил и чтобы не хотелось есть – днем, а ночью предавались спиритизму.
Мы расстилали большой лист бумаги с аккуратно вычерченным кругом и старательно выписанной азбукой. Пальцы рук соединялись над фарфоровым блюдцем, и блюдце послушно бежало, отмечая буквы, слоги и слова. Мы вызывали Наполеона, Савонаролу, Гуса, Спинозу, Достоевского. Какие речи они произносили при помощи чайного блюдца! Про жизнь и смерть, про небытие и бессмертие, про любовь и ненависть, про богатство и безденежье. Они рассказывали о прошлом, предсказывали будущее, угадывали на завтра погоду.
Однажды мы решили вызвать Коклена. Надо было посоветоваться о всяких театральных делах. Блюдечко долго не хотело слушаться нас. Но потом все-таки оно пошло по кругу, быстрое и проворное под руками. Оно подбежало к букве «К», потом к букве «О». Наши сердца остановились. Сейчас с нами будет говорить сам великий Коклен! Но блюдечко покрутилось некоторое время и остановилось против буквы «Т» и «Р»…
– Которого? – спросило блюдечко. – Старшего или младшего?
– Обоих!
И вот два великих французских актера, братья Бенуа и Александр Коклены, были перед нами, под фарфоровым чайным блюдечком. С дрожью в голосе мы спросили их:
– Как надо играть?
Блюдце окаменело неподвижно.
– Как надо играть?! – повторили мы.
Блюдечко не двигалось. Оба великих театрала – автор «Искусства монолога» и непревзойденный мастер монолога – молчали. Они не отвечали на наш взволнованный вопрос.
Потом блюдечко нервно заскользило от края до края бумажного листа. Оно делало бешеные круги, оно летало, почти оторвавшись от поверхности стола, и наши руки еле поспевали за ним. Потом оно полезло со стола прочь и стало мотать нас за собой по полу, вдоль плинтусов, порываясь лезть вверх на стену. Наконец оно наскочило на выходные двери и побежало через сени во двор…
Великие братья тоже, по-видимому, не знали, как надо играть. Быть может, они и отошли в вечность с этим проклятым вопросом на устах… Нет! Они должны были знать, но не хотели с нами поделиться. Нет! Они хотели бы, но не могли. Как же им было пересказать все это нам при помощи фарфорового блюдечка, когда остановками черточки против букв на кругу исподтишка руководил тот же, кто и опрашивал, – я?
«А почему?»
Он пришел в театр еще на рассвете, когда только развиднялось, – что-то около пяти утра.
Он подошел к главному подъезду и робко постучал в высокие и широкие зеркальные двери. Естественно, двери были заперты, а за ними, в театре, никого еще не было. Да если бы там кто и был, все равно не услышал бы этого тихого постукивания.
Он выждал некоторое время, прислушиваясь, не откроют ли ему все-таки. Тогда, не осмелившись постучать снова, он отошел от дверей, спустился с крыльца на тротуар и осмотрелся еще раз. Высокое здание театра величественно вырисовывалось в седом предрассветном полумраке. Вокруг царила тишина: город еще спал, водосточные желоба на крыше театра поблескивали ранней росой, окна глядели черными ямами, клочок старой афиши чуть-чуть трепетал на стенде возле дверей главного входа. Нет, это все-таки театр.
Он стоял на тротуаре, не двигаясь с места, только поворачивая голову то вправо, то влево, разглядывая огромное здание с колоннами, портиками и арками. Солнце всходило далеко, где-то за рядами других строений, и только первый его луч, желто-горячий, красноватый, скользнув по вершине тополя, упал на шпиль театра. В ту же секунду стайка вертлявых воробьев упала на подножие шпиля и шумно зачирикала в веселой суетне. Тогда он снова поднялся по ступенькам к дверям главного входа и постучал второй раз, на этот раз немного громче. Всю свою жизнь он вставал с восходом солнца и не представлял себе, чтобы можно было вставать позже. Он прислушался, как эхо прокатилось по пустому вестибюлю и замерло где-то в глубинах театрального помещения.
Тогда он в задумчивости сошел снова с крыльца и присел на каменный столбик. Плетеную корзиночку он поставил возле ноги. Одет он был в ватную куртку, серые, «чертовой кожи» штаны, засаленные и протертые до основы; на ногах были у него опорки, на голове старая черная фуражка с большими приплюснутыми полями и когда-то лакированным, потрескавшимся козырьком. Это был молодой парень лет двадцати. Лицо у него было продолговатое, нос с горбинкой и тонкие изогнутые брови. Такие лица бывают у типичных степняков. Но глаза под казацкими бровями неожиданно были голубые, широкие и прозрачные и глядели в пространство внимательно и как бы удивленно.
Он вынул из корзинки сверток в белой тряпочке и, развернув его, достал краюху хлеба и кусок сала. Отдельно в уголке платочка была завязана крупная, розоватая, конская соль. Не торопясь, медленно и осторожно, он вынул из кармана складной нож с белой металлической колодочкой, раскрыл его, вытер лезвие о полу и отрезал ломоть хлеба. Потом от куска сала отрезал малюсенький кусочек и, круто посолив его, принялся за еду. Первые хозяйки уже появились на улице и шли на рынок. Проходя мимо, они не обращали на него никакого внимания, но он каждый раз отворачивался, стыдливо прикрывая от людских глаз свой скромный завтрак.
Луч солнца уже соскользнул с купола на крышу и краешком чиркнул по оконцам чердака. Стекла вспыхнули червонным золотом и запылали, словно радуга.
Позавтракав, парень завязал платочек, положил узелок в корзинку, подхватил ее и снова направился к зданию театра. Но теперь он шел не к главному входу, а, оглядываясь, двинулся вокруг театра.
За углом он сразу же увидел вторые двери. Это был запасный выход на случай пожара, и эти двери не были такими величественными и суровыми, как главный подъезд. Поэтому он приблизился к этим дверям смелее и постучал громче. Подождав минутку, он постучал еще сильнее. Теперь уже и на улице было слышно, как по опустевшим коридорам прокатилось эхо. Однако и на этот раз ему не открыли.
Тогда он пошел дальше, обходя театр. Он подошел ко вторым запасным дверям, потом к третьим, и в каждые из них он стучал все громче и громче. Теперь он стучал уже не пальцами, а всей ладонью, и стучал долго и настойчиво, повторяя стук по пяти и десяти раз, не давая замереть эху в чреве огромного здания. К пятой двери, находившейся на противоположной стороне главного входа, сзади театра, он подошел уже раздраженный и гневный и поднял было уже кулак, чтобы затарабанить в дверь, но неожиданно рука его опустилась и все тело как-то обмякло. Он даже съежился, но потом поднялся на цыпочки и приблизился к двери, стараясь производить как можно меньше шума. Его ясные, внимательные, удивленные глаза затуманились и прямо-таки впились в табличку, висевшую над дверью. На этой серенькой табличке, заляпанной известью во время побелки, синими буквами было написано: «Актерский вход».
Приблизившись на цыпочках к двери, он так и замер, взволнованный, и только после минутного колебания наконец осмелился постучать – легонько, чуть-чуть слышно, одними кончиками пальцев. И тут же отдернул руку. Стук был настолько тихий, что он и сам его почти не услышал.
Подождав минуты две, он глубоко вздохнул и отважился постучать еще раз, немного громче. Было уже что-то около шести, но и на этот стук никто не ответил.
Он отошел на несколько шагов и утер рукавом пот, выступивший на лбу.
Так, в тяжелой задумчивости, он постоял минут десять. Корзинка мелко дрожала в его опущенной вдоль тела руке.
И тогда вдруг он очнулся и решительно подошел снова. Он изо всех сил забарабанил кулаком в дверь актерского входа. Дверь даже зашаталась, и эхо раздалось не только внутри помещения театра, а и вокруг, отраженное соседними зданиями. В доме, стоящем на противоположной стороне улицы, распахнулось окно, и из него высунулось заспанное лицо женщины в платочке.
Теперь уже парень грохал в дверь изо всех сил. Вначале он стучал правой рукой, потом, когда заболела правая, поставил корзинку и принялся барабанить левой. Потом начал стучать в дверь ногами. На углу стояли торговки и с любопытством наблюдали за действиями чудного юноши. Под его ударами двери чуть не разламывались, и грохот разносился на четыре квартала вокруг. Наконец из-за толпы, собравшейся на углу, появилась настороженная фигура милиционера.
Милиционер подошел к юноше, уже вспотевшему и измученному, и безапелляционно предложил:
– Гражданин, давайте не будем. – А внимательно рассмотрев его опорки и ватную куртку, угрюмо добавил: – И вообще, на минуточку… – Он поманил к себе пальцем смущенного и побледневшего юношу.
Через пять минут двери районной милиции растворились и приняли в себя юношу, сопровождаемого милиционером. Толпа торговок и мальчишек осталась на противоположной стороне улицы, возбужденно обсуждая случившееся событие, свидетелями которого они только что были.
Репетиция в то утро, как обычно, началась ровно в десять. Репетировали «Черную пантеру». Эта пьеса уже давно была в репертуаре, но ведь театр только гастролировал в этом городе, а во время гастролей, как известно, мало ли бывает всяких недоразумений: кто-то на кого-то обиделся, кто-то заболел, – и сейчас вот тоже спешно приходилось заменять исполнителей. В ту минуту, когда разводились мизансцены первого действия и поэтому все исполнители были на сцене, в студии «Белого медведя» на сцену из-за кулис вышло двое. Это были милиционер и юноша с корзинкой в руке.
– Извиняюсь, – козырнул милиционер, – а кто промежду вас будет товарищ режиссер? Вот этот гражданин требует представить его до режиссера, потому как имеет к нему личное заявление.
– В чем дело? – поинтересовался помощник, потому что режиссера не было и разводкой мизансцен руководил помреж. – В чем дело? И, пожалуйста, поскорее, вы видите, мы заняты.
Парень глотнул пересохшим горлом, и руки его задрожали. Он поставил корзинку у ног, потом снова взял ее, потом снова поставил, потом снял фуражку, стал мять ее в руках, потом снова надел и снова снял.
– Я хочу, – наконец прошептал он, – поступить в театр…
– Так это не сюда, – ответил помреж, – наша труппа здесь только на гастролях, и вопросом приема работников сцены занимается администрация городского театра: вторая дверь налево от главного фойе, вход с улицы…
– Я хочу поступить в театр, – повторил парень яснее, но тише, – я хочу поступить в театр. В театр… театр…
Актеры окружили милиционера и парня.
– А что вы хотите делать в театре? – спросил кто-то.
– Что угодно, – ответил парень громче. – Я могу датского принца Гамлета в трагедии английского писателя Вильяма Шекспира «Гамлет».
Тихий шепот пробежал среди актеров.
– Или, к примеру, старшего писаря корпусного штаба Ивана из пьесы украинского писателя Карпенко-Карого «Суета». Что угодно.
Все молчали. Милиционер подозрительно поглядывал из-под красной фуражки. Он так и думал! Недаром же этот хрупкий паренек сразу привлек его внимание.
Актеры молчали, смущенно отворачиваясь или украдкой посмеиваясь. Гамлета! Принца датского! В пьесе английского писателя Вильяма Шекспира!
Парень поднял глаза. Перед ним был ряд незнакомых, чужих, холодных лиц. Он побледнел еще больше, и в глазах его появились умоляющие искорки. Он прижал руки к груди и беспомощно озирался, ища хоть каплю сочувствия:
– Очень я вас прошу… что угодно!
Он прижал руки так сильно, что забыл про корзинку. Она выпала из рук, и из нее выкатился узелок; тряпочка размоталась, и кусок сала и краюха хлеба покатились в разные стороны. Он резко наклонился, теряя теперь уже фуражку. Потом выпрямился, вконец растерянный, не зная, что ему делать. Стыдясь своей неловкости, он не покраснел, а побледнел как полотно. Актеры бросились подбирать корзиночку, хлеб, сало, фуражку. Крупная розовая конская соль хрустела у них под ногами.
За это время парень пришел немного в себя и выдавил еще несколько слов умоляющим голосом:
– Что угодно… только примите… Я могу все, что нужно и по хозяйству, ежели что… подмести там, воды принести, или… дров нарубить. Очень прошу вас.
Он переминался с ноги на ногу, не зная, куда деть руки, которые болтались у него во все стороны, будто искал он какую-то соломинку, ту, за которую хватается утопающий. Милиционер стоял в сторонке, искоса поглядывая проницательным, всевидящим оком.
И вдруг паренек выпрямился, ноги стояли уже твердо, без дрожи, руки вытянулись по швам, мускулы напряглись, даже нос как-то заострился, и бледное лицо приобрело желтовато-восковой оттенок. Он выбросил руку вверх, прямо перед собой, простер ее к актерам и закричал:
Быть или не быть – таков вопрос!
Что благородней духом – покоряться (?!)
Пращам и стрелам яростной судьбы (!!)
Иль, ополчась на море смут, сразить их (!!)
Противоборством? Умереть, уснуть – (!!)
И только. И сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук, (!!!)
Наследье плоти, – как такой развязки
Не жаждать? (???) Умереть, уснуть. Уснуть! (!!!)
Могильное молчание воцарилось на сцене. Из-за кулис выглядывали удивленные лица встревоженного техперсонала. Полотнища плохоньких матерчатых декораций колыхались вверху. Такого голосища давно не слышали стены театра. Такого дикого вопля не бывало даже в массовых сценах нашего театра, когда три десятка горлянок во всю силу легких орали «Виват!» или «Смерть!»
Милиционер первым проявил свои горячие чувства. Он бросился к парню и от всего сердца саданул его в плечо:
– Вот это здорово! Вот это театр! А ну, ну, еще! Давай, давай!..
Парень был зачислен помощником бутафора. Ему приходилось чистить толченым кирпичом жестяные казацкие сабли и мечи, подклеивать панцири из папье-маше, набивать опилками ватники и т. п.
Служебные обязанности бутафора, конечно, не требовали постоянного присутствия его на сцене во время репетиции. Но, ясное дело, новый бутафор появлялся на репетициях первым и уходил с них последним. А впрочем, он вообще не выходил из театра. Со своей корзинкой, служившей ему и саквояжем и в то же время подушкой, он приютился где-то между дверью бутафорской и стояками колосников, на скатках старых ковров и запасных сукон из мешковины. Просыпался он рано – только нарождался день, подметал сцену и прилегающие к ней проходы, поливал из жестяного чайника истертый дощатый пол сцены, вытирал пыль с панцирей, шлемов и сабель, приготовлял все, что поручал ему еще с вечера бутафор к очередному спектаклю, потом бежал в администраторскую, выносил из нее и устанавливал перед театром плакаты – словом, управлялся со всем закулисным хозяйством, и только тогда, наколов дров на заднем театральном дворе, подогревал себе в том же бутафорском чайнике воду, которой и запивал свой традиционный завтрак: кусок хлеба с микроскопическим ломтиком сала. В обед он прибавлял ко всему этому еще луковицу. Позавтракав, он успевал еще раньше всех прийти на репетицию и приготовить, согласно рапортичке помрежа, всю необходимую мебель. Втиснувшись меж планов декораций и не присев ни разу, он всю репетицию выстаивал на ногах. Он стоял в полумраке, раскрыв рот и тяжело сопя, следил за каждым малейшим движением, внимательно прислушиваясь к каждому слову на сцене.








