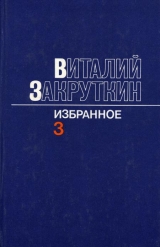
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
1
Держась подальше от больших дорог, зорко всматриваясь в сырую, промозглую темень, два человека, Петр Бармин и Максим Селищев, пробирались в эту ночь в Мадрид. В полу потертого плаща Максима была искусно зашита тонкая бумага, на которой едва заметными кружками, треугольниками, квадратами были обозначены полевые аэродромы мятежников, расположение войск и артиллерии наступавшей на Мадрид армии «Тахо».
Прощаясь с двумя русскими, полковник Хольтцендорф сказал им:
– Там, у республиканцев, вам не стоит скрывать свои фамилии и происхождение. Тодор Цолов сообщил о вас вашему соотечественнику Ермакову. Если же до перехода линии фронта вы будете задержаны офицерами мятежников, вам надо сразу же сослаться на меня и сказать им, что я направил вас в зону республиканцев с особым заданием…
По совету Хольтцендорфа Бармин и Селищев, снабженные документами из штаба генерала Франко, должны были проехать поездом по линии Бургос – Вальядолид – Саламанка – Касерес, понаблюдать за передвижением войск мятежников до стыка армии «Тахо» с армией Кейпо де Льяно, вернуться в Саламанку, оттуда автомобилем добраться до прифронтовой деревни, ночью перейти линию фронта, не задерживаясь направиться в Мадрид, передать донесение Жаку Жерну – полковнику Ермакову – и подробно рассказать ему обо всем увиденном.
Все получилось так, как предполагал уверенный в своей силе и влиянии Вальтер фон Хольтцендорф. Его русские помощники объехали почти всю прифронтовую полосу армии «Тахо», запомнили все, что надлежало запомнить, благополучно добрались до указанной им деревушки, а темной осенней ночью в сопровождении молчаливого солдата перешли линию фронта и оказались в зоне республиканцев.
Сутулый галисиец подвел их к едва заметной тропе, плутавшей среди редких дубов и кустарников, и, путая французские слова с испанскими, сказал:
– Дальше мне нельзя, идите сами…
Не попрощавшись, он повернулся и исчез, будто растаял в кромешной тьме.
Путники остановились, прислушались. В той стороне, куда вела тропа, послышался отдаленный собачий лай.
– Что будем делать? – вполголоса спросил Бармин. – Может, переночуем в кустах, а то, чего доброго, какой-нибудь дозор подстрелит нас, как перепелов?
– Нет, Петро, надо идти, – подумав, сказал Максим, – никакой дурак не станет стрелять без окрика. Тут мы ничего не высидим, да и сыро становится, будем до тепла прибиваться. Слышишь, собака лает? Значит, где-то неподалеку есть люди.
У Максима болело горло, начиналась не раз мучившая его ангина.
– Хорошо, пойдем, – согласился Бармин.
Они пошли, никуда не сворачивая с узкой тропы. К хрипловатому лаю одной собаки прибавился заливистый лай второй, третьей, а вскоре путники поняли, что их там целая свора. Между стволами деревьев мелькнул слабый огонек. У закрытых деревянных ворот стояла старуха. Высоко подняв фонарь, она всматривалась в темноту. За обитыми медными полосами воротами бесновались собаки.
Выслушав сбивчивый рассказ Бармина о том, что его друг неожиданно заболел, что им нужен ночлег и, если можно, горячего кофе, они будут очень благодарны и за все заплатят, высокая, закутанная в рваную шаль старуха пробормотала что-то, распахнула калитку и махнула фонарем, что означало разрешение войти.
Во дворе Бармина и Селищева окружили полтора десятка разномастных собак, но все они, как по команде, завиляли хвостами и стали ласкаться к пришельцам.
– Это охотничьи, они не опасны, – сказал Бармин, поглаживая самого восторженного пса.
Старуха впустила путников в темноватую просторную комнату, в которой топился камин. Посреди комнаты стоял тяжелый, грубо сколоченный стол. На скамьях лежали медвежьи шкуры. Стены были увешаны чучелами птиц.
– Тут отдыхал и охотился наш сеньор, – сказала старуха, – он сбежал к мятежным генералам, а на мою голову взвалил дом, сад и всю псарню. Береги, говорит, собачек, если хоть одна из них пропадет, я тебя повешу на самой высокой груше…
– Так вы одна тут живете? – спросил Бармин.
– Сейчас одна, – сказала старуха. – Я у сеньора дом убирала и поваром была, а муж мой Хуан егерем был и за собаками смотрел. Он в госпитале лежит, в Мадриде…
Она принесла кусок застарелого овечьего сыра, тарелку оливок, кувшин вина, быстро сварила кофе.
– Ешьте, господа, я постелю вам постели.
Старуха пока не спросила, куда и зачем идут ее ночные гости. Когда она вернулась с горящей свечой в фигурном подсвечнике, Бармин счел нужным объяснить ей это.
– Мы с моим другом коммерсанты, французы. В Мадриде живут наши компаньоны по торговле косметическими товарами. Нам надо обязательно повидаться с ними.
Старуха пристально посмотрела на него, недоверчиво усмехнулась: __
– Какая сейчас торговля и кому нужна ваша косметика? Впрочем, мне до этого нет дела. Спите спокойно, и пусть вам поможет дева Мария.
Спальня, куда старуха после ужина проводила путников, оказалась огромной комнатой, в которой стояли шесть кроватей с ночными столиками по бокам. Видно, сбежавший хозяин охотничьего дома был человек общительный и не любил одиночества.
Оставив свечу на одном из столиков, старуха вышла.
Уже лежа в постели и укутавшись грубым шерстяным одеялом, Максим сказал вполголоса:
– Если б моя воля, я бы остался в Мадриде с честными людьми. Что-то не нравится мне эта чертовщина!
– Видишь, Максим Мартынович, – после долгого молчания сказал Бармин, – и парижский болгарин Цолов и этот немец в Бургосе правильно считают, что мы с нашими с тобой биографиями гораздо большую пользу принесем не в республиканских окопах… Честным людям, о которых ты говоришь, можно помочь не только выстрелами в их врагов.
Максим задул свечу, полежал с открытыми глазами, и тотчас же перед ним в ослепительной ясности вдруг возникла родная его станица над Доном с ее зелеными улицами, с украшенными резными наличниками домами, с густыми садами и виноградниками, с озерами и ериками. Почти наяву он увидел восход солнца за церковным куполом, примкнутые к вербам просмоленные лодки, услышал утреннее мычание коров и звонкий переклик горлиц в лесу…
– Ты не спишь, Петя? – тихо спросил он.
– Нет, Максим Мартынович, не сплю, – отозвался из темноты Бармин. – Вспомнились мне покойный отец и мать, и сестра Катя, и давно умершая нянька, которую мы все называли Клушей, и кажется, что все они куда-то ушли и что вообще все это было давно-давно.
– Когда мы с Мариной поженились, получилась смешная штука, – задумчиво заговорил Максим. – Свадьбу сыграли в январе, после Нового года. С вечера, как положено, гости пили, песни пели, плясали. Ну а потом, уже перед светом, отвели нас по обычаю в спальню и двери заперли. Хотел уже я раздеваться – и вдруг вижу: забилась моя молодая жена в угол и плачет горькими слезами, стыдится, видать, что за стеной целая гурьба людей. Утешал я ее, утешал, а после, дурак, говорю: «Знаешь чего, Маринушка, давай пойдем на плеску ловить рыбу».
– Что? – Бармин засмеялся. – Какую рыбу?
– Окуня, – улыбаясь, сказал Максим. – Зимой подо льдом у нас на мотыля окунь здорово брался.
– Ну и пошли?
– Представь себе, пошли. Хорошо еще, чьи-то валенки в спальне навалом лежали, а на полу целая гора полушубков была кинута. Оделись мы оба, я тихонько окно открыл, сперва вылез сам, потом Марину свою вытащил. Забежали мы на баз, прихватили удочки, пешню, банку с мотылем и, хоронясь от гостей, бегом чесанули в лес. Там спустились с яра на заледенелую плеску, я пробил пешней с десяток лунок, насадил на крючки мотылей, и стали мы с Мариной рыбалить…
Голос Максима зазвенел.
– Понимаешь, Петя, тишь кругом такая, что слышно, как самые дальние дятлы по морозным веткам постукивают, ветерок не шелохнется, вербы на берегах голые, безлиственные, каждое пустое грачиное гнездо на них видать. Под берегами вороха листьев в лед вмерзли. Небо низкое, хмурое, а все равно осколки льда вокруг лунок, будто алмазы, блестят. Стою я, в лунку гляжу в темную воду, удочкой с насадкой помаленьку подергиваю, а совсем рядом Маринушка моя стоит, полушубок на ней здоровенный и валенки для доброго мужика свалянные, и чью-то мужичью шапку она на затылок сбила, и волосы золотые из-под шапки у нее рассыпались… Стоит она, сердечная, на кулачонки свои от холода дует, ну прямо как дите малое, а сама смотрит на меня и смеется…
Максим закашлялся, накинув на голову одеяло.
– Так и не пожили мы с ней, и жизни, можно сказать, не видели. Взяли меня на войну, потом эта круговерть пошла, и оказался я на чужбине. Только через годы узнал, что умерла бедная моя жененочка от чахотки. О ее смерти написала мне дочка Тая, которую мне и повидать не довелось…
Горько становится, когда рядом с тобой, скрывая слезы, задыхаясь, плачет мужественный, много смертей повидавший мужчина. Доброму Петру Бармину хотелось подняться с постели, подойти к Максиму, обнять его, посидеть рядом с ним, но он понял, что никакие объятия, никакие слова утешения тут не помогут, и потому молчал, вслушиваясь в глухое покашливание товарища и дожидаясь, пока он успокоится сам.
– Сколько раз пытался я вернуться до дому, – прерывисто вздыхая, проговорил наконец Максим, – и где только черти меня не носили! Всяко бывало. А повидать за годы моего бродяжества довелось столько и столько пришлось помучиться, что самому что ни на есть заклятому врагу не пожелаешь… – Максим достал сигарету. – Вот и теперь, дорогой Петруша, не прямой дорогой суждено мне добираться до родных краев, к милой дочке, а кружлять какими-то тайными тропами, ненавистную личину на себя надевать.
– Но у меня, Максим Мартынович, то же самое получается, – возразил Бармин. – Я ведь вместе с тобой этими тропами иду. Ничего не поделаешь, значит, так сложилась наша судьба…
Говорили они тихо, по-русски, не опасаясь того, что старая испанка поймет смысл их разговора, и то, что в эту ночь они находились в зоне республиканцев и в случае чего могли сослаться на Тодора Цолова, успокаивало их.
Только перед утром забылись они в тяжелом сне и проснулись, когда постучала и скрипнула дверью старая смотрительница охотничьего дома.
– Пора вставать, сеньоры, – сказала она, чуть приоткрыв дверь, – кофе я вам сварила…
Странные ее гости, как и подобает хорошо воспитанным мужчинам, побрились, умылись холодной водой, а после завтрака поблагодарили хозяйку и стали предлагать ей деньги. От денег старая испанка наотрез отказалась и долго смотрела вслед уходившим ночным гостям, нахмурив красивые седеющие брови…
На шоссейной дороге Бармину с Максимом удалось устроиться на попутную машину. Оба они с любопытством всматривались в мелькавшие вдоль дороги редкие домики, часовни, овечьи стада. Все чаще машину стали останавливать вооруженные патрули. Они требовали предъявлять документы, и оба русских, следуя совету Хольтцендорфа, показывали бумаги, выданные штабом партизанского отряда, который действовал против мятежников в горных лесах Центральной Кордильеры. Проверив бумаги, патрули пропускали двух путников беспрепятственно. Только один раз проверка чуть не закончилась плохо. Автомобиль остановил патруль анархистов – трое высоких парней в беретах и черно-красных шарфах. Пояса их были увешаны гранатами, у всех троих в руках маузеры. Начали анархисты с беспорядочных выстрелов перед самым носом шофера, послушно остановившего машину. Рыжеватый верзила с роскошными бакенбардами, как видно старший патруля, долго вчитывался в документы Бармина и Селищева, презрительно хмыкнул и грозно закричал:
– Партизаны? Знаем мы ваших партизан! Только по ущельям прячетесь и красоток щупаете, не так ли? А зачем вас дьявол несет в Мадрид, мы еще проверим.
– Чего ты, Мануэль, церемонишься с ними? – перебил второй парень, похожий на вертлявого цыгана. – Хватай их за горло и тащи с машины!
– Позвольте, камарадос, – вежливо сказал Бармин. – Как видите, мы безоружны, так что по вашему требованию сойдем с автомобиля и сами отправимся туда, куда вы прикажете. К тому же мы не испанцы, а русские, и задержка наша может вызвать неприятности. У нас важное задание.
– Русские? – переспросил верзила, сбавляя той. – Если русские, это другое дело. Русских мы уважаем, они воюют как черти. – Он посмотрел на своих товарищей, подумал и сказал, возвращая Бармину бумаги: – Хорошо, езжайте и возблагодарите господа бога за то, что он позволил вам родиться русскими…
После полудня Бармин и Селищев добрались наконец до Мадрида. Шофер довез их до одной из окраинных улиц, рассказал, как найти нужный им отель, а сам свернул в какой-то кривой переулок.
Максим с Барминым медленно шли по мадридским улицам, пробираясь к центру. Навстречу им шагали солдаты республики, бойцы народной милиции. Мужчины и женщины строили баррикады. Всюду шла неустанная работа. Потные лица людей, сбитые камнями их руки, суровое молчание – все выдавало готовность мадридцев сражаться до последнего человека.
Это были те самые люди, к которым так давно стремился Максим Селищев, о которых мечтал молодой Петр Бармин, и вот теперь, вместо того чтобы подойти к этим людям, низко им поклониться, обнять их и открыто сказать: «Мы готовы сражаться и умереть с вами», они вынуждены были идти мимо людей, к которым тянулись их души, идти и ничем не выдавать горячее свое волнение.
Яков Степанович Ермаков принял посланцев Тодора Цолова незамедлительно. Опытный военный разведчик, Яков Степанович почти два года работал с Тодором Цоловым в Китае, в миссии Блюхера, встречался с ним в Австрии и Чехословакии, знал его настоящее имя и был знаком с его женой, сотрудницей разведывательного управления Генерального штаба. Здесь, в Испании, рекомендации Цолова были для Ермакова вполне достаточными, чтобы полностью поверить двум сидевшим перед ним русским эмигрантам. Со слов Цолова знал он и Вальтера Хольтцендорфа.
Когда зашитая в плаще шифровка была передана Ермакову и прочитана им, Максим спросил:
– Господин полковник, какие будут приказания?
Яков Степанович мягко улыбнулся, пристально взглянул на измученное лицо Максима, перевел взгляд на Бармина.
– Почему «господин»? – негромко сказал он. – Вы здесь среди своих. Называйте меня товарищем. Теперь и, надеюсь, навсегда мы с вами стали товарищами. Не так ли?
Петр Бармин сидел, низко опустив голову. Руки его слегка дрожали. Максим отвернулся, закашлялся. Ермаков понял их состояние. Он сам был взволнован. После долгого молчания он заговорил осторожно и ласково, так, как говорят с тяжелобольными:
– Все будет хорошо, товарищи. Мне известно, какие мытарства пришлось вам испытать на чужбине и сколь горек был тот хлеб, который вы ели. Это особенно относится к вам, товарищ Селищев. Мне понятно и то, что вас шокирует нынешнее ваше положение. Оно справедливо кажется вам двусмысленным. Однако мой друг Тодор Цолов был прав, когда посоветовал вам избрать тот путь, который вы избрали. Нам, советским коммунистам, которых партия послала советниками в армию испанских республиканцев, нужны глаза и уши в стане мятежных генералов. Вы сейчас выполняете очень сложную и опасную работу. Мы верим вам, как товарищам и друзьям.
В эту самую минуту в комнату, где Яков Степанович Ермаков разговаривал с Барминым и Селищевым, не постучавшись, быстро вошел Роман Ставров. Он молча положил перед Ермаковым сводку, остро глянул на двух незнакомых людей, повернулся по-военному и вышел.
Так бывает в жизни. Если бы Максим Селищев знал, что минуту назад рядом с ним стоял родной его племянник, а Роман Ставров знал, что понуро сидевший в кресле смуглый худой человек с темными, тронутыми ранней сединой усами – его родной дядя, брат его матери, отец Таи, о котором так много говорили в семье Ставровых, они бы кинулись друг к другу, обнялись и долго стояли бы так и потом Максим все узнал бы о любимой своей единственной дочке.
Но Максим видел племянника очень давно, перед тем как ушел на войну, видел, когда Роману было всего пять лет, и, конечно, не мог даже подумать, что стройный, подтянутый офицер в испанской пилотке и есть тот самый мальчишка, который когда-то сидел у него на коленях и теребил его чуб. Не мог подумать и Роман, что изможденный, усталый человек с печальными глазами – его дядя, молодой, жизнерадостный красавец хорунжий, чья фотография хранилась в старом материнском альбоме.
Всего этого тем более не могли знать ни Яков Степанович Ермаков, ни Петр Бармин, и потому случайная встреча дяди с племянником, длившаяся только одну минуту, ничем для них не оказалась примечательной.
2
Осень в тот год стояла тихая, теплая, дождей было немного, и потому районное начальство поломало планы Дятловского совхоза. Директору совхоза Ермолаеву приказали не дожидаться весны и немедленно приступать к раскорчевке умирающего в донской пойме леса, чтобы быстрее подготовить землю под посадку фруктового сада.
Из области прислали шесть тяжелых гусеничных тракторов, грейдеры, катки. На раскорчевку Ермолаев обязал выйти всех рабочих нового совхоза, кроме животноводов. Чуть ли не вся станица Дятловская стала дневать и ночевать в лесу…
В эти дни Андрей Ставров был в отъезде. Он побывал в лучших донских плодопитомниках, на Кубани и предгорьях Кавказа, отыскивая саженцы деревьев, которые надо было подготовить к весенней посадке. Андрей был восхищен всем, что ему удалось повидать в Мичуринске. Великолепные, ухоженные сады со множеством сортов яблонь, слив, груш, вишен; свои питомники и опытные участки, лаборатории и кабинет; сотни энергичных, до фанатизма преданных своему делу людей – от рабочих до профессоров.
Здесь, в этом необъятном разливе садов, в нежных ростках новых сеянцев на делянках, в осененных тополями дорогах, в ослепительно сверкавших лабораториях – все, до самого малого листка, тихо слетавшего на землю, казалось, еще находилось под пристальным взором недавно умершего хозяина, все дышало им, и Андрей на секунду поверил, что вот сейчас из-за этой стройной яблони с прекрасно сформированной кроной выйдет, опираясь на палку, высокий седобородый человек в измятой шляпе, суровый волшебник, воззвавший к жизни новые деревья, плоды и ягоды. Выйдет он, остановится и станет по-отечески учить его, молодого садовода Андрея Ставрова, доброму, нужному всем людям искусству выращивать яблони, черешни, сливы и откроет перед ним сокровенные тайны малого семечка, в котором дремлют великие силы жизни, требующие помощи и доброй человеческой души…
Андрей был доволен тем, что в длительных поездках ему удалось получить наряды на отборные саженцы тех сортов, которые для донской зоны рекомендовали ученые. По его расчетам, этих саженцев должно было хватить на сто гектаров будущего сада…
В Дятловской Андрея встретила Наташа. Приехал он пароходом, и она, узнав о его приезде из телеграммы, присланной в совхоз, едва дождалась окончания уроков, помчалась на пристань, а когда пароход подошел к причалу и Андрей стал спускаться по сходням, Наташа почему-то покраснела, смутилась. По первому ее движению было видно, что она хотела кинуться ему навстречу, но удержалась и степенно, как взрослая, стала дожидаться, пока он сойдет на берег. Андрей обнял девочку, подергал ее негустую косичку и спросил, улыбаясь:
– Ну, как дела, маленькая хозяйка?
– Ой, Андрей Дмитриевич, у нас тут такое творится! – заверещала Наташа. – Директор всех выгнал в лес, там корчуют деревья, жгут костры. Дым кругом стоит такой, что ничего не видать. Ученики наши тоже ходят в лес, помогают таскать ветки. Я тоже буду ходить с вами, там так весело…
Андрей не мог не заметить того, как Наташа взволнована и обрадована его возвращением в Дятловскую. Видимо, смерть отца, отъезд сестер и брата, однообразная жизнь с матерью, похожие один на другой долгие, скучные дни – все это привело к тому, что девочка потянулась к новому человеку, появившемуся в их доме. К тому же этот человек чуть ли не каждый вечер помогал ей готовить уроки, интересно рассказывал о дальних странах, о животных и о деревьях. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Наташа привязалась к нему, скучала без него и по-детски радовалась, когда он возвращался домой.
С первого же дня возвращения в Дятловскую Андрею пришлось с головой окунуться в работу. Директор совхоза Ермолаев сразу вызвал его в контору, начал упрекать за долгое отсутствие, потом успокоился и заговорил тише.
– Вот что, дорогой мой садовод, подключайся к делу, хватит тебе путешествовать, – сказал Ермолаев. – Если мы с тобой будем тянуть резину, с нас головы поснимают. Тракторы нам дали, а корчевальных машин, говорят, еще не придумали. Ну и действуем мы лопатами, ломами да тросами.
– Мне бы сейчас план посадок составить, – попробовал возразить Андрей. – Саженцы я достал, но за ними надо ехать, да и землю я хочу разбить по участкам.
Ермолаев озлился:
– Ты это вообще брось! Бумажечками да планами можешь вообще по ночам заниматься. У нас в Дятловской плодово-овощной совхоз, а не канцелярия. За саженцами весной съездишь. На раскорчевке глаз да глаз нужен, и ты обязан там быть вообще каждый день, не то, если плохо выкорчуют корни этого лесного гнилья, через год-другой весь твой сад вообще заглушат вербы да тополя…
Андрею было известно любимое словечко Ермолаева «вообще», которое тот употреблял кстати и некстати, и потому, слушая разбушевавшегося директора, он начал смеяться.
– Ты чего скалишься? – еще больше вскипел Ермолаев. – Тебе понятно, о чем я говорю, или вообще непонятно?
– Понятно, Иван Захарович, и в частности и вообще, – Андрей нарочито нажал на слово «вообще», – все будет вообще исполнено по твоему приказанию.
Ермолаев секунду смотрел на него оторопев, потом заливисто захохотал:
– Ну и паршивец ты, Андрей Митрич! Понимаешь, прицепилось ко мне проклятое слово чуть ли не с детства – и вот никак не могу от него избавиться. Я еще в пятом классе был, так мать и старший брат за это окаянное «вообще» по губам меня шлепали, но так и не отучили. – Он походил по комнате, закурил. – Ладно, садовод, не будем к словам придираться, дело надо делать. Сейчас я велю подать лошадей, поедем на наше пожарище, поглядим, чего там творится…
Раскормленные рыжие кони быстро вынесли легкую линейку за станицу, и Андрей еще издали увидел горящие на займище костры и густую пелену дыма, которая, подобно белому туману, стояла над корчуемым лесом.
Людей в лесу было много, не меньше трехсот человек. Почти погибший, высохший лес для строительства не годился. Кривые вербы с черными зияющими дуплами, ломкие, полусгнившие тополя, которые валились от первых ударов топора, годны были только на дрова. Андрей смотрел, как потные мужики опутывали толстыми тросами обкопанные со всех сторон здоровенные пни с подрубленными корнями, а гусеничные тракторы с натужным скрежетом вырывали пни из ям и оттаскивали их к высокому берегу извилистого ерика; по самые глаза закутанные платками женщины обрубали сучья с упавших деревьев, а шумливые подростки, мальчишки и девчонки с криком волочили охапки сучьев и кидали в костры.
Со всех сторон слышались частые удары топоров, глухой стук ломов и лопат, утробное уханье пудовых кувалд, вжиканье поперечных пил, ржание коней, скрип тележных колес и пыхтение тракторов. Отовсюду тянуло запахом дыма, а когда утихающий предвечерний ветерок относил дым к реке, снизу пробивались запахи свежеспиленной древесины и глубоко развороченной земли…
Напуганные шумом звери покидали лес. Андрей видел, как, неуклюже переваливаясь с лапы на лапу и встревоженно фыркая, по заросшей бурьянами поляне пробежал бурый, с густой сединой, матерый енот. В кустах терновника мелькнул огненно-рыжий хвост лисовина. Несколько зайцев, устремляясь один за другим, понеслись в сторону ближнего кургана. Над сухими вершинами тополей хлопотливо летали вороны, их карканье разносилось далеко над лесом, над широким речным займищем.
Андрей вдруг почувствовал, что ему жалко смотреть на то, как люди уничтожают полумертвый, но где-то еще таящий жалкие остатки жизни лес, как они лишают пристанища зверей и птиц, которые веками рождались на этом куске земли, рыли логова и вили гнезда, выводили потомство и в положенный час умирали. В то же время он понимал, что восстановить старый, обреченный на гибель лес невозможно, что здесь, на этом заброшенном займище, в междуречье, на очищенной от полусгнивших пней и сухих деревьев, освобожденной от бесплодного праха земле волею людей будет высажен сад и что труд его, Андрея Ставрова, вольется в большой человеческий труд, который поможет тысячам яблонь, груш, слив, вишен, черешен зеленеть, цвести и плодоносить…
Размышления Андрея звонким криком прервала Наташа. Она подбежала к нему, потряхивая растрепанными волосами, и закричала:
– Посмотрите, Андрей Дмитриевич, какой славный ежик! Девочки его в бурьянах нашли, он даже не сворачивался, только смотрел на нас и сопел, как поросенок. – Она подошла ближе, спросила, заглядывая в глаза Андрею: – Можно его взять домой? Раз лес выкорчуют, ему, бедному, негде будет зимой спрятаться.
– Ну что ж, возьми, – сказал Андрей, – ежи хорошие зверьки, они быстро привыкают к человеку, а мышей ловят не хуже кошек.
Ему нравилось доброе, жалостливое отношение девочки ко всему живому. Он видел, как в один из воскресных дней Наташа, неумело орудуя молотком, пыталась соорудить из разбитых овощных ящиков теплую конуру добытому у кого-то серому, похожему на волчонка щенку. Пришлось помочь ей, показать, как надо держать молоток и гвозди. Когда надо было топить слепых котят, которых старая пестрая кошка рожала по пять-шесть штук, Наташа забивалась в угол, заливалась слезами и долго не могла успокоиться. Впрочем, и сама Федосья Филипповна предпочитала в таких случаях обращаться к помощи соседки и просила ту управиться с котятами, пока Наташа была в школе.
Полюбовавшись добродушным рыльцем ежа, Андрей сказал:
– Ладно, Наташенька, тащи его домой, пусть до весны побудет в тепле, потом мы его выпустим…
Он медленно пошел вдоль линии раскорчевки, наблюдая, как один за другим с хрустом и треском разрываемых корней валятся пни. Дятловцы узнавали его, здоровались. Пятеро заядлых курильщиков остановили Андрея у костра.
– Ну как, товарищ агроном, будет у нас сад? – спросил мокрый от пота парень в матросской тельняшке.
– Конечно, будет, – сказал Андрей. – Вот расчистим землю, пустим сюда плантажные плуги, выровняем всю площадь и станем сажать деревья.
Парень в тельняшке ухмыльнулся, повел головой в сторону худого небритого старика в очках. У старика был один глаз, левый, да и тот с бельмом, правый закрыт.
– А вот дед Филя говорит, что никакого сада тут не будет.
Андрей посмотрел на хитро прищурившего глаз старика и заметил, что в очках его не было стекол, только одна оправа.
– Почему ж это не будет? – с любопытством спросил Андрей.
Дед Филя горделиво коснулся пустой оправы на носу.
– Потому, товарищ агроном, что лес этот спокон веку водою затапливается, – скрипучим голосом проворчал он. – Наши казаки не раз и не два яблони тут сажали, картофель, разную огородину, и ничего из этой затеи не получилось. Как только весною вода в Дону поднимется, так вся наша овощь прямехонько до Азова плывет, аж до самого моря добирается.
– Видал, агроном, какой из себя дед Филя? – насмешливо протянул сквозь зубы здоровенный тракторист, которого все дятловцы называли Полтора Километра. – Он у нас такой дед, практик!
– Весенние паводки, для нас, дедушка, не страшны, – сказал Андрей. – Мы о них знали, когда место для сада определялось.
– Это ж откудова вы могли знать, ежели вас и в станице не было? – поинтересовался дед.
– Для этого существуют карты. – Андрей решил все объяснить словоохотливому деду. – Вот изучили мы карты, поглядели уровни паводков почти за сотню лет.
– Ну и чего? Спасут вас ваши карты?
– Карты не спасут, но весь сад мы обвалуем, а паводки, которых вы боитесь, еще какую пользу нам принесут, – сказал Андрей.
– Это как же?
– А вот так: если сад потребует полива, то мы по своему желанию возьмем из реки столько воды, сколько нам нужно…
Переходя от одной группы работающих к другой, Андрей и сам брался за лом или лопату, помогал людям и к вечеру смертельно устал.
Домой он пошёл пешком. Над смутно белевшей станичной колокольней блестел тонкий серп месяца, во всех домах зажглись лампы, над рекой клубился легкий туман. Распахнув стеганую фуфайку, Андрей шел неторопливо, думая о земле, будущем саде, о Еле. Больше всего о Еле. Он вспоминал ее приезд в Дятловскую, и странное выражение отчужденности в ее глазах, и то, как неловко чувствовала она себя в домике Федосьи Филипповны, и нотки обидной жалости в ее голосе, когда она говорила о нем и о его жизни в станице.
Сейчас, всматриваясь в неяркие огоньки в окнах станичных домов, Андрей подумал о том, что в его отношениях с Елей появилась какая-то почти незаметная трещинка, что-то неожиданное и непонятное, то, чего он не мог объяснить, и это напугало его. Он давно знал и привык к тому, что Еля никогда не отличалась нежностью, но примирился с тем, что, любя ее, сам старался постоянной лаской смягчить сдержанность, обижающую его скованность любимой. Отсюда, на расстоянии, он вдруг как бы увидел свою жизнь с Елей со стороны, попытался представить себя и ее как чужих для него, посторонних людей, чьи характеры и самые неприметные оттенки их отношений друг к другу он с холодным спокойствием мог бы понаблюдать и понять. Однако из этой попытки поставить себя в положение беспристрастного наблюдателя у него ничего не получилось. И не могло получиться, потому что в его воображении одна за другой проходили картины их встреч – от того памятного вечера в сумеречном классе пустопольской школы, когда он впервые увидел и сразу полюбил ее, до последнего, совсем недавнего появления Ели в Дятловской – и все эти встречи, и жизнь на Дальнем Востоке, и рождение сына были так близки, так дороги ему, что он тотчас же отогнал глупую и гадкую, как ему казалось, мысль о том, что Еля не любит его и не хочет с ним жить…
Скучая по жене, Андрей забывался в работе. А работы был непочатый край. Зима держалась теплая, лес корчевали каждый день, и все шире становилась темная площадь очищенной от мертвых деревьев, глубоко вспаханной земли. Андрей вставал рано, до рассвета, наспех выпивал приготовленную Федосьей Филипповной кружку молока, закуривал и шел в контору совхоза, где его уже ждали Ермолаев и главный агроном Младенов. Они вместе еще раз уточняли план работы на день, а как только рассветало, шли в лес. Сюда толпами направлялись дятловцы, сразу зажигали костры и приступали к раскорчевке.
– Лишь бы не ударили морозы, – озабоченно говорил Младенов, – а то придется нам прервать работу до весны.







