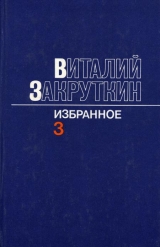
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
Дмитрий Данилович был тронут. Только теперь, когда прошли годы, он понял, что прожил в Огнищанке не напрасно, что помощь, которую он оказывал больным односельчанам, не забыта ими. Чуть опьяневший, он грустно выслушивал слова благодарности, бормотал смущенно и невнятно:
– Ладно, ладно… Чего я там сделал? Ничего… То, что мог, то и делал… Можно было больше сделать, а я, дорогие мои земляки, это самое, в земле, как крот, ковырялся… Но, вы сами знаете, это время такое было… беда меня заставила к земле припасть, потому что дети с голоду подохли бы…
Позже всех в амбулаторию пришли председатель сельсовета Илья Длугач и председатель колхоза Демид Плахотин. Оба они накануне были вызваны в район, там ночевали и только что вернулись. Снова пошли объятия, поцелуи, похлопывания по спине. Настасья Мартыновна засуетилась с соседками, освобождая двум председателям место за столом.
– Ты, Данилыч, правильно сделал, что вернулся в Огнищанку, – сказал Длугач. – Человек ты, как говорится, образованный, разные книжки читаешь, мы до тебя привыкли, доверяем тебе, и ты можешь немалую нам оказать помощь своими советами, особливо колхозу.
– Поначалу, как колхоз организовался, мы, как слепые кутята, тыкались то в один угол, то в другой, – сказал Демид Плахотин, – не знали, с какого конца до чего браться. То по едокам колхозные доходы делили, то по имуществу, которое люди в артель сдали. Сколько нареканий выслушали, ощупью, можно сказать, до истины добирались, потому что грамотешки у нас и зараз не хватает. На что товарищ Длугач или же я в Красной Армии служили, неграмотность свою давно ликвидировали, а как уткнемся носом в разные там балансы да бюджеты, головы у нас навроде дубовых чурок станут.
Длугач засмеялся:
– Прислали до нас из Ржанска одного грамотея за бухгалтера, а он одно знает: самогон глушит да девок щупает. Ну и подвел нас под монастырь, проворовался, сукин кот. Допрежь чем в тюрьму его спровадить, товарищи колхозники повели его до нужника и такой акварелью рожу ему разрисовали… Еле мы с Демидом спасли этого горе-бухгалтера от артельного трибунала. Ну, в Ржанске отмыли его в бане, как положено, а потом десять лет вляпали с конфискацией имущества – галстуков да зонтика…
Мрачный лесник Букреев махнул рукой, сказал сердито:
– У этого хлюста ничего и не было, он и наши гроши по городским ресторанам растрынькал.
Стол постепенно пустел, женщины, как это всегда бывает, отделились от мужчин и вели свои разговоры. Дмитрий Данилович слушал огнищан, рассказывал о Дальнем Востоке, а перед вечером, когда все разошлись, посидел на крыльце, покурил и побрел на холм, к тому полю в балке, первому полю, которое пятнадцать лет назад было выделено ему Огнищанским сельсоветом и спасло его семью от голодной смерти.
Балку он узнал сразу, но теперь на ее краях и дальше не было заметно ни одной межи. Везде, сколько было видно, темнела чистая пахота огромного колхозного поля.
Дмитрий Данилович постоял, опустив голову, грустно подумал: «Вот уж истинно – все возвращается на круги своя. Кажется, совсем недавно пахал я с сыновьями это трудное поле, сеял тут ячмень и пшеницу, а теперь вот и поле стало общим, и сыновья мои разлетелись кто куда, и старость подходит… А я снова на этом поле. И все же хорошо, что я вернулся сюда, где все меня знают, уважают за мою работу».
Потом он пошел на кладбище проведать могилу отца. Кладбище над прудом было объято благостной осенней тишиной, усыпано желтыми опавшими листьями. Кое-где подгнил, повалился окружавший кладбище ветхий плетень. Отцовскую могилу Дмитрий Данилович узнал по тяжелому кресту, сделанному из крепких дубовых бревен. В середине креста до сих пор торчало толстое ржавое кольцо. Дмитрий Данилович вспомнил старого Силыча, который делал крест умершему отцу, будто наяву увидел сугробы снега, по которому в ту страшную зиму брела на кладбище цепочка голодных людей, вспомнил все, что было пережито за пятнадцать лет, и, словно отгоняя от себя печальные мысли, сказал:
– Жизнь требует своего. Надо жить и работать.
7
Взнузданная нацистами Германия жила в ту пору своей жизнью, и слишком мало немцев понимало, что направляют их страну к пропасти. К пропасти, которая поглотит тысячи тысяч самих же немцев, что дым и пламя пожаров охватит их родину, и реки слез прольются на горячих развалинах, и останутся неутешными вдовами многие женщины, и неприютными сиротами останутся дети, и долго будет тяготеть над Германией страшное проклятие всех народов Земли.
А пока в немецких городах гремели литавры, трубили победные трубы, алые, с черной свастикой знамена реяли на улицах, железно чеканили шаг солдаты созданного Гитлером нового вермахта, и торжествующие нацисты славили своего фюрера и мечтали о покорении планеты.
Тысячи честных немцев были в те годы расстреляны, повешены, четвертованы палачами «верного Генриха» Гиммлера, тысячи томились в тюрьмах, концлагерях, где их пытали, издевались над ними, унижали их человеческое достоинство.
Были разогнаны профсоюзы. Принят тайный закон «об обороне империи», имеющий целью подготовку к войне. Введена всеобщая воинская повинность и «трудовая повинность». С лихорадочной быстротой строились танки, самолеты, подводные лодки. После так называемого «плебисцита» к Германии была присоединена Саарская область, а вскоре в нарушение Локарнского договора германские войска вступили в демилитаризованную Рейнскую зону.
«Сильный должен господствовать, – поучал Адольф Гитлер своих многочисленных слушателей, – и не должен сливаться со слабым, чтобы не утерять свою силу. Только слабый от рождения может находить это ужасным, но на то он слабый и ограниченный человек. Если этот закон не будет господствовать, тогда всякое движение человечества к высшей жизни невозможно… Как природа мало желает соединения слабых с сильными, так же она выступает против слияния высшей расы с низшей».
Многие духовно развращенные Гитлером немцы уверовали в свое высшее предназначение на земле, в свою «избранность», непреодолимую силу Германии, которая по воле фюрера должна господствовать над всем миром.
Поверил в это и Юрген Раух. Ингеборг вскоре после прихода Гитлера к власти уговорила Юргена идти служить в армию, он окончил военное училище, за три года службы в седьмой пехотной дивизии в Мюнхене был замечен начальством, получил звание майора.
В те годы, при резком увеличении армии, офицеров не хватало, на службу стали призываться даже пожилые капитаны и обер-лейтенанты старой кайзеровской армии, служащие полиции, юристы. Унтер-офицеры направлялись в военные школы.
В конце июня 1934 года произошло событие, которое еще больше возвысило Юргена Рауха. Эти дни запомнились Юргену на всю жизнь.
Поздним вечером его вызвал командующий округом и сказал:
– По сообщению из Берлина, сегодня ночью в Мюнхен должен прилететь рейхсканцлер Гитлер. Он направится в баварское министерство внутренних дел, куда приказано прибыть офицеру из нашего штаба для получения распоряжений рейхсканцлера. В министерство поедете вы, майор Раух.
– А о чем, господин генерал, я должен доложить фюреру? – удивленно спросил Юрген.
Командующий округом пожал плечами, раскурил сигару.
– Этого я и сам не знаю. Мне известно лишь то, что обстановка накалена до предела. Судя по всему, это связано с штурмовыми отрядами. Вы ведь слышали. Раух, о требованиях их руководителя Эрнста Рема? Он давно что-то затевает против Гитлера и хочет, чтобы его штурмовики подчинили себе армию и стали хозяевами положения.
– Мне приходилось слышать, господин генерал, о том, что штурмовики Рема недовольны, – сказал Юрген. – Они утверждают, что национальная революция не принесла пользы никому, кроме фюрера и партийной верхушки, и что пора, как они говорят, взять свою долю пирога.
– Думаю, что мы стоим накануне важных событий, – с тревогой в голосе сказал командующий. – Армия поддерживает рейхсканцлера Гитлера, военные, как вы знаете, терпеть не могут штурмовиков. Приезд фюрера ничего хорошего для штурмовиков не предвещает. Но справиться с ними будет нелегко, их не так мало, и оружие у них есть. Не случайно сейчас у нас в армии запрещены отпуска и даже не разрешена выдача увольнительных в город. Это свидетельствует о многом…
В министерстве Юрген застал толчею. В приемной расхаживали офицеры-эсэсовцы. Входили, шептались о чем-то и быстро выходили какие-то люди, военные и гражданские.
К Юргену Рауху подошел знакомый ему оберштурмбаннфюрер СС Хетгер, приятель Конрада Риге.
– С праздником, дорогой майор, – сказал он, загадочно ухмыляясь, – сегодня мы попразднуем вдоволь. Придется штурмовикам Рема почесать затылок. Больше фюрер миндальничать с ними не будет. Вы ведь знаете, что они требуют продолжения национальной революции и сумели распропагандировать всякую мелкотравчатую сволочь. Главари штурмовиков дошли до такой наглости, что стали чуть ли не открыто орать: мы, мол, дали Гитлеру власть, на наших шеях он вознесся на вершину, мы его и свергнем. Но ничего, сегодня они почувствуют беспощадную руку фюрера.
Приемная все больше наполнялась людьми, которых Юрген Раух не знал. Они усаживались на диване, курили, собирались группами по нескольку человек и разговаривали вполголоса.
Гитлер приехал в третьем часу ночи. Он вошел в приемную в сопровождении Геббельса, двух генерал-адъютантов и офицеров личной охраны в черных эсэсовских мундирах. Министр внутренних дел Баварии Вагнер встретил его на пороге.
Едва ответив на приветствие Вагнера, Гитлер отрывисто спросил:
– Офицер из штаба седьмого округа явился?
Юрген сделал три шага вперед, вытянулся, приложил руку к козырьку фуражки:
– Офицер штаба майор Раух по приказанию командующего округом прибыл в ваше распоряжение, мой фюрер!
Гитлер близоруко сощурил глаза, смерил Юргена с головы до ног ощупывающим взглядом.
– Передадите командующему округом, – хрипло сказал он, – что все события, которые произойдут здесь в ближайшие часы, являются внутренним делом партии. Части гарнизона обязаны оставаться в своих казармах… Мы сами постираем свое грязное белье. Скверно лишь, что в этом замешаны армейские генералы фон Шлейхер и фон Бредов, которые сочли возможным якшаться с заговорщиками-штурмови-ками. Передайте также командующему, что я позабочусь о том, чтобы ничто впредь не мешало армии выполнять ее задачи по обороне страны. Вы все поняли, майор?
– Я все понял, мой фюрер, – отчеканил Юрген.
Уже повернувшись, Гитлер снова остановил взгляд на Юргене.
– Ваша фамилия Раух? – спросил он. – Вы, кажется, были участником нашего выступления здесь в двадцать третьем году?
– Так точно! – ответил Юрген.
– Хорошо, идите, – сказал Гитлер, – я вас запомнил. Сейчас вы свободны, майор. Дальнейшие распоряжения получите после моего возвращения из Висзее. – Он шагнул к министру Вагнеру, спросил, хмурясь: – Руководители мюнхенских штурмовых отрядов Шнейдхубер и Шмидт задержаны? Они здесь?
– Да, мой фюрер, – ответил Вагнер, – оба арестованы и сидят в моем кабинете. С них уже сорваны генеральские погоны.
Гитлер вспыхнул, закричал истерично:
– Вы слишком много на себя берете! Что делать с этой предательской шайкой, решаю я один.
Резко рванув дверь, он в сопровождении министра вошел в кабинет.
В приемной стало тихо. Геббельс дремал в кресле. К нему подошел референт Гитлера Ханке с каким-то списком в руках. Вслушиваясь в их приглушенные голоса, Юрген понял, что в списке значились командиры штурмовых отрядов, подлежащие уничтожению. Заглядывая вместе с Геббельсом в список, Ханке негромко говорил:
– Этими займется Геринг в Берлине, он их не выпустит… Эти поручены эсэсовцам… Этих я со своими людьми перехвачу на вокзале…
Сделав вид, что его это не касается, Юрген Раух старался не пропустить ни одной фамилии, названной референтом Ханке. Почти всех их Юрген знал как самых преданных сподвижников Гитлера, готовых на все террористов: и главаря всех штурмовиков бывшего «капитана боливийской службы», а ныне генерала Эрнста Рема, грубого, циничного солдафона, завсегдатая самых злачных ночных притонов, бесстрашного и отчаянного авантюриста и известного убийцу Эдмунда Гейнеса, уничтожавшего противников фюрера выстрелами из-за угла; и Петера фон Гейдебрека, любимца нацистской молодежи, которого с восхищением именовали «одноруким партизаном»; и организатора еврейских погромов, командира берлинских штурмовиков Карла Эрнста; и убийцу неугодных нацистам министров Манфреда фон Киллингера; и одного из самых прославленных немецких летчиков Герда, и Конрада Шрагмюллера, и Ганса Гайиа, и Рольфа Райнера, и Августа Шнейдхубера, и многих других командиров штурмовиков, которые подняли Гитлера до небес, а теперь были обречены им на смерть…
За окном министерской приемной стояла душная ночь. На востоке небо едва заметно светлело, но казалось, ночь никогда не минет и всегда будет так же темно и душно. Позже немцы назвали эту полную крови и ужасов ночь «ночью длинных ножей».
Юрген Раух вскоре узнал, что Гитлер, Геринг и Геббельс расправились со штурмовиками. В Берлине был расстрелян Карл Эрнст. Генерал Шлейхер и его жена были убиты, так же как генерал фон Бредов. Штрассера эсэсовцы затоптали ногами в Грюнвальдском лесу. Многих штурмовиков придушили и расстреляли в Штадельхейхмской тюрьме.
Главарю штурмовиков Эрнсту Рему Гитлер оказал особую «милость»: в его одиночную камеру был принесен и положен на стол заряженный пистолет. Офицер-эсэсовец князь цур Липпе сказал арестованному: «По приказу фюрера оставляю вам, генерал, этот пистолет. За свое предательство вы можете сами привести в исполнение приговор над собой».
Рем молчал. Лежа на койке, закинув руки за голову, он смотрел на эсэсовца ненавидящими, красными от бессонницы глазами. Тот вышел и запер за собой дверь. На следующий день этот же офицер открыл камеру и увидел, что живехонький Рем валяется на койке как ни в чем не бывало, накрытый серым тюремным одеялом, а пистолет лежит на том же месте. «Вы, генерал, не воспользовались любезностью фюрера, – сквозь зубы сказал князь цур Липпе. – Теперь я даю вам лишь десять минут…»
Рем молчал. Сжимая в руке свой пистолет, князь цур Липпе ждал, поглядывая на часы. Ровно через десять минут он убил Рема тремя выстрелами в голову.
Казни, убийства, пытки, аресты продолжались довольно долго. Когда Юрген Раух доложил командующему округом обо всем, что ему довелось увидеть и узнать, сдержанный, молчаливый генерал долго расхаживал по кабинету, постоял у окна в глубокой задумчивости и заговорил, роняя пепел сигары на ковер:
– Знаете, Раух, то, что Гитлеру надо было расправиться со штурмовиками, мне понятно. За спиной Рема стояло множество недовольных, тех самых людей, которых русские большевики именуют, если я не ошибаюсь, мелкой буржуазией. Эти люди упрекали Гитлера в сговоре с промышленниками, финансовыми магнатами, монополистами. Назревал широкий заговор против верхушки национал-социалистской партии, и это было опасно. Но, скажу прямо, меня шокирует форма, избранная Гитлером для расправы со своими противниками. Вместо законного гласного суда над руководителями штурмовых отрядов он учинил кровавый, разнузданный самосуд. Такой, с позволения сказать, «метод» вызовет самую отрицательную реакцию за рубежом, что вряд ли принесет нам пользу…
Юрген был полностью согласен с командующим. По этому поводу он даже поссорился с женой, она оправдывала действия Гитлера и, посмеиваясь, иронизировала над «интеллигентской мягкостью» мужа.
– Ты не знаешь, милый Юрген, того, что, кроме Рема и его бандитов, фюрер разделался еще и с теми, кто вообще ему мешал, – сказала Ингеборг, – с католической оппозицией, с остатками социал-демократии и с прочей дрянью. Все они сошли за штурмовиков.
– Но разве это честная борьба? – возразил Юрген. – Мне кажется, политика прежде всего должна быть честной и чистой.
Ингеборг с сожалением покачала головой:
– Ты ребенок, мой дорогой. Это в тебе еще остались черты твоей милой России. Запомни: политика никогда не бывает ни чистой, ни честной, иначе она не называлась бы политикой…
А время шло. Было принято решение о создании мощной военной авиации. Гитлеровские дипломаты договорились с англичанами о пятикратном увеличении германского военно-морского флота. Изданы были откровенно расистские законы, и в еще больших масштабах участились еврейские погромы. Многие писатели, артисты, художники стали один за другим покидать Германию. Как снежный ком, росла немецкая армия, новейшее оружие текло к ней широким потоком. Фюрер Адольф Гитлер готовился к завоеванию мира.
Среди других офицеров, получивших повышение в звании, не был забыт и Юрген Раух. Не прошло и года после памятной «ночи длинных ножей», как его вызвал командующий округом и, подозрительно поглядывая на своего подчиненного, сказал:
– Майор Раух! Несмотря на то что я не представлял вас к повышению, получен приказ фюрера о присвоении вам звания подполковника. Прошу принять мои поздравления. Прошу также ответить: вы выполняете только то, что положено выполнять офицеру моего штаба, или вам кем-то даются поручения, которые мне не известны?
Юрген побледнел.
– Вы обижаете меня, господин генерал, – сказал он, – и если вы имеете в виду гестапо или ведомство адмирала Канариса, то должен сказать, что никакого отношения к этим весьма почтенным учреждениям я не имел и не имею…
Однако, судя по всему, командующий не поверил Юргену. Внешне он не изменил к нему отношения, был по-прежнему корректен и вежлив, но после отъезда Конрада Риге в Испанию пригласил Юргена к себе и сказал, устало потирая ладонью лоб:
– Мне приказано выделить трех офицеров для отправки в войска генерала Франко. Кажется, там отважно сражается ваш кузен штурмбаннфюрер Риге? Я не ошибаюсь? Вам, подполковник Раух, представляется возможность увидеться с ним. Что вы на это скажете?
– Простите, господин генерал, – твердо сказал Юрген, – но я не обладаю способностями штурмбаннфюрера Риге и, если вы позволите, от поездки в Испанию откажусь. Если, однако, вы перестали доверять мне, я готов подать вам просьбу об увольнении.
Строгие черты командующего смягчились.
– Ну, зачем же такой ультиматум? – улыбаясь, сказал он. – В Испанию мы пошлем других офицеров, а с вами, Раух, поработаем здесь. Сейчас, – он подчеркнул это слово, – я доверяю вам полностью…
Так Юрген Раух остался в Мюнхене.
ГЛАВА ВТОРАЯ1
По приезде с Дальнего Востока Еля упросила Андрея пожить у ее родителей. Она соскучилась по отцу с матерью, по городу, где прошло ее девичество. И несмотря на то что Андрей торопился к месту своей новой работы, он не смог отказать жене. Платон Иванович и Марфа Васильевна Солодовы со слезами радости встретили дочку с зятем, а трехлетнего внука с рук не спускали, закармливали, как индюшонка.
Еля была на седьмом небе от счастья. К ней каждый день прибегали подруги, и она в их присутствии относилась к Андрею с подчеркнутой нежностью. Это удивляло и злило его.
– Странно у тебя получается, Елка, – говорил он, когда оставался наедине с женой. – Как только кто-нибудь чужой появится, ты сразу преображаешься, начинаешь нежничать со мной, и, знаешь, мне кажется, что это попахивает фальшью.
– Не придумывай чепухи, – лениво отмахивалась Еля.
– Как это не придумывай? – настаивал Андрей. – Скажи, пожалуйста, почему, когда мы остаемся только вдвоем, у тебя нет ни малейшего желания подойти ко мне, обнять, то есть делать все то, что ты делаешь при твоих подружках? Разве настоящая любовь театральна? Разве она требует присутствия зрителей?
Словно опомнившись, Еля подходила к нему, теребила его жесткие светлые волосы и говорила, вздыхая:
– Фантазер ты у меня и выдумщик…
Каждое утро, взяв с собой сына, они уходили к реке, на пляж. Еля с помощью подруг успела где-то купить модный купальный костюм. Плавала она прекрасно, и, когда еще по-девичьи стройная, красивая, выходила из воды и легким движением рук отжимала темные волосы, Андрей гордился ею, радовался тому, что она стала его женой, и это радостное чувство не покидало его все дни. Он наблюдал за тем, как бесстрашно плещется в воде его маленький сын, как он возится в песке, и горячее ощущение счастья волновало его, как никогда.
Вечерами, после того как Еля укладывала сына спать, все подолгу сидели в уютной столовой, пили чай. Платон Иванович обстоятельно рассказывал о своей работе на заводе, Марфа Васильевна давала дочери всякие советы, а уставший Андрей умиротворенно думал о том, как все хорошо складывается в его жизни и как, должно быть, счастливы Платон Иванович и Марфа Васильевна, прожившие нелегкую жизнь и не потерявшие привязанности и уважения друг к другу.
Его умиляло здесь все: натертые до зеркального блеска полы, любовно ухоженные цветы на подоконниках, тюлевые занавески, крахмальная скатерть на столе, свежие обои на стенах, запах сдобных пирогов, раз навсегда устоявшийся порядок дней и вечеров, тихая, скромная жизнь двух людей-тружеников.
– Славно живут твои родители, Елка, – говорил он Еле. – Мне очень хотелось бы, чтобы наша с тобой жизнь была похожей.
Еля просветленно улыбалась.
– Это зависит только от нас, Андрей…
Как-то вечером, разговаривая о предстоящем отъезде Андрея, Марфа Васильевна сказала:
– Тебе, дорогой зять, лучше поехать сперва одному. А то трудно поначалу будет вам с маленьким ребенком. Ни квартиры у вас нет, ни мебели… Пусть лучше Еля останется пока у нас, а ты езжай, получи квартиру, потом можешь и жену забрать.
Платон Иванович вопросительно глянул на Андрея.
– А не тяжело тебе там будет одному? Кто знает, сколько времени придется ждать квартиру? Может, полгода, может, год. А как с питанием, со стиркой? А как ты, дочка, на это смотришь? – обратился он к Еле. – Не скучно тебе будет без мужа? Ты нас, стариков, не слушай, решай сама. Нам, конечно, будет приятно, если ты поживешь у нас, мы рады будем, но смотрите, как вам лучше. А мы с Марфой Васильевной, видно, тоже переедем на Дон. Хочется быть поближе к вам. Меня давно зовут туда и квартиру в городе обещают…
Андрей видел, что Еле очень хочется пожить с отцом и с матерью, но он ожидал, что она скажет, и, хотя был согласен с Марфой Васильевной, ему хотелось, чтобы жена сама решила, как ей быть. Еля подошла к мужу и, как это с ней всегда бывало при людях, взлохматила его волосы.
– Ты согласен? Правда, Андрей, все разумные люди так делают. Поживи один, осмотрись, а мы с сыном приедем, как только получим твою телеграмму.
Услышав слова Ели, Андрей с грустью подумал о том, что ей не хочется ехать с ним, что, будь он на ее месте, он, пи секунды не задумываясь, поехал бы с ней куда угодно, хоть на край света, но ему не хотелось говорить об этом, чтобы тесть и теща не посчитали его эгоистом, и он, постукивая пальцами по столу – отцовская привычка, – сказал:
– Хорошо, давайте сделаем так. Но засиживаться мне нельзя. Послезавтра я поеду…
Последние два дня Андрей с Елей не отходили друг от друга. После женитьбы это была первая их разлука, и они оба притихли, словно отгородились от всех.
Стояли теплые сентябрьские дни. По утрам даже здесь, в большом городе, пахло прохладной свежестью, а над рекой, чуть колеблясь, стояли легкие туманы. В густой листве деревьев уже стала заметна первая осенняя желтизна.
В день отъезда Андрей проснулся на рассвете, разбудил Елю и сказал:
– Пойдем пройдемся. Мне хочется побыть с тобой.
Они спустились к реке, попросили у дряхлого пляжного сторожа лодку, молча переплыли на левый берег, пошли в лес. Отсюда, из леса, повитый утренней дымкой город за рекой казался таинственным, призрачным видением. Смягченные расстоянием, сюда еле доносились протяжные гудки заводов, разноголосые сигналы автомобилей. Туман над рекой розовел под первыми лучами солнца.
На лесной поляне Еля остановилась, слегка сжала руку Андрея, кокетливо тряхнула волосами, спросила тихо:
– Ты, Рыжик, будешь по мне скучать?
Так его называли когда-то в школе: мальчишки – Рыжим, девчонки – Рыжиком, и то, что Еля, вспомнив это необидное, давнее прозвище, назвала его так и в голосе ее прозвучала ласка, заставило Андрея вздрогнуть. Ему показалось, что горячая волна подхватила его, понесла куда-то. Он остановился, обнял Елю, прижался щекой к ее щеке, сказал хрипло, не узнавая своего голоса:
– Дуреха ты моя! Меня ли об этом спрашивать?
Уезжал он вечером. На вокзал его провожали все. Он долго стоял у окна, смотрел, как машет шляпой Платон Иванович, как, вопросительно поглядывая то на мать, то на отца, неуклюже вскидывает ручонку сын Димка, но все они – и тесть, и теща, и даже сын – казались Андрею нереальными, далекими, а видел он только ее, Елю, любимую свою Елку, милую жену, которая надолго остается здесь, в большом городе. Держа за руку сына, Еля стояла нарядная, в светлом платье, в модной белой шляпке, ее слегка подкрашенные губы улыбались…
В этот вечер, отправившись с соседями по купе в вагон-ресторан, Андрей одну за другой выпил несколько больших рюмок вина и долго потом сидел, уронив голову на руки…
Казачья станица Дятловская, куда он долго добирался то на попутном грузовике, то на телеге, то на катере, сначала не понравилась Андрею. Она раскинулась на острове, куда можно было доехать только лодкой. Ни одного моста нигде не было. Остров был большой, изрезанный извилистыми ериками, на нем темнели густые леса, поросшие разнотравьем луга на обширном речном займище. За надречными лесами давно никто не смотрел, они превратились в непроходимую чащобу, в которой нашли безопасное пристанище волки, лисы, еноты.
Станица Дятловская вытянулась на острове вдоль правого берега Дона. Ее крытые соломой и кугой дома стояли далеко один от другого, усадьбы у казаков были большие, при каждом почти дворе зеленели сады и виноградники.
С первых же дней своего пребывания в Дятловской Андрей убедился в том, что совхоз, куда он был назначен агрономом, существовал только на бумаге. Шесть лет назад в поредевшей после гражданской войны станице был организован колхоз, но дела в нем шли из рук вон плохо.
Председатель стансовета, маленький, худой мужичонка, к которому обратился Андрей Ставров, выслушав приезжего, добродушно усмехнулся:
– Постановление о совхозе было нам прислано еще в июле месяце, а сейчас уже сентябрь. Никто из совхозного начальства не прибыл. Вы первый. В станице действует колхоз. Конечное дело, действует он абы как, вроде черта, который летит и крылья свесит.
– Это ж почему? – спросил Андрей. – Неужели за шесть лет нельзя было наладить работу колхоза?
– То-то и оно, что нельзя, – посерьезнев, сказал председатель. – Условия, дорогой товарищ, у нас не совсем подходящие.
– Почему?
– Да потому, что мужиков в станице почти что не осталось. Одни у красных головы свои посложили, другие у белых или же в разных бандах, а те, которые повертались до дому, прямыми инвалидами оказались, то без руки, то без ноги. Ну и, конечное дело, кажен из этих героев-инвалидов в начальники пошел или же на Дону рыбкой забавляется, а в колхозе одно бабье трудится. Так и получилось: дали нашему Дятловскому колхозу название «Победа», а победа вышла довольно-таки хреновая. Есть, конечное дело, сколько-то десятков женщин-колхозниц, которые на совесть работают, а то больше на своих приусадебных участках ковыряются, виноград выращивают, вино производят, сами пьют и на левобережье в степь бочками возят, на пшеницу меняют.
– А что ж начальство смотрит?
Председатель усмехнулся, хитровато подмигнул Андрею:
– Дак оно как сказать, какое начальство… Чего-чего, а вина у нас, слава богу, завсегда хватает и своего, единоличного, и колхозного. В колхозе тридцать девять гектаров виноградников. Правленцы вино даже на трудодни передовым колхозникам начисляют. Ну, приедет из района или же из края какой-либо начальник, ежели, скажем, он насчет вина стойкий, то просто походит, покричит на председателя колхоза и уезжает, на чем приехал. А который не дюже стойкий и к вину принюхивается, того, конечное дело, сразу за стол, четверть-другую перед ним поставят, курочку там жареную или же, к примеру, чебачка, леща то есть, запеченного в духовке, – и одно знают: стакан за стаканом то сибирькового ему подольют, то краснотопа. Ну, секанет он как положено и, гляди, сам затянет на всю станицу: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня…» Так-то, дорогой товарищ агроном.
– А кто ж решил совхоз у вас организовать? – спросил Андрей.
– Получилось это так, – сказал председатель. – Аккурат весною прибыла до нас комиссия из края, а с нею, с комиссией энтой, какой-то московский мужчина, заслуженный видать, потому что все наши краевые представители в струнку перед ним ходили и в рот ему заглядывали. Ну, объехала эта комиссия наши поля, посидела в колхозном правлении, переворошила все бумаги за шесть годов, всякие там доходы-расходы пересчитала, а потом энтот московский товарищ и говорит: не колхоз у вас, дескать, а шарашкина артель, которая вывеской колхозной прикрывается. Все земли на острове под сады да огороды приспособлены, надо, мол, плодоовощной совхоз тут организовать.
– На базе колхоза, что ли? – спросил Андрей.
– Видать, так.
Председатель помолчал, свернул толстую цигарку из самосада, закурил.
– Объявили они тогда общее собрание колхозников и все честь по чести разъяснять стали. Земли, говорят, у вас на острове заливные, кажную весну в низинах тут цельное наводнение, и вы с вашим зерновым хозяйством повек из нужды не вылезете, потому как озимые ваши посевы весною затапливаются и все идет собаке под хвост. А для фруктовых садов и огородов тут, говорят, не земля – прямо-таки божий рай. Опосля, при конце собрания, выступил московский представитель и такое предложение внес: ежели, мол, товарищи колхозники, будет ваше согласие и желание, ежели вы хотите жить по-людски, то мы ваш горе-колхоз можем на плодоовощной совхоз переделать. Ну, конечное дело, колхозники все, как один, руки подняли. Комиссия написала протокол, уехала, а месяца через три постановление про совхоз нам прислали. Вот так, товарищ агроном, оно и получилось: постановление есть, а совхоза нема…
Выслушав словоохотливого председателя, Андрей спросил:
– Что ж мне в этих условиях делать и где жить?
Председатель пожал плечами:
– Чего вам делать, это я не могу знать. Директор совхоза еще не прибыл. Слух есть, что кого-то назначили с Кавказа или с Крыма, а когда он заявится, одному богу ведомо. Ну а насчет жилья – это мы, конечное дело, поможем. Доведется вам на квартиру до кого-нибудь стать.
Он задумался, почесал затылок.
– Есть у нас одна подходящая семья. Позапрошлый год они откель-то из Сибири до нас прибыли. Видать, деньжат там поднакопили, потому как отразу дом в станице построили комнатей чуть ли не на четыре. Ну, хозяин ихний вскорости помер, старшие сыны и дочки кудысь в город подались, не схотели тут оставаться, а вдова с меньшей дочкой-девчонкой одна живет.







