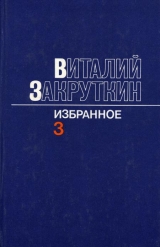
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
Натужно посапывали паровозы. Переливались в разных местах трели свистков. Елена, всхлипывая, прижалась щекой к плечу Андрея, прошептала:
– Прощай… Кто знает, когда нам придется увидеться… Береги себя…
Острая жалость кольнула сердце Андрея. Он целовал мокрое ее лицо, горячие ладони, в последний раз вдохнул знакомый запах ее волос.
– Прощай, Еля. Будь умницей. Расти Димку добрым парнем…
Платон Иванович подал Елене руку. Кто-то задвинул дверь теплушки. Раздался короткий гудок далекого паровоза, и сразу лязгнули буфера.
Один за другим прогромыхали мимо Андрея вагоны. Через несколько минут отошел второй эшелон, потом третий. Стали расходиться немногие люди, проводившие в неизвестность своих близких.
Прошагал комендантский патруль, на мгновение осветив Андрея карманным фонариком. Он все стоял, заложив руки за спину, низко опустив голову, и ему казалось, что та пропасть, вначале незаметная, которая давно возникла между ним и Еленой, сегодня, после того как они расстались, разверзлась во всей своей ужасающей глубине, навсегда поглотив то, чем он жил долгие годы.
В город Андрей вернулся на рассвете. Здесь ему уже некуда было деться. Часа три он слонялся по набережной, зашел в какой-то захудалый магазинчик, купил бутылку водки, хлеба, колбасы. Долго искал место, где бы присесть, перекусить. В руинах разрушенного бомбами дома увидел какого-то замурзанного старика с голодными глазами. Угостил его водкой, выпил сам, дождался парохода и уехал в Дятловскую, чтобы перед отправкой на фронт проститься со своим садом.
На станичной пристани Андрея никто не встретил. На пароходе из дятловцев тоже не было никого. Постояв на обрывистом берегу Дона, он направился прямо в сад, минуя станицу.
По луговому проселку ездили редко. Дорога заросла пыреем, щерицей и донником, колеи едва-едва угадывались в густом, желтеющем к осени разнотравье. Андрей смотрел, как петляют они, то обходя в низинах кружальца топких луж, то взбираясь на пологие холмишки, и с горечью думал, что так же вот, как эти два колесных следа, бегущих рядом, но нигде не сходящихся вплотную, протекала его нескладная жизнь с Еленой. И тут же вспомнил другое: очень давно, в годы своего огнищанского детства, запряг он однажды в хлипкую двуколку норовистую молодую кобылицу, та рванула, понесла под гору в сумасшедшей скачке и разбила двуколку, колеса которой – за одним из них волочилась ржавая ось – покатились в разные стороны. Андрея поразило это внезапно пришедшее сравнение теперешней своей и Елиной жизни с бегущими в разные стороны колесами…
На речном займище давно было скошено и уложено в копны луговое сено. Копны успели слежаться, потемнеть, а вокруг них зеленела отава. Андрей шел, любуясь поросшими негустым камышом озерцами, голубевшими слева от дороги, всматривался в белевшую вдали стрелу высокой колокольни и осененные крестами, окрашенные яркой медянкой церковные купола. Там, рядом с церковью, на берегу тихого ерика, огибающего лесную опушку, в деревянной избенке живут двое людей, к которым он успел привязаться, – вековечная труженица Федосья Филипповна и славная, влюбленная в него Наташа, милая девушка, которой он желает только добра и счастья. Там, в этой деревянной избенке, – все, с чем он через несколько дней надолго простится, но к чему обязательно вернется когда-нибудь, если, конечно, останется жив…
Самое главное, самое близкое и родное, что оставляет Андрей здесь, на полюбившейся ему дятловской земле, – это сад. Вон он уже виден, уже синеет над ровным приречным займищем. Кажется, совсем недавно был сад беззащитным, весь светился голубизной, тонкие стволики саженцев, подвязанные к кольям, дрожали, сгибались под ветром. А теперь? Обрели мощь, набрали силу, крепкими стали ровные, побеленные известью стволы, широко, привольно раскинулись красивые кроны, и в них кое-где зазолотились, заалели первые плоды…
В свой сад Андрей вошел, как в храм, – чинно, неторопливо. Долго бродил по междурядьям, останавливаясь у каждого дерева, гладил шероховатую кору, и ему казалось, что в ответ на его ласку деревья вот-вот заговорят. Вспоминал покойного своего учителя-садовода Егора Власовича Житникова, старого нелюдима, который всерьез считал, что деревья ничем не отличаются от людей: так же рождаются, дышат, питаются, растут, любят своих избранников и только по любви сочетаются браком; так же, как люди, болеют, испытывают страдание и радость; так же старятся, становятся дряхлыми и умирают. Пожалуй, только одно важное отличие деревьев и людей признавал Житников: высочайшую их нравственность – незнание зла. Студенты посмеивались над стариком, про себя называли его «психом». Но Андрею навсегда запомнился одержимый его учитель, и, бродя в этот сентябрьский день по саду, он думал о том, что Житников, может быть, по-своему прав – люди многого еще не знают и не скоро постигнут мир иных существ, которые, кроме них, людей, населяют землю…
В станице Андрей оказался только под вечер. Когда шел по улице, его останавливали на каждом углу. Дятловцы уже знали, что секретарь парткома и агроном-садовод уходят на фронт, и потому, соблюдая обычай, подходили к Андрею, прощались, желали вернуться живым и здоровым.
На длинных бревнах возле церковной ограды сидели старики станичники. Они подозвали Андрея к себе, освободив ему место, заговорили о войне.
– Видать, дела там плохи, раз уж агрономов стали в армию призывать, – прошамкал седобородый дед Матвей.
– Куда уж хуже! – подхватил его сосед. – Немец прямым ходом на Ростов лезет.
Высказались и остальные:
– Гляди ты, беда какая, сколько народу кажен день погибает. В районе уже две школы под лазареты заняли.
– Калечит, сволочь, людей!
– А сколько беженцев! У нас одних их чуть ли не полстаницы…
Андрей молчал. Он давно полюбил этих простодушных людей, много потрудившихся на своем веку. Ему милы были их старинные песни, рассказы о былом, их безвредное хвастовство и веселое лукавство. Полюбил он и саму старую казачью станицу Дятловскую, ее крытые чаканом курени, увитые диким виноградом беседки, запах вяленой чехони, рыбца и тарани в каждом дворе, мычание коров, кудахтанье кур – все, чем жили трудяги станичники.
– Ну, чего ж, Митрич, – прищурив подслеповатые глаза, сказал дед Матвей, поняв, что Андрею сейчас не до разговоров. – Иди, братец, воюй! Были б мы помоложе, пошли бы вместе, чтобы вогнать в землю энтого подлюгу Гитлера. А зараз мы желаем тебе и всем нашим орлам-казакам возвернуться с победой…
Дома Андрея встретила Федосья Филипповна. Под навесом кухоньки-летницы был уже накрыт чистой скатеркой вкопанный в землю стол, на нем стояли миски с вымытыми помидорами и поздними огурцами, высился горкой нарезанный ломтями хлеб.
– Седайте, Митрич, – поклонилась Федосья Филипповна. – Зараз картошка сварится, и лучка я поджарю.
– А где ж Наташа? – спросил Андрей.
– Побегла искупаться. Она только из района пришла, чего-то в комсомол ее вызывали.
– Подождем Наташу. – Андрей поднялся с табурета. – Я тем временем соберу в дорогу свои пожитки…
В тесноватой своей комнатенке Андрей постоял, посвистал, открыл чемодан и задумался: «А чего в него класть? Что мне нужно? Не тащить же с собой книги, дневники, все эти блокноты, записки, письма?.. Оставлю я все здесь».
Махнув рукой, он вернулся во двор. Федосья Филипповна сидела у плиты. Наташа стояла рядом, расчесывала влажные волосы. Увидев Андрея, она набросила на голову косынку.
– Седайте вечерять, – сказала Федосья Филипповна.
Поужинали молча. Андрей закурил. Солнце зашло. С ерика, тяжело переваливаясь, шли на ночевку утки. По улице с мычанием брели коровы, за ними вздымалась и оседала пыль. С Дона потянуло вечерней прохладой, запахом полыни. На небе засветились первые неяркие звезды. В этот мирный вечер странно было думать, что где-то бушует война, горят города и деревни, тысячами умирают люди.
– Если можно, пусть мои книги останутся у вас, мне некуда их девать, – сказал Андрей.
– А чего ж, нехай лежат, – согласилась Федосья Филипповна. – Они никому не мешают.
Наташа поднялась, ушла в дом и тут же возвратилась, держа в руках тетрадь в темно-зеленой клеенчатой обложке. Сказала тихо:
– Возьмите с собой, Андрей Дмитриевич.
– Что там такое? – удивился Андрей.
– Летом я собрала по одному листочку с каждого сорта деревьев, которые посажены в саду. – Наташа бережно полистала тетрадь. – Тут есть листья яблони, груши, сливы, черешни, абрикоса, вишни… Я их подсушила, расклеила в тетради и надписи сделала… – Она робко взглянула на Андрея, пододвинула тетрадь ближе к нему. – Возьмите, пожалуйста… Может, вспомните когда наш сад…
Сердце Андрея сжала острая боль. Он нагнулся, поцеловал Наташу.
– Спасибо, Ташенька. Обязательно вспомню. И сад и тебя. Разве ж можно забыть?
Наташа заплакала, плечи ее вздрагивали. Федосья Филипповна, отвернувшись, тоже всхлипнула, вытерла уголком фартука слезы.
Андрей отвел руки Наташи от горячего ее лица.
– Зачем тебя вызывали в райком комсомола?
– Я курсы медсестер закончила, – давясь от рыданий, выдохнула девушка, – я на фронт хотела идти…
– Ну и что?
– А мне в райкоме сказали совсем другое…
– Что там тебе сказали? – тревожно спросил Андрей, подумав почему-то, что Наташу решили забросить в тыл к немцам.
– Сказали, что фронт приближается к Дону и что, может быть, придется эвакуировать из области весь скот на Кавказ или еще дальше, за Каспий.
– А ты здесь при чем? Разве пастухов нет?
Наташа по-детски, кулачком, стала вытирать глаза.
– Не знаю. В райкоме сказали, что меня на случай эвакуации прикрепили к дятловскому совхозному стаду… Очень мне это надо! Люди умирают, кровь проливают на фронте, а я должна с коровами и овцами по тылам странствовать… Да еще и пригрозили, что за каждую утерянную корову придется, мол, отвечать…
– Ладно, Таша, не плачь, – улыбаясь, сказал Андрей. – Это не самое худшее. Решение райкома надо выполнять. А пока до эвакуации дело дойдет, ты тут после меня за нашим садом присматривай, будь там хозяйкой.
Два дня спустя, в воскресенье утром, дятловцы провожали Андрея и Володю Фетисова. На пристань пришла чуть ли не вся станица. Сердобольные женщины совали в дорожные мешки мобилизованных куски сала, вареных кур, яйца, пирожки.
– Зачем нам столько? – отбивался Фетисов. – Разве мы съедим все это?
– Ничего, берите! – настаивали женщины. – Солдатики помогут, если сами не справитесь…
Егор Иванович Ежевикин успел раньше всех сдавить из раннего винограда вино и настойчиво угощал Андрея и Володю мутным, неотстоявшимся чихирем.
Подошел пароход, дал один гудок, второй. Все сгрудились у сходней, стали прощаться. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Заплаканная Наташа Татаринова вдруг бросилась к Андрею, обняла, прижалась к нему и, задыхаясь от рыданий, слабея, стала опускаться на землю. Женщины подхватили ее, отвели в сторону.
Раздался протяжный третий гудок. Пароход отвалил от пристани. Андрей стоял на корме, молча смотрел, как уплывает назад толпа на берегу. Несколько минут он еще различал в ней голубую косынку Наташи, потом все слилось: берег, кромка надречного леса, желтые пески над водой. Левее, на горизонте, таяла синеющая полоса сада… Все, чем жил Андрей в последние годы, уносил куда-то пенный след парохода, исчезающий за излучиной реки…
3
Максим Селищев и Петр Бармин, которые приехали погостить к Тае, неожиданно были вызваны в Москву. Их разыскал у Таи незнакомый лейтенант и сказал, что известный им Тодор Цолов очень просил товарищей Бармина и Селищева срочно прибыть к нему по важному делу. Лейтенант был вежлив, предупредителен, но достаточно настойчив. Заметив, что Тая напугана его приходом, он сдержанно улыбнулся и сказал:
– Вы, Таисия Максимовна, не беспокойтесь. Вашему отцу ничто не угрожает. Идет война, и каждый человек должен в этой схватке точно определить свое место. Товарищу Цолову сейчас нужна помощь Максима Мартыновича и Петра Григорьевича, только поэтому он и хочет с ними повидаться.
– Что ж, можете передать товарищу Цолову, что мы постараемся встретиться с ним, – подумав, сказал Бармин и вопросительно взглянул на Максима. – Так, что ли, Максим Мартынович?
Тот пожал плечами.
– Да, очевидно, надо ехать.
– Тогда, если это вас устроит, я возьму билеты на завтра, – сказал лейтенант. – Судя по всему, дело не терпит отлагательства…
Когда лейтенант ушел, друзья долго молчали. Потом Бармин походил по комнате, постоял у окна и заговорил, запинаясь, будто рассуждал сам с собой:
– Этого следовало ожидать. Чем, собственно, мы были заняты почти целый год? Какой-то ни к чему не обязывающей чепухой. Разве мы с тобой, Максим Мартынович, о службе в архиве мечтали, когда возвращались на родину? Зачем нам корпеть над старыми, пропыленными бумагами в такое страшное время?
Селищев тронул пальцем седеющие усы:
– Я тоже так думаю, Петя…
Вечером они, как могли, успокоили Таю, а на следующий день в сопровождении веселого молодого лейтенанта выехали в Москву. На Курском вокзале их встретил смуглый скуластый майор, усадил в автомобиль и увез в гостиницу. Двое суток они были предоставлены самим себе, разгуливали по городу, посмотрели балет. Если бы не аэростаты воздушного заграждения и не баррикады на западных окраинах столицы, ничто здесь не напоминало бы о войне. Москва жила обычной своей деловой жизнью, все шло своим чередом.
На третьи сутки похожий на монгола майор приехал в гостиницу и объявил, что товарищ Цолов ждет их.
Тодора Цолова они увидели таким же энергичным, живым, румяным, как при первой встрече в Париже, только, может, седины прибавилось на висках. Он легко вскочил с кресла и устремился навстречу Бармину и Селищеву, широко раскинув руки.
– Здравствуйте, друзья мои! Я знал, что вы приедете, и уже рассказал о вас кому следует все хорошее, что знал. Рассаживайтесь, пожалуйста, поближе к столу. Вот папиросы, вот пепельница и зажигалка. Прошу вас: не стесняйтесь.
Несмотря на то что Цолов был в сером штатском костюме, по обстановке – карта на стене, три телефонных аппарата, стройный капитан в приемной – было понятно, что встреча происходит в служебном кабинете какого-то военного учреждения.
Расспросив гостей об их здоровье, настроении, работе, Тодор Цолов перешел к делу, ради которого пригласил в Москву двух бывших русских эмигрантов.
– Мне с самого начала хочется предупредить вас, товарищи, что после нашего сегодняшнего разговора вы вправе поступить так, как подскажет вам совесть… – Он сделал короткую паузу. – Командованию Красной Армии необходимо уточнить некоторые данные о немецкой группе армий «Юг», которой командует фельдмаршал фон Рундштедт. Кроме того, стало известно, что в Германии оживились и вооружаются старые зубры контрреволюции, охвостье белогвардейщины. Их собирает небезызвестный генерал Краснов, тесно связанный с Розенбергом и успевший напялить на себя мундир гитлеровской армии. Нацисты намереваются использовать этого мерзавца для раскола донского казачества, готовят его и руководимую им банду для отправки на Дон. Мы не имеем права сбросить их со счетов. Тут тоже надо во всем разобраться.
Цолов подошел к Бармину, положил руку на его плечо:
– Как вы отнесетесь к тому, если советское командование предложит вам отправиться в тыл к немцам? Не скрою, товарищи: это я посоветовал начальству обратиться к вам, потому что знаю вас по Испании. Повторяю: никакого, как говорится, давления на вас не будет. Стопроцентная добровольность! Ответ я могу подождать день-два. Подумайте.
Наступило долгое сосредоточенное молчание. Наконец Максим сказал:
– Не знаю, как Петр Григорьевич, а я готов дать согласие немедленно. Говоря по совести, мне надоело сидеть в архиве и читать бумаги о том, сколько было свиней или колодцев в станице Константиновской в девятьсот девятом году и сколько стало их в девятьсот десятом. Зачем это мне? К тому же… – Он запнулся.
– Что к тому же? – заинтересовался Цолов.
– К тому же я не забыл, что на мне висит немалый долг перед земляками, – договорил Максим. – А долги положено отдавать. Одним словом, не хочется мне помирать должником. Так что, товарищ Цолов, можете передать кому полагается, что я согласен выполнить все, что от меня потребуют…
Тодор Цолов поднял бровь, глянул на Бармина:
– А что вы скажете, Петр Григорьевич?
На худощавом лице Бармина не дрогнул ни один мускул.
– То же самое, – твердо ответил он. – Я ведь тоже должник. Раз пришла пора возвратить долг, честный человек обязан это сделать.
– Я был уверен в таком исходе нашей беседы, – взволнованно сказал Цолов. – Спасибо вам, дорогие друзья. Если вы посчитаете нужным съездить домой, попрощаться с близкими, в вашем распоряжении примерно неделя.
– У Петра Григорьевича на Дону никого нет, – сказал Максим, – а я с дочкой уже простился. На всякий случай.
– Только вот как быть с нашей службой в архиве? – осведомился Бармин. – Очевидно, придется просить об увольнении.
– Об этом не беспокойтесь, – сказал Цолов. – Все будет улажено.
– Что ж, тогда нам незачем ехать домой, – повторил Максим.
– Видимо, так, – согласился Цолов. – Сейчас вас отвезут в гостиницу, а завтра после полудня мы встретимся еще раз…
Вечером в гостинице Максим неторопливо ходил из угла в угол и говорил Бармину:
– Понимаешь, Петр, душа моя спокойна. Родную станицу я повидал, родительским могилам поклонился, дочку Таю обнял, рад, что у нее добрая семья. Даже паспорт советского гражданина мне выдали – стал полноправным человеком… Могу я еще послужить своей земле? Не растерял силу? Нет, не растерял. Значит, обязан, как солдат, честно выполнить то, что от меня требуется. Не так ли?
– Да, Максим Мартынович, именно так, – сказал Бармин, – придется только нам с тобой танцевать на острие бритвы. Нацистов я знаю. Доводилось видеть их в Париже. Гнусные твари, подлые и жестокие. В случае провала они с нас шкуру сдерут, причем будут сдирать медленно, со вкусом. – Помолчав, добавил: – Противно мне мое эмигрантское прошлое, но еще противнее жить под личиной этого прошлого, прикидываться заядлым контрреволюционером и не дать ни малейшего повода для подозрений. Ох, как это непросто! Проверять нас будут долго и тщательно.
– Что ж, дорогой Петро, – заключил Максим, – согласие Цолову дано, не идти же теперь на попятную.
Бармин кивнул утвердительно:
– Видимо, так…
Весь вечер они просидели у распахнутой балконной двери. Огромный город был затемнен, лишь изредка внизу проносились редкие автомобили, которые угадывались по едва заметным тусклым полоскам мерцающего света. Автомобильные фары были заклеены черной бумагой с узкой прорезью, в ней на мгновение мелькал и тотчас же гас слабый луч.
На следующий день постояльцы гостиницы «Москва» из комнаты № 369 были снова у Цолова. На этот раз в просторном кабинете кроме Цолова сидел худощавый пожилой генерал. Цолов представил ему сперва Бармина, потом Селищева.
Генерал ограничился молчаливым поклоном тому и другому. Разговор повел Цолов:
– Вам придется скрыть от немцев только два момента из ваших биографий: то, что, находясь у Франко, вы были связаны с нами, и то, что возвратились в Советский Союз по доброй воле. На вопрос о причине возвращения следует ответить, что вас вскоре после прибытия к франкистам завербовал для секретной работы на советской территории офицер абвера полковник Хольтцендорф. Но здесь, в СССР, вы были арестованы – что соответствует действительности – и при первой же возможности постарались сбежать. Запомните, пожалуйста, такую легенду: побег совершен вами в мае сорок первого года из новочеркасской следственной тюрьмы, в начале июля вам удалось перейти линию фронта и добраться до Берлина; там впервые услышали о намерениях генерала Краснова и стремитесь связаться с его группой. Полковник Хольтцендорф предупрежден об этом. Я вам дам берлинский адрес женщины, у которой надо снять квартиру. Это пожилая вдова профессора, зовут ее Гертруда Керстен. Однако все добытые вами сведения вы будете передавать не ей. Когда возникнет необходимость, к вам придет наш человек. Он скажет: «Дядя Тодор из больницы вышел и просил вас не беспокоиться». Это пароль. Запомнили? «Дядя Тодор из больницы вышел и просил вас не беспокоиться»…
Цолов переглянулся с молчаливым генералом. Тот еле заметно наклонил голову.
– Послезавтра ночью вы будете доставлены самолетом на польскую территорию, в лес севернее Зелены-Гуры, – продолжал Цолов. – Там вас встретят наши люди и проводят куда следует. Если не удастся посадка самолета, придется прыгать с парашютом. Завтра вы потренируетесь.
– В Берлине мы все время будем вместе с Максимом Мартыновичем? – поинтересовался Бармин.
Цолов ответил уклончиво:
– Я не уверен в этом. Допускаю, что вам, Петр Григорьевич, придется примерно через месяц съездить в Париж. На некоторое время. Для чего – мне неизвестно. Думаю, однако, что полковник Хольтцендорф попытается связать вас с нужными людьми во Франции. Впрочем, это только мое предположение…
Все время молчавший генерал посмотрел на часы и поднялся.
– Мне пора. – Обмениваясь с Барминым и Селищевым крепкими рукопожатиями, сказал: – Спасибо вам, товарищи, за вашу готовность послужить Родине. Можете не сомневаться: в случае необходимости мы всегда постараемся помочь вам. Желаю успеха и удач. Желаю благополучного возвращения…
Весь остаток дня они провели наедине с Цоловым, который подробно рассказывал им о Краснове и его окружении, советовал, как вести себя с этими подонками, сообщил еще несколько берлинских адресов и паролей. Разошлись поздно вечером.
…Через четверо суток советский пилот без помех перелетел ночью линию фронта и высадил двух своих пассажиров на лесной поляне, там, где было запланировано. Бармина и Селищева встретила группа польских партизан. Неделю они прожили в партизанском лагере, а затем, снабженные отлично сделанными документами с печатью немецкой военной комендатуры города Зелена-Гура, отправились в Берлин, встретились с полковником Вальтером Хольтцендорфом и поселились в уютной квартире фрау Гертруды Керстен на Рунгештрассе.
Началась новая полоса их нелегкой жизни, полная волнений, тревог и опасности…
4
Третий месяц мотался в лесах между реками Стырь и Горынь зажатый со всех сторон немцами, поредевший в непрерывных стычках с ними кавалерийский эскадрон политрука Федора Ставрова. Устали, подбились кони, изголодались, изнемогли люди. При каждой попытке вырваться из окружения росло количество раненых. Однако Федор крепко держал в руках бразды правления. Однажды, выстроив эскадрон, сказал прямо:
– Я должен предупредить вас: если кто дрогнет, струсит, подведет товарищей в бою, пощады не будет. Присягу надо выполнять. Сам я отвечаю и за себя и за эскадрон в целом перед народом, перед партией, перед собственной совестью, наконец. И от каждого из вас требую того же…
Не проронив в ответ ни звука, бойцы угрюмо смотрели на Федора. А он стоял перед строем, стиснув зубы, и на его исхудавшем, темном от ветров и солнца лице застыло выражение каменной твердости.
Пожилой старшина Иван Иванович Кривомаз хрипло обронил:
– Полагаю, товарищ политрук, ни одной стервы в эскадроне пока нет. И надеюсь, не будет.
– Я тоже надеюсь на это, – уже мягче сказал Федор.
После того были новые стычки с немцами, новые неудачи, а все же эскадрон упрямо продолжал свое движение в восточном направлении. Двигались преимущественно в ночное время. Отдыхали днем. Изредка, однако, случались и ночевки.
На одну из ночевок эскадрон расположился в неглубоком овраге у опушки леса. Не разжигая костров, люди повалились на влажную траву, наспех погрызли смоченные родниковой водой сухари и уснули.
Устало пофыркивали стреноженные кони. Жужжали комары.
Закинув за голову немеющие руки, Федор лежал, вслушивался в разрозненные близкие и дальние звуки душной ночи, думал в который раз об одном и том же: «Что же случилось? Почему свиное рыло, то самое, о котором так презрительно говорили мы все, не только влезло в наш огород, но гонит нас, хозяев, без остановки? Вот и меня с моим эскадроном гоняет из стороны в сторону. Мы предоставлены самим себе: решай сам, что тебе делать, по своему усмотрению! А что я должен делать?.. Десятки людей глядят на меня с надеждой, верят, что я могу совершить чудо, выхватить их из лап смерти, спасти, привести к своим. А разве я бог? Я такой же, как все они. У меня такое же, как у них у всех, сердце. И для этого сердца достаточно одной пули, кусочка свинца, чтобы оно остановилось навсегда… И разве мне, живому человеку, не свойственно чувство страха? Разве я лишен инстинкта самосохранения? Разве не могу в этом проклятом лесу сам потерять веру в себя и в товарищей?»
Он содрогнулся от этой мысли и яростно осек самого себя:
«Нет, врешь! Ты, коммунист, не имеешь права распускать сопли! Волею обстоятельств ты стал первым ответчиком за многие человеческие судьбы, за эскадрон, за честь полка. И потом, братец, не забывай, что рядом с тобой есть другие коммунисты – многоопытный Иван Кривомаз, славный парень Женя Найденов, пулеметчик Василий Сычугов. И еще комсомольцы… Вот собери их всех, собери сейчас же! Сядьте и держите совет, как положено большевикам. Ищите выход…»
Федор поднялся, затянул расстегнутый ремень, привычным движением руки передвинул к правому боку тяжелую кобуру с пистолетом, осторожно зашагал между распростертыми на земле бойцами и услышал в темноте приглушенный тенорок Жени Найденова:
– Ложитесь теперь, отдохните…
Шла смена караульных. Найденов сам был за разводящего и, видимо, только что возвратился с теми, кто отстоял на посту положенный срок.
– Найденов, иди-ка сюда, – негромко позвал его Федор. – Возьми свой фонарик, разбуди всех коммунистов, всех комсомольцев и направляй их к тому вон дубу. Надо поговорить…
Однако задуманное им собрание не состоялось. Едва забрезжил рассвет, послышался гул танковых моторов. Танки приближались не с запада, а с востока.
По склону оврага скатился мокрый от росы Сычугов. Доложил, задыхаясь:
– Товарищ политрук! Немцы прямо сюда прут. До десятка танков и автоматчики на броне!
– Старшина Кривомаз, седлать коней! Раненых в повозки! – отрывисто бросил Федор. – Пять бойцов с гранатами – быстро на кромку оврага. Я сам буду с ними, а ты, Иван Иванович, отводи остальных к тому сожженному хутору, где стояли вчера. Жди нас там…
Когда Федор в сопровождении пяти бойцов продрался сквозь мокрые кусты наверх, танки были уже совсем близко. Метрах в ста пятидесяти, не больше. Их приземистые силуэты четко выделялись на фоне занимавшейся алой зари. Федор насчитал восемь машин. Они двигались пока без выстрелов. На броне, тесно прижавшись друг к другу, гнездились автоматчики.
Федор повернулся к Сычугову:
– Вжарь по их мордам, пока они кучно сидят.
Пулеметная очередь Сычугова прогремела немедленно. Выползший вперед молодой боец Никита Охрименко метнул первую гранату. И удачно. Один из танков завертелся на месте. Сам Федор, чуть приподнявшись, сбил гранатой гусеницу со второго танка. Автоматчики врассыпную кинулись назад. За ними ретировались и уцелевшие танки. Укрывшись метрах в двухстах, они открыли бесприцельную стрельбу из пушек. Снаряды их рвались далеко за оврагом.
«Накроют, сволочи, Кривомаза и раненых побьют, – подумал Федор. – Пора и нам отходить. Через овраг они за нами не полезут». Он привстал, крикнул тем, кто был с ним:
– За мной!
Уже на дне оврага, ополоснув потное лицо холодной родниковой водой, Федор убедился, что все пятеро бойцов живы, только у Сычугова пуля обожгла щеку и задела ухо.
То, что немецкие танки пришли ночью, по бездорожью и с востока, а не с запада, несколько удивило Федора. Он не знал, что немцы пытались перекрыть пути отхода одной из советских дивизий, которая неделю назад попала в окружение и прорывалась к своим. Немецкий генерал тоже не знал, что дивизия эта минувшей ночью успела перейти линию фронта, и теперь искал ветра в поле. Перестрелка у оврага заставила его поверить в то, что ему наконец удалось обнаружить неуловимую дивизию и теперь-то уж она от него не уйдет. Он развернул против нее два танковых полка и батальон мотоциклистов. Вся эта группа медленно продвигалась на запад.
Пришлось и Федору уводить свой эскадрон все дальше от линии фронта в западном направлении. Как было условлено, он догнал Кривомаза на сожженном лесном хуторке. За последние дни людей в эскадроне осталось совсем мало: всего тридцать три здоровых бойца да девять раненых, которых везли на телегах. Одежда на них висела клочьями, обувь истрепалась…
Расставив дозорных, Федор собрал на краю черного пепелища коммунистов и комсомольцев. Они расположились тесным кругом. Кто, не теряя времени, чинил гимнастерку, кто брюки, а иные лежа смотрели в чистое осеннее небо, сцепив на груди исцарапанные руки.
Федор тяжелым взглядом обвел собравшихся, тоскливо подумал: «Довоевались».
– Ну? Что дальше будем делать, товарищи? – угрюмо спросил он.
Все промолчали. Слышно было, как в полуобгоревших ветвях старых дубов лениво шумит слабый ветерок, где-то высоко в поднебесье проплыла на юг, трудно взмахивая крыльями, гусиная стая. Вдоль пустынной хуторской улицы серым облачком взметнулся пепел, завертелся клубками и исчез за черными остовами мертвых домов.
– Что будем делать, я вас спрашиваю? – тихо повторил Федор. – Обстановка ясна для всех: противник все больше теснит нас на запад, отжимает от линии фронта. Есть нам нечего, раненые умирают один за другим. Положение очень тяжелое. Надо решать: что будем делать?
Старшина-сверхсрочник Иван Кривомаз посмотрел на Федора, в раздумье прикусив обветренные губы, шевеля щетинистыми усами.
– Воевать будем, товарищ политрук, – сказал он наконец. – Сами ж вы напоминали нам про присягу.
– Присягу выполнять надо, это правильно, – отозвался молодой боец с рыжеватым чубом, – а только объясни ты нам, товарищ старшина, чего мы жрать будем? Погляди на людей, у каждого живот подвело.
– А ты не паникуй, Ямщиков, – отозвался Кривомаз. – Расплакался навроде маленького дитенка. Чай, мы не в пустыне воюем и не на кладбище. Кругом скрозь живые люди живут. Понимаешь ты это, Ямщиков? Наши люди! Харчи найдем, не в харчах дело.
– А в чем же? – спросил Ямщиков.
– В том, друг сизый, что нам негоже духом падать. Или ты уже гадаешь, куда на всякий случай сунуть свой комсомольский билет?
Осторожно потирая раненое ухо, приземистый Сычугов перебил разозленного старшину:
– Погоди, Иван Иванович, не обижай парня. Мы сейчас свою судьбу решаем. Судьбу эскадрона. Харчи харчами, а нам, окромя хлеба, нужны еще и боеприпасы, и теплая одежа, и карты местности, на которой будем действовать. И раненых, опять же, не бросишь середь леса.








