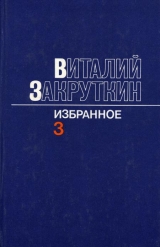
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц)
Виталий Закруткин
Сотворение мира. Книга третья
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
В Женеве, окруженный ухоженными деревьями, цветочными клумбами и зелеными газонами, высится Дворец наций. Зеркальные стекла в окнах, сверкающие аксельбанты и треугольные шляпы гвардейцев охраны, молчаливые швейцары у тяжелых, украшенных бронзой дверей, глубокая голубизна неба, влажный, устойчивый запах цветов – все это придает Дворцу наций величественный, торжественный вид.
Каждую осень, в сентябре, дворец оживает. Мягко шурша шинами, у его подъездов останавливаются комфортабельные автомобили, из которых выходят одетые в смокинги и цилиндры господа. Они церемонно раскланиваются друг с другом и направляются в зал заседаний.
В эту пору в Женеве яблоку негде упасть. Со всего мира съезжаются сюда министры иностранных дел, представители разных государств. Их сопровождают секретари, переводчики, консультанты, референты, помощники. Сотни журналистов, обозревателей, фотографов, легальных и нелегальных шпионов, а также просто любопытствующих богатых бездельников устремляются в Швейцарию. В такие дни женевские отели, частные пансионы, виллы до отказа населены разноязычными постояльцами. Суетятся от избытка энергии владельцы магазинов, кафе, ресторанов. Не отстают, на бегу требуют у дипломатов интервью вездесущие газетные корреспонденты. К тайным местам явок спешат резиденты-разведчики. Каждую осень Женева напоминает растревоженный улей.
Начинается ежегодная осенняя ассамблея Лиги Наций…
С основанием этой международной организации были связаны надежды сотен миллионов людей. Изнуренное кровопролитной войной человечество поверило в то, что Лига Наций, состоящая из представителей чуть ли не всех государств планеты, принесет наконец избавление от войн, нищеты, голода, что по евангельскому завету наступит «на земле мир и в человецех благоволение».
И действительно: в уставе лиги много было прекрасных, обнадеживающих слов о том, что для мира важно принять обязательства не прибегать к войне; что надо поддерживать в полной гласности международные отношения, основанные на справедливости и чести; строго соблюдать предписания международного права и добросовестно соблюдать все налагаемые договорами обязательства.
В сентябре 1934 года представители тридцати стран послали Советскому правительству телеграмму, в которой предложили СССР вступить в Лигу Наций. Зная, что представляют собой главные организаторы лиги, понимая, что капиталисты крупнейших стран мечтают под крылом этой представительной организации установить свое мировое господство, правительство СССР тем не менее согласилось стать членом Лиги Наций. Оно решило противостоять в лиге подобным намерениям и надеялось, что эта широкая международная организация может стать хоть самым малым препятствием к развязыванию войны.
Еще до вступления в лигу Советское правительство предложило всем странам мира всеобщее полное и немедленное разоружение. Навсегда распустить сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы, уничтожить пушки, пулеметы, танки, бомбы, мины, снаряды, все средства массового убийства людей; не обучать военному делу молодежь всей земли, а предоставить ей возможность мирно трудиться, отменить военную службу; разрушить крепости, морские и воздушные базы; ликвидировать военные заводы и не отпускать денег на военные цели – таковы были предложения правительства Советского Союза.
Миллионы людей узнали об этих предложениях, и в их сердцах зародилась надежда на долгий мир. Но разве могли принять и одобрить проект разоружения Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны в Америке, Ротшильды и им подобные в Англии и Франции, Стиннесы, Круппы, Дуисберги в Германии?
Судьбой советского проекта разоружения стало долгое, безнадежное хождение по мукам, по подготовительным и консультативным комиссиям, по комитетам и подкомитетам, пока явными и тайными усилиями буржуазных политиков не был он отвергнут окончательно.
Между тем на земле не было покоя. Японские захватчики бесчинствовали в Китае, отторгли от него Маньчжурию, создали там свой плацдарм – государство Маньчжоу-Го.
Вынашивая планы мирового господства, императорская Япония, а вслед за ней гитлеровская Германия вышли из Лиги Наций, а представители в ней Англии, Франции, Италии палец о палец не ударили, чтобы остановить подготовку к большой войне.
Это было время многих жестоких убийств. Террористы, вышколенные немецкими нацистами, убили австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса, который метался между Муссолини и Гитлером и не знал, к какому берегу ему пристать. Через два месяца в Марселе среди белого дня были убиты югославский король Александр и французский министр иностранных дел Луи Барту. В Германии, вопреки Версальскому договору, Гитлер объявил всеобщую воинскую повинность, а вскоре оккупировал Рейнскую область. Войска Муссолини напали на беззащитную Абиссинию.
Жаркий летний день восемнадцатого июля 1936 года – хотя Максим Селищев тогда не мог знать этого – стал переломным днем в его горькой судьбе и как бы подвел черту под тем отрезком его жизни, какой он прожил, скитаясь на чужбине. В этот день Максим по просьбе хозяина поместья мсье Гастона Доманжа еще с утра отправился на грузовом автомобиле в Бордо, чтобы привести на виноградник новые ранцевые опрыскиватели, мешки с серой и медным купоросом.
В то утро ему не хотелось уезжать… Вечером на вилле «Ирен» должны были праздновать третью годовщину свадьбы Катюши Барминой. Но так – Катюшей – мог еще называть ее только он, Максим Селищев. Не была она теперь и княжной: выйдя замуж за француза, утеряла титул, и теперь соседи называли ее мадам Дельвилль.
За годы, прожитые в поместье Доманжа, он, Максим, по-отечески привязался к Катюше: она напоминала ему оставленную в России дочь. Но после замужества Катюша уехала в Париж, где ее мужу, Альберу Дельвиллю, влиятельные родственники добыли выгодное место представителя известной коньячной фирмы.
В этот июльский день супруги Дельвилль должны были приехать, и потому Максим был недоволен своим хозяином. Мсье Доманж прекрасно знал отеческую привязанность угрюмого русского эмигранта к своей падчерице и, должно быть, намеренно отправил его за какими-то дурацкими опрыскивателями.
В городе Максим торопился, нервничал, помогал грузить бумажные мешки с купоросом и серой; на обратном пути гнал машину с предельной скоростью.
За стеклами кабины мелькали зеленые луга, окруженные деревьями домики, поля, огороды. Старики в выгоревших на солнце шляпах тащили вдоль дороги легкие тележки, нагруженные алым редисом, пучками салата, петрушки, сельдерея.
Но в мыслях Максим был далеко отсюда… Перед глазами, словно повитая туманом, проходила вся его нескладная, невеселая жизнь. В памяти проносились поросшие тополями и вербами берега Дона, крытые чеканом белостенные курени родной станицы, осевшие холмики дедовских могил на станичном кладбище, буйные гульбища на масленицу, пасху и троицу. Будто во сне он видел встречи с Мариной, до сладостной боли чувствовал тепло ее маленьких, сухих рук, сияющие счастьем серые глаза и снова сейчас никак не мог представить, что Марины уже нет. Получив наконец письмо дочери, Максим не поверил этой страшной для него вести, все еще надеялся, что произошла какая-то ошибка, что веселая Марина не может лежать в гробу. Второе и третье письма Таи убедили его. Но и до сих пор он не смирился с тем, что произошло там, в далекой России, и продолжал казнить себя за вынужденное бегство на чужбину.
Грузовик быстро бежал по сверкающей на солнце, похожей на реку дороге, и Максим вспоминал бои в Галиции, бешеные атаки казачьей конницы, порубанных клинками австрийцев, свержение царя и то тревожное распутье, на котором он, молодой хорунжий Гундоровского полка, оказался вместе с офицерами-донцами поздней осенью 1917 года. Если бы не пуля красного стрелка под Перекопом и не тяжелое ранение, никто на свете не заставил бы Максима покинуть жену, дочь, отца и мать, землю, по которой теперь он так тоскует.
Шестнадцать лет скитаний по чужим странам – голод, бесправие, унижения, смертный приговор, вынесенный его же товарищами по Добровольческой армии, и долгое ожидание расстрела в темном, сыром подвале. А самое главное – мышиная возня вышибленных из жизни беглецов, никому не нужные споры, никчемные стычки опускающихся на дно жизни бывших министров, князей, графов, сенаторов, безземельных теперь помещиков и… надежды, бесконечные надежды на то, что ненавистные большевики «изживут себя», будут разгромлены европейскими армиями или свергнуты «православным русским народом», который призовет их, изгнанников, «соль земли», и скажет покорно: «Хватит, возвращайтесь и управляйте нами…»
Шли годы. Старели в чужих землях российские беглецы, множились кресты на чужеземных русских кладбищах, а Советский Союз стоял неколебимой твердыней, с каждым годом становился все сильнее.
Максим искоса глянул на себя в продолговатое автомобильное зеркало. «Да-а… Укатали сивку крутые горки», – с горечью подумал он. Только недавно ему исполнилось тридцать девять лет, а из выпуклого овального зеркала на него смотрело печальное смуглое лицо человека с седыми висками. На лбу резко обозначились морщины, рот был плотно сжат, и даже в аккуратно подбритых темных усах, будто ранний предзимний иней, серебрилась седина. Максим досадливо отвернулся. Ему вдруг вспомнилась давно знакомая песня, которую он неожиданно услышал на виленском базаре лет десять тому назад. Старинную песню пела нищая казачка-беглянка, могучая старуха с зажатым в коленях солдатским котелком. По щекам ее стекали слезы, а щербатый рот выпевал с тоскливой безнадежностью:
Поехал казак на чужбину далеку
Да он на своем на коне вороном.
Свою он краину навеки покинул.
Ему не вернуться в отеческий дом…
Приехал уже перед вечером. Быстро умылся, надел чистую сорочку и поспешил в сад. Там, в увитой диким виноградом беседке, за накрытым скатертью столом, собрались хозяева и гости. Катюша сидела у входа в беседку с одетой в белое платьице девочкой на руках.
Княгиня Ирина – так по старой памяти Максим называл мадам Ирен Доманж – хозяйничала у стола. На почетном месте, как всегда, откинувшись в удобном кресле, сидел дядя мсье Доманжа – бригадный генерал ле Фюр. Максим успел заметить, что красивое лицо франтоватого генерала было сегодня нахмурено. Заметил и то, что все сидевшие за столом были явно чем-то встревожены.
– Что случилось? – шепотом спросил он у есаула Гурия Крайнова.
Крайнов зашептал ему в ухо:
– Сегодня три или четыре генерала подняли мятеж против завладевшей Испанией банды Народного фронта. Молодцы! Называют имена Санхурхо, Годеда, Франко. Убежден, что они настукают республиканцам так, что с тех дым пойдет!
К Максиму подошел Альбер Дельвилль, Катин муж.
– Рано утром, – сказал он, – радиостанция Сеуты передала вроде бы обычные слова: «Над всей Испанией безоблачное небо». Оказывается, это был условный сигнал мятежникам: пора начинать.
Генерал ле Фюр заговорил озабоченно:
– Наша разведка знала о подготовке мятежа. Отнюдь не случайно Санхурхо ездил в Берлин консультироваться с Гитлером. Муссолини тоже не остался в стороне. Мятеж начался в Испанском Марокко, на Канарских и Балеарских островах. Самолет, в котором из Лиссабона летел Санхурхо, разбился. Сейчас мятежные войска возглавляют генералы Мола и Франко. С последним я немного знаком.
– А что он собой представляет? – спросил Доманж.
Генерал ответил не сразу, закурил…
– Франсиско Франко родился и рос в галисийском портовом городке Эль Фероль. Отец его – захудалый бухгалтер. У Франсиско два брата и сестра. Сам он окончил военное училище и академию, был отправлен в Марокко, служил в Африканском полку, потом в «Терсиа» – испанском иностранном легионе. Был ранен. Жестоко расправлялся с повстанцами, за что из года в год получал повышение по службе. Стал майором, подполковником. Лет десять назад произведен в генералы, потом был назначен начальником военной академии в Сарагосе. Когда победила Республика, от Франко решили избавиться и отослали его подальше от Испании – губернатором Балеарских островов. Человек это жестокий, расчетливый и холодный. Он убежденный противник не только революции, но и демократии в любой ее форме.
Крайнов удивленно посмотрел на генерала, язвительно усмехнулся.
– У меня такое впечатление, господин генерал, – сказал он, – что вы не только против вашего коллеги по армии, осмелившегося поднять оружие в защиту порядка и установленного вековыми традициями закона, но прямо желаете победы республиканцам. Не так ли? Или я, может быть, ошибаюсь?
– Нет, вы не ошибаетесь, – спокойно сказал ле Фюр. – Но я понимаю вас. Вы судите о событиях с позиций офицера разгромленной большевиками белой армии. Я действительно всячески хочу, чтобы республиканские войска разбили генерала Франко. Кстати, Франко я не могу назвать своим, как вы изволили выразиться, коллегой. Это ваш коллега и ваш единомышленник. Что же касается меня, то я смотрю на вещи шире и глубже. Испания – близкий сосед Франции. Победа Франко означала бы полный альянс установленного им правительства с Гитлером и Муссолини. А Гитлер спит и видит порабощение Франции…
Альбер Дельвилль горячо поддержал генерала. По делам коньячной фирмы он недавно побывал в Берлине и стал рассказывать о том, что нацисты открыто грозят рассчитаться с французами за поражение Германии в минувшей войне.
– Они мне прямо говорили, – сказал Дельвилль, – что мы, мол, разделаемся с вами, лягушатниками, что вы наши исконные враги и что мира между нами не может быть…
Долго еще продолжались в беседке тревожные разговоры о мятеже в Испании. Гурий Крайнов пытался спорить, но все присутствующие – и хозяева и гости – ополчились против него, и он замолчал, насмешливо поглядывая на собеседников. Разошлись поздно. Максим задумчиво постоял в саду, потом тихо, стараясь никого не побеспокоить, поднялся в свою мансарду. Не успел он раздеться, как в дверь постучали.
– Кто там? – спросил Максим.
– Это я, Гурий.
Он зашел в ночной сорочке, тяжело опустился на табурет, выжидательно посмотрел на Максима.
– Ну, станичник, что будем делать? Дожидаться у моря погоды? Под самым нашим носом пошла заваруха, а мы, офицеры Добровольческой армии, станем молчком глядеть на то, как испанские коммунисты разгрохают генерала Франко?
– Что же ты предлагаешь? – помолчав, спросил Максим.
Крайнов подвинул табурет ближе, понизил голос.
– Не к лицу нам, Максим, батраковать у этого пузатенького Доманжа, гнуть спину на его виноградниках и стареть на хозяйских харчах. Чует моя душа, что этот кордебалет в Испании только начало. Раз Гитлер и Муссолини помогают Франко, значит, у них замах широкий, и нам в такую пору негоже отсиживаться. Надо действовать.
Максим достал из-под кровати бутылку вина, налил два стакана, поставил на стол.
– Выпей, Гурий, – сказал он, – а потом скажи мне по-человечески: чего ты от меня хочешь?
– Чего хочу? – вспыхнул Крайнов. – Разве ты сам не знаешь? Или тебе твоя совесть не подсказывает? Почти двадцать лет большевики распинают Россию, давят казачество, поразорили наши станицы, загнали донских казаков к черту на кулички, а ты, хорунжий, всевеликого Войска Донского, которого трижды проклятые большевики лишили родины, превратили в бесправного, беспаспортного бродягу батрака, еще спрашиваешь, чего тебе надо делать? Стыдись, Максим! Я не узнаю тебя.
Досадливо махнув рукой, Максим оборвал раздраженного Крайнова:
– Погоди! Не шебурши! Ты мне все лицо слюной обрызгал. Выпей вина и скажи толком: что ты предлагаешь?
– Предложение мое одно: бежать к едреной матери из этого французского рая, подготовить в дорогу харчишек, перейти горы, явиться к Франко и отрапортовать как положено: господин генерал, мы, побежденные красной бандой русские офицеры есаул Крайнов и хорунжий Селищев, прибыли в ваше распоряжение, чтобы сражаться против коммунистов и мстить за поруганную Российскую империю.
Залпом выпив вино, Крайнов продолжал:
– Ты читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба»? Не читал? Жаль. Она у меня есть, возьми почитай. Там прямо сказано, что немецкая армия, как только будет готова к войне, ринется на восток. Немцам нужно, как говорит Гитлер, жизненное пространство. Ну, скажем, отхватят они у нас Украину. Что ж, черт с ней, с Украиной. Зато большевикам будет каюк. Разумеешь? Но мы-то при этом не можем, не имеем права сидеть сложа руки. Так что, друг-полчанин, собирай свои манатки, махнем в Испанию и с помощью генерала Франко будем помалу прибиваться к нашей казачьей земле…
Слушал Максим своего одностаничника, а на душе у него кошки скребли. Он вспомнил все, что было вместе с Крайновым пережито им на чужбине. Крайнов не раз выручал его, помогал, когда, казалось, некуда было податься. Они знали друг друга с детства, росли в одной станице, на одной улице, вместе воевали, вместе оказались за рубежом – и тут, в чужих странах, годами думали о возвращении на родную землю, но только думали по-разному: если Максима никогда не покидало чувство вины перед своим народом, смутное понимание правоты красных, то Гурий Крайнов представлял возвращение в Россию совсем по-другому: «Как только вернемся на Дон, не одна красноголовая сволочь загнется от моей руки…»
– Зря ты стараешься, Гурий, – помолчав, сказал Максим. – Нам с тобой не по дороге. Ты давно знаешь, еще с Польши, чем я дышу. И зараз скажу тебе честно: если я и окажусь в Испании, то совсем не там, где будешь ты.
– А где ж ты окажешься? Скажи! Или, может, это секрет? – с издевкой спросил Крайнов.
Максим пожал плечами:
– Какой там секрет! Я за русский народ. Не за охвостье народа, которое скитается по парижским харчушкам и точит свои гнилые зубы, а за тот народ, наш, настоящий, истинный, который работает в России. Гитлерам и Франкам я не помощник. Я им враг. Теперь тебе все понятно, Гурий? Больше того, признаюсь тебе как земляку: у меня у самого думка есть про Испанию. Только пойду я не под то знамя, куда ты меня тянешь.
Крайнов поднялся, налил полный стакан вина, выпил. Криво, нехорошо усмехаясь, положил руку на плечо Максима.
– Значит, так? Не под то знамя? Под красное пойдешь?.. Большевистское? Ну чего ж, прощевай, земляк. Но… раз мы уж окажемся под разными знаменами и тропки наши скрестятся, пеняй тогда, Максим, на себя. Рука у меня тяжелая, а за Россию, за наш поруганный Дон, я не пожалею ни отца, ни брата.
Он вышел. Максим слушал его медленные шаги по лестнице и с грустью думал, что теперь их дороги разошлись навсегда.
Через несколько дней Гурий Крайнов исчез.
А в конце недели приехал друг Максима, сын мадам Доманж – бывшей княгини Ирины Михайловны Барминой, князь Петр Бармин. По настоянию матери он после классического лицея окончил организованное в Париже русское военное училище. Лекции в этом училище читали генералы-эмигранты, которых не покидала надежда на возвращение в Россию и которые исподволь готовили военные резервы «молодой эмиграции».
Петр Бармин, имея только удостоверение беженца из России, не мог быть зачислен во французскую армию. Полученное в эмигрантском училище звание прапорщика и княжеский титул дали ему, однако, возможность устроиться по вольному найму инструктором дивизиона береговой артиллерии в Шербуре, где он служил уже четвертый год.
Петр Бармин давно нравился Максиму. Тонкий, невысокого роста, голубоглазый, он был похож на мальчишку. Это сходство подчеркивали светлые кудрявые волосы и мягкая улыбка. Был он сдержан, серьезен, много читал. Из России его увезли ребенком, но он все время скучал по родной земле и с холодным презрением относился к политической возне эмигрантских лидеров. Больше того, он готов был взять на себя тяжкую, как он считал, вину всех своих предков перед русским народом, о чем с юношеской непосредственностью говорил Максиму и даже отважился написать об этом письмо в Россию старому слуге отца Северьяну Северьянычу.
В первые же минуты встречи с Максимом Бармин взволнованно спросил:
– Ну, ты уже слышал об испанских делах?
– Не только слышал, но и вынужден был вести об этом не очень приятный разговор с Гурием, – сказал Максим.
– Мне мать сказала, что он уехал. Это правда?
– Он меня звал с собой. Сражаться за Франко.
– Давай-ка завтра утром возьмем спиннинги и сходим на рыбную ловлю, там поговорим, – пристально глянув Максиму в глаза, сказал Бармин. – Разговор у нас будет серьезный.
Весь вечер, сидя на веранде, Максим с Петром слушали мирную болтовню Дельвиллей. Ирина Михайловна вязала мужу шарф, мсье Доманж сосредоточенно, со знанием дела, пил вино. Катюша и ее муж рассказывали о настроении парижан в связи с победой партии Народного фронта, о новом правительстве Леона Блюма, о забастовках.
На рассвете, прихватив рыболовные снасти, Петр Бармин и Максим завели автомобиль мсье Доманжа и поехали к реке. Успели как раз к заре. Над рекой клочками плыл белесый туман. В гуще заречных камышей сонно перекликались утки. Неширокая река разливалась в этих местах несколькими рукавами, образуя озера, и потому со всех сторон тянуло влажной, бодрящей свежестью.
Бармин отвинтил пробку овальной, отделанной кипарисовым деревом фляги, протянул Максиму серебряный дорожный стаканчик.
– Выпей, Максим Мартынович. Вчера Альбер Дельвилль снабдил своим фирменным коньяком. Очень недурной коньяк. Альбер говорит, что его ящиками отправляют в Англию по заказу Черчилля.
Любуясь розовеющим в лучах зари разливом, Петр Бармин медленно сказал:
– Так, говоришь, есаул звал тебя в Испанию? А что бы ты, Максим Мартынович, подумал, если бы я сейчас предложил тебе то же самое, что предлагал Гурий Крайнов?
– Что именно? Я не совсем понимаю, – удивленно сказал Максим. – Гурий настойчиво тащил меня в Испанию, в войска генерала Франко. Ты это мне предлагаешь?
Бармин задумчиво повертел катушку спиннинга.
– Не совсем. В Испанию – да. Только не в войска Франко. Слышал я, что за Пиренеи сейчас ринулись сотни честных людей. Среди них много коммунистов. А идут они туда, чтобы с оружием в руках помочь республиканской армии разбить контрреволюционных мятежников. Люди ведь понимают, что сейчас в Испании будут решаться очень серьезные дела, касающиеся не только испанцев. Раз Гитлер и Муссолини посылают туда своих людей и оружие, значит, там круто заварено. Не так ли? Мы оба с тобой, каждый по-своему, чувствуем вину перед Родиной, перед Советской Россией. И не появилась ли у нас возможность, как говорилось когда-то, смыть эту свою вину кровью?
– Налей-ка мне, Петя, еще стаканчик, – угрюмо сказал Максим. Он выпил коньяк, размял сигарету. Руки его дрожали. – Между нами есть разница, друг мой Петенька, – тихо заговорил Максим. – В годы гражданской войны ты пешком под стол ходил, ни в какой армии не был. Какой же с тебя спрос? За кого ты отвечать должен? За отца? За то, что отец твой, князь Григорий Бармин, у генерала Корнилова служил и расстрелян красными? Так ты за это не ответчик. Какую ж такую вину ты должен смывать кровью? За тобой, Петя, никакой вины нет. Пожелай ты завтра вернуться в Россию, принять советское подданство, тебе слова никто не скажет. У меня же совсем другое дело.
– Какое дело? – горячо возразил Бармин. – Ты что – карателем был? Вешал или расстреливал красных? Или, может, бедняков шомполами порол да избы их поджигал? Ничего ведь этого не было!
– Да, не было, – сказал Максим. – Но я служил в белой армии, у меня офицерское звание. Кто там будет сейчас разбирать – каратель я или не каратель. Вот мне-то и надо, как ты говоришь, вину свою кровью смыть, я уже об этом думал. Да, надо подаваться в Испанию… Ты, Петя, в самую точку попал. На днях попрощаюсь с твоей матерью, с отчимом, скажу им спасибо за то, что приютили меня, и махну через горы, буду воевать против белогвардейской банды Франко. Потом, если жив останусь, попрошу, чтоб разрешили мне вернуться до дому, в Россию, чтобы позволили дочку единственную повидать, прижать к груди мою сиротку Таю… у могилы жены постоять. А там и помирать можно. На своей земле… в России… на Дону…
– Значит, ты, Максим Мартынович, без меня решил идти? – с горечью сказал Бармин. – Хочешь в одиночестве грехи замаливать?
– У тебя, Петя, никаких грехов перед Россией нет. А я считаю, что не только мой долг…
– Подожди! – Бармин взволнованно перебил Максима. – Говоришь, у меня грехов нет? Ты ошибаешься. На мне, князе Петре Бармине, тяжким грузом висят все грехи, все преступления моих предков. Ты вот сказал, что у тебя офицерское звание. Но ты, Максим Мартынович, получил это звание первым в своем казачьем, крестьянском роду. Слышишь? Первым. А до меня, если я не ошибаюсь, было шестьдесят девять офицеров, генералов, сенаторов, тайных советников, тысяцких, министров, губернаторов, царских воевод, и все это были князья Бармины. Они владели десятками тысяч десятин земли, повелевали жизнью и смертью своих бесправных холопов, пороли крепостных, пользовались гнусным правом первой ночи, насилуя крестьянок-невест. Кровью, пожарами, расстрелами они подавляли восстания крестьян и твоих предков-казаков. Это ли не преступление? Это ли не самая тяжкая вина? Все это давит на мою совесть, гнетет меня, не дает мне покоя. И если я хочу увидеть Родину – а это самое заветное мое желание, – я должен вернуться туда очищенным от всей этой тысячелетней скверны. Понимаешь? От всей скверны…
– Понимаю, – глухо сказал Максим. Он обнял Бармина и добавил, вздохнув: – Что ж, Петя, раз так, значит, дорога у нас одна…
2
В то лето в Испанию вели многие дороги. И тайно и явно шли по ним разные люди; одни – большей частью коммунисты – пробирались к испанским границам, чтобы вступить в ряды республиканской армии и помочь законному правительству отстоять завоевания трудового народа; другие, оснащенные новейшим оружием Гитлера и Муссолини, – чтобы поддержать мятежного генерала Франсиско Франко, навсегда уничтожить в Испании республиканский строй и установить генеральскую диктатуру.
К числу последних принадлежал штурмбаннфюрер СС Конрад Риге. Еще со времен неудавшегося мюнхенского путча в 1923 году, когда Адольф Гитлер на короткий срок был водворен в тюрьму, Конрад Риге познакомился с одним из единомышленников Гитлера – недоучившимся агрономом Генрихом Гиммлером. С тех пор много воды утекло. Сын захудалого школьного инспектора, любитель птицеводства, Генрих Гиммлер в 1925 году стал организатором охранных отрядов СС, потом, когда национал-социалисты пришли к власти, – мюнхенским полицейпрезидентом, главой прусской полиции, и, наконец, рейхсфюрером СС, всесильным полицейским диктатором нацистской Германии. Лицо этого маленького близорукого человека знали все: тусклые, свинцового оттенка глаза за сверкающими стеклами пенсне, бледные, одутловатые щеки, злой, плотно сжатый рот, над которым темнели жесткие, «а-ля фюрер», усы.
Холодный, не знающий страха штурмбаннфюрер Конрад Риге, пожалуй, больше других знал, сколько человеческих жизней оборвано всякими способами по приказу «верного Генриха», как называл своего сподвижника фюрер. Гиммлер все больше приближал к себе Конрада Риге, много раз давал ему самые щекотливые, скользкие поручения, и Риге выполнял их беспрекословно. По приказу своего шефа он ездил в Австрию, Чехословакию, Польшу, Италию. Там связывался с нужными людьми, делал все то, что до поры до времени оставалось глубокой тайной, а потом заканчивалось убийствами неугодных Гитлеру политических деятелей, шантажом, провокациями, путчами, подкупами министров, парламентариев, журналистов…
Когда рейхсфюрер Гиммлер вызвал к себе Конрада Риге, тот нисколько не удивился. Больше того, он был убежден, что шеф заведет разговор об испанских делах, ведь к этим делам сейчас были прикованы взгляды всего мира. Риге не ошибся. Небрежным кивком Гиммлер указал ему на кресло рядом, заговорил, пристально всматриваясь в желтоватое лицо штурмбаннфюрера:
– Думаю, что вы, Риге, в курсе того, что происходит в Испании. Не так ли?
– Мне это известно, господин рейхсфюрер, – почтительно ответил Риге. – Известно также и наше отношение к этим событиям.
– Отлично, – сказал Гиммлер. – Вам придется отправиться туда. Будете выполнять обязанности советника по организации контрразведки в войсках генерала Франко. Имя при этом менять не стоит. Мы не скрываем своей помощи франкистам. Фюрер приказал направить в Испанию эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, а также большую группу танков с экипажами. – Гиммлер улыбнулся. – Так что вам, Риге, скучно не будет. Кроме того, что вы будете обязаны организовать контрразведку для Франко, у вас будет вторая, не менее важная задача.
Рейхсфюрер снял пенсне, стал сосредоточенно протирать стекла кусочком белоснежной замши. Глаза его стали странными: круглыми, как две пуговицы.
– Республиканцы после чистки армии и жандармерии все же оставили многих генералов и офицеров на службе. Среди них немало монархистов и приверженцев Муссолини, – сказал Гиммлер. – Через избранных вами лиц с ними следует наладить связь. Пусть они остаются в республиканской армии, но выполняют то, что мы им прикажем. Вам понятно, Риге?
– Да, господин рейхсфюрер, – сказал Риге, склонив голову.
– Это еще не все… – Гиммлер поднялся, медленно зашагал по кабинету. Тотчас вскочил и штурмбаннфюрер. – Сидите, Риге, – сказал Гиммлер. – Вам известно, что такое ПОУМ? [1]1
ПОУМ – так называемая «Рабочая партия марксистского объединения». Возглавлялась троцкистами.
[Закрыть]
– Если я не ошибаюсь, это группа испанских приверженцев высланного из Советского Союза Льва Троцкого, господин рейхсфюрер, – ответил Риге. Несмотря на разрешение, он продолжал стоять, внимательно следя за шефом.
– А политическая позиция этой группы вам знакома? – спросил Гиммлер. – Я имею в виду ее позицию в той ситуации, которая сложилась в Испании в связи с выступлением генерала Франко.
– Судя по тем сведениям, которыми я располагаю, испанские троцкисты декларируют свою верность республике и готовы сражаться против Франко, – сказал Риге. – Тем не менее они не прекращают борьбы против коммунистов, которых возглавляют Хосе Диас и Долорес Ибаррури. Видимо, господин рейхсфюрер, их разногласия мы должны использовать.
Гиммлер остановился, положил руку на плечо Риге.
– Вы заметно растете, штурмбаннфюрер, – улыбаясь, сказал он. – Испанскую группу ПОУМ надо не выпускать из поля зрения. Она будет нам полезна. Ее лидер Андрес Нин – один из ближайших друзей Троцкого. Разногласия Андреса Нина с испанскими коммунистами все больше углубляются. Учтите это. Установите с троцкистами дружеские отношения, но без всякой рекламы. Среди них вы найдете готовых на все людей, которые по нашему сигналу смогут вонзить нож в спину республики. Это ваша третья задача, Риге. Надеюсь, вы все уяснили?








