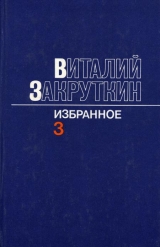
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
Временное жилье Ивану Захаровичу отвели в деревянном домике станичной библиотеки.
– Вы уж сразу ставьте и вторую койку, – сказал Иван Захарович, – получена телеграмма от главного агронома, послезавтра он приедет. А весной мы построим дома для совхозных специалистов, тогда освободим ваш культурный очаг…
Андрею директор сказал:
– Вот прибудет главный агроном – и тебе, дорогой садовод, станет легче.
– А что он за человек? – спросил Андрей. – Ты его знаешь?
– Как самого себя, – сказал Ермолаев. – Мужик образованный… Любена Георгиевича Младенова знают по всему Южному берегу Крыма. Он сам вообще из болгар. Из тех, что бежали в Россию от турецкой резни. Таким был прадед Младенова, а уже дед его и отец родились у нас. Между прочим, отец нашего главного агронома Георгий Младенов был большевиком. Его повесили врангелевцы.
В Дятловскую Любен Младенов приехал без семьи. Ставров и Ермолаев встречали его на пристани.
Когда он по сходням катера спустился на берег вместе с другими приезжими, Андрей сразу его узнал по описанию Ермолаева. Был он коренаст, кругл лицом, чернобров. В отличие от директора Любен Георгиевич оказался молчаливым, даже, как показалось Андрею, несколько замкнутым человеком. И говорил он мало, и улыбался редко и скупо, но, когда начал расспрашивать Ивана Захаровича о новом совхозе, о его землях и планах, сразу стало понятно, что главный агроном отлично знает свое дело и что с ним работать будет легко. Приехал он с одним тощим чемоданом и поселился вместе с Ермолаевым в библиотечной комнатушке.
– Ничего, Любен, до весны потерпим, а там и жен своих с детишками привезем, – утешил его Иван Захарович.
Дни шли своим чередом, и, когда над станицей замелькали первые снежинки, в доме, который занимало бывшее колхозное правление, уже разместилась контора нового совхоза. Казалось, в Дятловской продолжалась привычная жизнь: доярки, птичницы, телятницы, свинарки, конюхи, как и прежде, с утра шли на свои фермы; в комнате бухгалтерии пощелкивали костяшки счетов. Однако дятловцы удивлялись тому, что им стали выписывать денежную зарплату, что предложили вступить в профсоюз, что стали называть рабочими.
Ермолаев с Младеновым решили приступить к раскорчевке леса и подготовке плантажа весной, а саженцы фруктовых деревьев высаживать следующей осенью. Андрею Ставрову вменили в обязанность обдумать и точно определить сортимент яблок, груш, слив, черешни, вишен, абрикосов, которые наиболее подходили бы к почвам и климату Придонья. Подолгу вечерами просиживал он над книгами.
В конце ноября Андрей получил от Ели долгожданную телеграмму, в которой было написано, что она соскучилась, решила хоть несколько дней пробыть у него в совхозе и посмотреть, как он живет. Дон в эту пору уже стал, по льду реки ходили люди, но перед самым приездом Ели наступила оттепель, снег подтаивал, на проложенных станичниками и обозначенных вешками ледяных тропинках заблестели лужи.
Андрей рассчитал, что Еля должна быть на левом берегу Дона в воскресенье после полудня. Накануне он попросил Федосью Филипповну приготовить обед повкуснее, с помощью Наташи убрал свою тесную комнатенку, помыл голову. Утром проснулся пораньше, побрился и загодя пошел к Дону.
День был пасмурный, сырой. С неба лениво опускалась на лед реки холодная кисея, и нельзя было понять, дождь это или снег. В прибрежном лесу надсадно каркали вороны. С резиновыми сапогами под мышкой – он взял их для Ели у Егора Ивановича – Андрей шагал по песчаному берегу, радовался предстоящей встрече с женой, и настроение у него было праздничное.
Услышав конское фырканье, Андрей бросился по лесной дороге навстречу и тотчас же увидел Елю. Она сидела в санях-розвальнях, вытянув ноги в расшитых узорочьем меховых сапожках, одетая в синий плащ с капюшоном, наброшенный поверх теплого пальто. Когда кучер остановил взмыленных лошадей, Еля отряхнулась от соломы и, улыбаясь ярко накрашенным ртом, сказала:
– Ну, здравствуй, милый муж! Ты доволен моим приездом?
Андрей кинулся к ней. Она звонко смеялась, пряча губы от его поцелуев и подставляя то одну, то другую влажную щеку.
– Хватит, сумасшедший, – отрывисто прошептала Еля, сжимая руку Андрея. – Человек вон смотрит!
Заплатив на радостях флегматичному кучеру сверх всякой меры, Андрей взял из саней два тяжелых чемодана.
– Пойдем, Елка! – ошалев от восторга, закричал он. – Сейчас с тобой будем переплывать Дон, только сначала сними свои унты, надевай резиновые сапоги, а то промочишь ноги.
Сапоги были мужские, тяжелые. Еля остановилась, насмешливо посмотрела на мужа.
– Изящные сапожки! Я же в них на чучело буду похожа. Увидят люди и скажут: ну и жена у агронома!
– Тут балов и званых вечеров нет. И по Дону – не по паркету идти, лед мокрый. Так что давай ногу!
Она засмеялась, сказала с шутливым упреком:
– Ты как с лошадью со мной обращаешься.
Андрей снял с нее меховой сапог и поцеловал обтянутое тонким чулком полное колено. Она легонько ударила его перчаткой по щеке.
– Пошли, звереныш, еще успеешь…
Дон переходили осторожно. Андрей шел впереди с чемоданами, Еля сзади, всматриваясь в темные крыши станичных домов под хмурым небом, в покосившиеся плетни, в кривые, протоптанные скотом тропы на крутом берегу. Оглядываясь, Андрей заметил, что улыбка у Ели исчезла, а лицо стало грустным. Когда шли по улице, Еля с трудом вытаскивала ноги из грязи.
– А вот весной, – торопился утешить Андрей, – весной, говорят, тут красиво: улицы чистые, зелени много…
– Да, я понимаю, – сказала Еля, опуская глаза.
По дороге она рассказала Андрею, что ее отцу и матери удалось переехать на Дон, что они получили хорошую квартиру в центре города.
– Папа сразу же пошел работать на машиностроительный завод, – сказала Еля, – а мы с мамой привели квартиру в порядок и живем все вместе. Так что ты обо мне с Димкой не волнуйся…
Федосья Филипповна встретила жену своего квартиранта ласково, помогла ей раздеться, поставила на табурет миску с теплой водой, подала чистое полотенце и смущенно приговаривала, как будто в чем-то была виноватой:
– Вы уж не обижайтесь, пожалуйста, у нас все по-простому, по-деревенски. Андрей Митрич вроде привык, а вы, я не знаю, как вам у нас покажется.
– Ради бога, не беспокойтесь, хозяюшка, – сказала Еля. – Поверьте, у вас очень хорошо, а потом, я ведь приехала ненадолго, всего на два дня…
В отличие от матери Наташа при появлении Ели сразу забилась в угол, за печку, и, бесцельно положив на колени какую-то книжку, следила за гостьей с явной неприязнью. Это вначале удивило Андрея, но потом он перестал обращать внимание на девчонку.
Расчесывая волосы и поглядывая в подслеповатое зеркало на стене, Еля рассказывала:
– Ты не представляешь, какой Димка стал потешный. Дед учит его правильно выговаривать «эр», так он целыми днями ходит и трещит, как трещотка: рр-ррр! И сам страшно доволен, что у него удачно получается. О тебе часто спрашивает, все допытывается, где наш папка. Два раза ангиной болел, но бабушка его быстро вылечила.
Когда стали садиться за стол, Наташа вдруг выскочила из своего закутка, набросила на плечи платок и убежала, крикнув матери:
– Я есть не хочу!..
– Что это с ней сегодня? – спросил Андрей.
Федосья Филипповна махнула рукой:
– Бог ее знает! До девчат, должно, подалась. Нехай идет, после пообедает.
За обедом Андрей рассказывал о совхозе, хвалил Ермолаева и Младенова, Федосья Филипповна непрерывно подкладывала Еле то обжаренное крылышко курицы, то соленый огурчик и, стоя сбоку и сложив руки на животе, застенчиво упрашивала:
– Кушайте, пожалуйста, не требуйте нашим обедом, а ежели чего не так, извиняйте.
Андрей глаз не спускал с Ели, любовался ею и думал о том, какое ему выпало в жизни счастье. «И в самом деле, чего еще человеку нужно? – думал он. – Вот рядом со мной сидит она, моя красивая Елка, моя жена, вместе с которой уже много пройдено и еще больше доведется пройти. Что с того, что у нее есть свой характер, свои капризы? Пусть эти капризы, и ее избалованность, и кокетство мне не нравятся, но они не приносят вреда никому. У нас с ней сын, которого мы любим. Подрастет он немного, станет чуточку разбираться в жизни, и мы начнем с ним по-своему перевоспитывать нашу королеву, и она станет другой…»
После обеда Андрей показывал Еле станицу. Они ходили по улицам, потом вышли на заснеженный луг, осмотрели коровник и конюшню.
– Помнишь, как я тебя учил верхом ездить? – спросил Андрей.
– Помню, я очень боялась тогда.
– Боялась ты зря. Я оседлал для тебя самую спокойную лошадь.
– Да, я помню, она была очень спокойная и славная, но я все-таки боялась. А ты еще всякие штучки тогда выкидывал, через поваленные деревья на лошади прыгал.
Андрей засмеялся, сказал грубовато:
– Это я перед тобой выкобенивался, понравиться тебе хотел.
– Давно это было, лет десять, пожалуй, прошло.
– Да, около десяти…
Сжав Елину руку выше локтя, Андрей добавил:
– Но я люблю тебя, Елка, по-прежнему, как тогда.
– Это когда ты в знак своей любви резал себе руку ржавым ножом? – сказала Еля. – Помнишь, там, в лесу? Боже, какой ты был дикарь!
Так они ходили по станичным улицам, вспоминали прошлое, и эти воспоминания пробуждали в них грустную нежность, влекли друг к другу, как всегда бывает после разлуки. Стоявшие у калиток дятловцы, мужчины и женщины, здоровались с Андреем, а Елю провожали любопытными взглядами.
Уже вечерело, когда Андрей довел Елю до Матвеева кургана и показал с его вершины темный, безжизненный лес.
– Это все будем корчевать, – задумчиво сказал он. – А потом посадим сад. Лет через пять никто не узнает этих гиблых мест. Зацветут здесь молодые яблони, груши, вишни. Деревья высадим ровными, как струна, рядами, стволы их всегда будут чистыми, побеленными. В саду поставим пасеку, зажужжат тут пчелы, будут летать в океане белых цветов. Потом нальются соком плоды…
Еля с улыбкой смотрела на мужа.
– Ты что, поэму мне читаешь?
– Почему поэму? Так будет, – сказал Андрей.
Когда возвращались домой, Еля неожиданно спросила:
– Скажи, тебе очень нравится твоя Дятловская?
– Пока не очень, – помедлив, сказал Андрей, – а придет время, она станет другой. Тогда, наверное, понравится.
– И долго ты думаешь тут жить?
– Странный вопрос. – Андрей пожал плечами. – Сколько понадобится, столько и буду жить. Здесь меня ждет большая, трудная работа. Ты знаешь, как я люблю землю. Я ведь вырос на земле, в деревне. Помнишь Огнищанку? Она до сих пор мне снится. Ты вот сказала, что я поэму тебе читаю, а я-то, дорогая Елочка, уже сейчас вижу этот несуществующий сад. Понимаешь? Вижу!
– Я понимаю, – печально сказала Еля. – Но мне почему-то приходит на память этакая поговорка: пока взойдет солнце, роса очи выест…
Домой они возвращались молча. У калитки Андрей остановил Елю, обнял ее и заговорил тихо:
– Я знал, что тебе здесь не понравится. Это не город. Тут, в Дятловской, нет электричества, нет театров, асфальтированных улиц, телефонов, нет того, к чему ты привыкла. Но что прикажешь делать, Еля? Я избрал себе профессию агронома, а что ж за агроном без земли? Придется тебе мириться с жизнью в деревне, ничего не поделаешь. И потом, не всегда же мы будем сидеть тут при керосиновой лампе и ходить по колено в грязи…
– Пойдем, Андрей, я устала и хочу спать, – сказала Еля. – Извини меня, но, честное слово, дорога такая трудная. Хорошо, что я Димку с собой не взяла.
Еля уклонялась от разговора. Она понимала, что Андрей сейчас спросит ее о том, когда она думает переезжать в Дятловскую. Между тем жизнь в деревне страшила ее. Несколько лет, прожитых Елей в Пустополье, вспоминались ею как кошмар. Спасаясь от голодной смерти, Платон Иванович и Марфа Васильевна вынуждены были бежать тогда из города в деревню. Это был тысяча девятьсот двадцать первый год. Еле было десять лет. Невылазная грязь… Чадные огоньки свернутых в жгут тряпиц, которые мать опускала в жир, вытопленный из убитых собак и кошек… Твердые, как камень, лепешки с лебедой и опилками… Похожие на мертвецов, худые, озлобленные люди… Толпы нищих, истошный вой женщин, плач осиротевших детей – все это вспомнилось Еле сейчас, и все это она представляла как всегдашнюю жизнь деревни, изменить которую не в силах ничто. И вот теперь, когда этот кошмар стал, к счастью, далеким прошлым, Андрей хочет заставить ее и сына жить в деревне. Он, конечно, будет упрекать ее. Но заслуживает ли она упреков? Разве виновата она в том, что родилась и росла в большом городе? И разве такое уж тяжкое преступление любить театр, музыку, чисто подметенные улицы, парки, фонтаны, цветники, вечерние огни реклам? Разве плохо будет, если их сын, их Димка, будет учиться не в захудалой станичной школе, где, кроме пары колб, наверное, ничего нет, а в школе, где есть кабинеты, лаборатории, спортивные залы? И что же дурного в том, что он вместо пустых развлечений на деревенской улице станет посещать выставки живописи, слушать концерты в филармонии, бывать на литературных вечерах? Почему же этого всего не хочет понять Андрей? Почему он хочет подчинить жизнь жены и сына своему капризу? При желании он мог бы устроиться гораздо лучше, и они жили бы хорошо, дружной семьей, и ничто не омрачало бы их жизни… Сейчас отец с матерью получили просторную квартиру в городе, места в ней хватит на всех. Зачем же забиваться в эту глухую дыру, где только ветер, темень и грязь? Зачем сознательно губить себя?
Так думала Еля, стоя с Андреем у калитки Татариновых. Она ничего не сказала мужу, но он чувствовал ее настроение и по напряженному молчанию понимал, о чем она думает и что пока скрывает от него.
В темноте сеял мелкий, холодный дождь-. Шумели невидимые деревья. Тускло светился огонек керосиновой лампы в подслеповатом оконце Федосьи Филипповны.
– Пойдем, Елка, – сказал Андрей, – ты в самом деле устала. Сейчас поужинаем и ляжем спать.
Сняв перчатку, Еля на мгновение коснулась теплой ладонью его лица.
– Не сердись, пожалуйста… меня совсем разморило… Ты брился утром? Да? А уже стал колючий. Помнишь, как маленький Димка говорил? Ко-лю-кайка…
Она шептала бессвязные слова, знала, что в ответ на ласку он зацелует ее, слегка отвернулась, подставляя по привычке щеку, и он стал ее целовать, задыхаясь и радуясь тому, что она снова рядом, и он любит ее, и ничто в жизни их не разлучит.
– Пойдем, Рыжик, – прошептала Еля.
Федосья Филипповна ждала их. Жарко горела печь. У накрытого клеенкой стола сидела Наташа, старательно переписывая что-то из книги в тетрадь, но, как только вошли Еля с Андреем, она быстро глянула на них исподлобья, вскочила и, ни слова не говоря, порывисто взмахнув косичками, убежала в свою комнатушку. Федосья Филипповна убрала со стола Наташины книги.
– Садитесь, кушайте, – сказала она, кланяясь. – Я пышек напекла. А на окошке вон кувшин с молоком…
Поужинали быстро. Андрей думал, что Еля, которая только недавно говорила об усталости, сразу ляжет спать, но она попросила Федосью Филипповну зажечь старую лампу, ушла в комнату Андрея, открыла чемоданы, застелила матрац привезенной накрахмаленной простыней, сменила наволочку, надела пододеяльник.
– Чистое белье я положу в шкафчик, – сказала она Андрею, – тут три пары. Грязное посылай мне, я буду отдавать в прачечную, потому что ваша деревенская стирка все превратит в тряпку.
Еля постояла у открытого чемодана, сказала с горькой улыбкой:
– Дура я все-таки… Набрала вот с собой платьев, сама не знаю для чего. Куда их тут надевать?
…Еля пробыла в Дятловской три дня. Когда Андрей уходил на работу, она сидела с Федосьей Филипповной, читала или уходила на берег Дона, а вечером подолгу гуляла с мужем.
Андрей провожал Елю через Дон. Ночью выпал снег, он расстилался на ледяной реке ровной белой пеленой. Вот и берег… Ветви деревьев под тяжестью снежных хлопьев клонились к земле. Запряженные в легкие сани лошади нетерпеливо пофыркивали.
Андрей обнял жену.
– До свиданья, Елка, – вполголоса, чтоб не слышал кучер, сказал он. – Спасибо, что приехала. Когда же теперь тебя ждать?..
– Не знаю, – так же тихо сказала Еля, – наверное, попозже, весной. Ты же видишь, какая дорога…
– Да, конечно, – сказал Андрей. – Поцелуй Димку, передавай привет старикам и, очень прошу тебя, пиши почаще…
Он долго еще стоял на берегу, грустно вслушиваясь в удаляющийся скрип полозьев.
5
Затерянная среди холмов неприметная деревушка Огнищанка жила как всегда. Колхозники давно убрали скудный в то лето урожай, вспахали зябь, посеяли озимую пшеницу. Снега выпали рано, вскоре ударили морозы, голые деревья покрылись инеем. Деревня словно вымерла. Только по утрам да перед вечером у единственного огнищанского колодца можно было видеть нескольких мужиков, которые поили сгорбленных от холода коров, а потом засыпанная снегом деревенская улица пустела, слышался только тоскливый лай собак.
Тоскливо было и в стоявшей на отшибе амбулатории, при которой жили Дмитрий Данилович и Настасья Мартыновна Ставровы. Все их дети разъехались, и они, привыкшие к большой, шумной семье, скучали. Общительными и разговорчивыми старшие Ставровы не были никогда, может только в первые годы их супружеской жизни, но, пока дети жили с ними, дом всегда был заполнен гомоном, смехом, разговорами. А сейчас в двух малых комнатушках целыми днями царствовала тишина.
После приема больных Дмитрий Данилович, поужинав, усаживался за свои медицинские справочники. Настасья Мартыновна, присев поближе к лампе, чинила белье и вязала носки. Лишь изредка пыталась она заговорить с мужем, но отвечал он неохотно, односложно, и Настасья Мартыновна, вздохнув, умолкала.
Дмитрия Даниловича печалило не только отсутствие детей. После возвращения в Огнищанку он долго бродил по двору, вспоминал все, чего лишился здесь в связи с отъездом на Дальний Восток. Кроме коней и коров, это и посаженные им деревья, и плуги, бороны, и каждый, даже самый незначительный предмет, добытый трудом его семьи. Ничего этого не осталось в опустевшем дворе амбулатории. Двор теперь был отделен кривым плетнем от принадлежавших когда-то немцу помещику Францу Рауху полуразрушенных коровников и конюшен, куда огнищанские колхозники еще в тридцатом году водворили обобществленный скот, но за шесть лет так и не удосужились отремонтировать коровники.
Больше всего Дмитрий Данилович жалел коней, которых, как ему рассказал об этом Аким Турчак, загнали до смерти в первую же колхозную зиму.
– Ты же, товарищ фершал, знаешь наших огнищан, – сказал Аким, – свою-то скотину они соблюдали, берегли ее да подкармливали. Как поставили мы коней в общие конюшни, сразу свары пошли, один свою кобыленку до работы не пущает, другой – свою. Кажен надеялся, что колхозы – дело временное, что вскорости все обратно по-старому пойдет. А тут еще статьи в газетах пропечатали про головокружение да перегибы. Ну, паши и порешили, что крестьянство опять на единоличное хозяйство повернут. А поскольку тебя, фершал, тут не было, то твоих коней отразу заездили, они за всех отдувались. Да еще дурачка этого Капитона Тютина за кучера поставили. Поначалу он запалил твоих лошадок, а потом вовсе загнал, и они аккурат под рождество подохли…
Дмитрий Данилович хмурился, но ничего не говорил, чтобы, чего доброго, его не сочли противником колхозного строя. Нет, он хорошо понимал, что колхозы необходимы, что без них социализма не построишь, но в то же время ему многое не нравилось. Он видел, что огнищане работают не в полную силу. Его не удивляло, что исконные лодыри вроде придурковатого Тютина бездельничают по целым дням, но он удивлялся тому, что даже такие рачительные хозяева, как братья Кущины, больше делают вид, что выполняют положенную работу, и как будто не замечают невылазной грязи в колхозных коровниках, раздерганных скирд соломы, раскиданных по всему двору ржавых плугов.
Как-то он заговорил об этом с Ильей Длугачом. Тот почесал затылок, опустил голову.
– Это вопрос сурьезный, дорогой товарищ фершал, – сказал Длугач, – на него враз не ответишь. Артельно еще никто на свете не хозяйновал. По бумагам да по планам мы вроде все разумеем, а как до дела доходит, у нас препон всяких хоть отбавляй, и тут мы разные тропки шукаем, чтобы на дорогу побыстрее выйти. Мне, к примеру, думается, что главное в том, чтобы в общей работе каждый отдельный человек не потерялся, чтобы труд его как на ладони виден был и чтобы он получил за свой труд по закону: больше потрудился – больше и получай. А то Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана. Так, брат ты мой, и выходит, что один хоронится за всех. Ну да мы эту уравниловку сничтожим и на широкую дорогу выйдем, можешь не сумлеваться.
Не раз беседовал Дмитрий Данилович с соседями, пытаясь узнать, что они думают о колхозе. Почти все жаловались на то, что работать приходится много, а никто не знает, сколько он получит за свою работу, что учетчики не могут концы с концами свести, что не хватает машин, а коней да волов довели до ручки…
В воскресное предвечерье Дмитрий Данилович надел полушубок, сунул в карман жестяную коробку с махоркой, коротко буркнул:
– Пойду я, Настя, поброжу…
Заложив руки за спину, он медленно поднялся на вершину холма, не видя того, что Настасья Мартыновна сидит у окна, смотрит ему вслед и что слезы ручьем текут по ее худым щекам. «Укатали сивку крутые горки, – шептала она, глядя на согбенную спину удаляющегося мужа. – Тоскует он по детям, только виду не показывает, чтоб меня не расстроить, а по ночам не спит, ворочается да вздыхает…»
Сам не зная как, Дмитрий Данилович оказался у подножия неглубокой балки, той самой, которая пятнадцать лет назад была его первым огнищанским полем. Сейчас в балке лежали сугробы снега. У дороги сиротливо темнел брошенный кем-то тракторный плуг. На опушке леса, умащиваясь на отдых, каркали вороны.
Дмитрий Данилович достал жестянку с махоркой, свернул козью ножку, закурил. Хмуря темные брови, он смотрел на заснеженную балку, на покинутый плуг, вслушивался в карканье ворон и думал: «Сколько сил я отдал этому трудному полю! Ночей недосыпал, коней до упаду гонял, детей мучил непосильной работой. А для чего? Чтобы только выжить, чтобы с голоду не подохнуть. Зато и пшеница была в этой балке чистая, как ковер, ни одного бурьянка в ней не было, все сорняки выпалывались руками детей. А теперь? Вон какой-то разгильдяй плуг в поле бросил – и будут ржаветь его лемехи, и никому до этого дела нет. Вон на краю поля, должно быть еще с осени, кучи наволочи чернеют, и никто не удосужился сжечь ее, чтоб не разводить сорняков и не пригревать полевых мышей. В озимой пшенице полна репьев и осота, вон они выше сугробов верхушки повыставили».
Сплевывая горькую слюну, он шептал со злостью:
– Колхознички… Работники, черт бы вас побрал…
Сам удивляясь своим мыслям, он вдруг подумал: «Что сейчас получилось? Одинокие старики вроде тетки Лукии бедуют в колхозе так же, как раньше бедовали, потому что по своим силенкам не может Лукия сравниться с молодыми париями и, значит, получает с гулькин нос. Видно, спокон веков мужик с корнями врос в свой клочок земли, привык к выращенной им скотине, к своему плужку, к лукошку, из которого его деды и прадеды горстями сеяли зерно. Потому, видно, и наплевать ему на то, что не сожжена на меже вредная наволочь, что на поле полно сорняков, а плуг вот ржавеет под снегом…»
Так думал Дмитрий Данилович в это зимнее предвечерье – он проклинал нерадивого огнищанина и за наволочь, и за сорняки, и за покинутый в поле плуг.
«Сволочь, ну и сволочь, ты же себя и людей обкрадываешь! И вообще, знаешь ли ты, что такое социализм? Не знаешь? И я вот… не знаю. И получится ли то, что задумано коммунистами, если половина примерно народа – рабочий класс – будет социализм строить, а другая половина – крестьянство – только о своих закромах думать, на своих клочках земли трудиться. Разве ж может жить распиленное пополам дерево?..»
Где-то в глубинах сознания у Дмитрия Даниловича гнездилась мысль о том, что нелегкое прощание крестьянства с прошлым и слияние их земельных наделов, скота и плугов в общие хозяйства неизбежны, неотвратимы и что партия коммунистов не стала бы вредить своему делу и самой себе, объявив, что коллективизация и есть та единственная дорога, по которой надо идти. Дмитрий Данилович видел, что даже в отстающем огнищанском колхозе все поля вспаханы тракторами, засеяны тракторными сеялками, что пришла пора, когда хлеборобу-единоличнику, будь он хоть семи пядей во лбу, уже нельзя состязаться с силой мощной машины, которая заменит и быка, и коня, и сотни человеческих рук.
И все же глухие сомнения не давали Дмитрию Даниловичу покоя. Те неполадки, которые он видел в колхозе – неряшливо вспаханные, заросшие сорняками поля, худые, нечищеные коровы и телята, раскиданная по всему колхозному двору, затоптанная грязью солома, задубевшая, не видевшая дегтя конская упряжь – все это раздражало его…
Возвращаясь с поля, он решил зайти к Илье Длугачу и застал у него председателя колхоза Демида Плахотина. Оба они сидели у стола. На столе стояла начатая бутылка водки, горкой высилось крупно нарезанное сало.
– Прошу, прошу к нашему шалашу, – обрадовался Длугач, увидев Дмитрия Даниловича. – А мы вот с Демидом воскресный день провожаем. Так что садись, товарищ фершал, не побрезгуй нашей компанией.
Дмитрий Данилович присел к столу, выпил полстакана водки. Помолчав, он рассказал обо всем, что видел в балке, потом спросил, хмуро усмехаясь:
– Чего ж вы думаете делать, два председателя? Или вы не замечаете, что поля единоличников обрабатывались лучше, чем обрабатывает их колхоз? Ведь глядеть на эти колхозные поля совестно!
Длугач молча повертел в руках пустой стакан. Демид Плахотин достал папиросу, не зажигая, размял ее обкуренными пальцами.
– Видишь ли, Данилыч, – сказал он, – все эти недочеты мы знаем. Может, и не все, но знаем, они нам ведомы. Ты, конечное дело, задаешь законный вопрос: почему же, дескать, организованный Советской властью колхоз трудится так себе, тяп-ляп, а поля в этом самом колхозе хуже, пендели у доколхозных огнищан были? Да допрежь всего потому, милый ты мой фершал, что из темной мужицкой головы не дюже легко старую дурь вытравить. Наш мужик, он до своего поля веками был припаян. Вот на колхозном-то поле он и трудится ни шатко ни валко, абы день до вечера, потому что одна думка его терзает: на кой, мол, хрен я буду жилы из себя вытягивать, ежели хлебец не в мой закром засыпают, а в общий амбар? Терзается он так, дурошлеп, а того не понимает, что труд его не только для всех предназначен, но и для него самого…
Хмурый, обозленный Длугач разлил по стаканам водку.
– То, чего тебе объяснил председатель колхоза, еще не все, товарищ Ставров, – сказал он и звякнул стаканом о стакан Дмитрия Даниловича. – Тут надо взять во внимание и кулацкую агитацию, которая сбивала мужика с толку, и то, что трактористов у нас кот наплакал, а те, что есть, подготовлены плохо, какие-то краткосрочные курсы покончали. – Он залпом выпил водку, кривясь закусил соленым огурцом и похлопал по плечу Плахотина: – Окромя того, Демид, надо признать, что самого главного ты Данилычу не разъяснил.
– Чего это? – спросил захмелевший Плахотин.
– Того, что мы с тобой довольно-таки хреновые руководители, в трех соснах плутаем, – жестко сказал Длугач. – Оправдание у нас, конечно, есть: мы, дескать, люди малограмотные, институтов не кончали. Только это не дюже веское оправдание. Допрежь всего мы коммунисты. Так, что ли? А, Демид?
– Ну и чего? – вызывающе спросил Плахотин.
– А того. Когда государство объявило колхозную торговлю хлебом, ты, председатель колхоза, правильно действовал? Нет, товарищ Плахотин, очень даже неправильно. Собранное зерно ты в амбарах придерживал, хлебозаготовку выполнять не спешил, чтобы зернецо потом на элеватор сдать по рыночной цене. Было это? Было. А я, гад, как оппортунист, сквозь пальцы на это глядел. И колхозников ты разбаловал так, что чуть ли не все они стали только себе требовать, а отдачи ихней не видно было.
Возмущенный Плахотин вскочил, ударил ладонью по столу.
– Погоди! – хрипло закричал он. – Ты чего ж это? Вредителя из меня делаешь или как?
– Сядь, не мельтеши перед глазами, – спокойно сказал Длугач. – Товарищ фершал правду говорит, а мы плохие коммунисты, ежели от этой истинной правды морду воротим. Неполадок в колхозе хоть отбавляй. Спасибо человеку надо сказать за то, что он глаза нам на эти неполадки открывает. Чего ж ты, спрашивается, в бутылку лезешь? Или обидно тебе стало? – Длугач повернулся к Дмитрию Даниловичу: – А ты, товарищ фершал, действуй. Не бойся ничего. Подметил в хозяйстве какую-либо прореху – отразу выставляй ее на свет божий, критикуй кажного дурака, кажного лодыря или врага. А мы на них управу найдем.
Он поднялся, подошел к сколоченной из нестроганых досок низкой этажерке, выбрал среди аккуратно расставленных книг зачитанную, потертую по краям брошюру и протянул Дмитрию Даниловичу.
– Возьми, фершал, – сказал он, – читай и, как говорится, мотай на ус. Тут напечатаны две речи товарища Сталина. Одна называется «О работе в деревне», а другая – речь на съезде колхозников. Когда прочитаешь, отдай эту книжечку председателю колхоза, нехай просвещается, ему это не помешает…
– Спасибо, Илья Михайлович, – сказал Ставров. – Обе эти речи я читал, но надо перечитать еще раз…
Илья Длугач давно нравился Дмитрию Даниловичу. Были в этом человеке какая-то цельность характера, твердая убежденность в необходимости всего, что он делал, и чистая, ничем не запятнанная вера в народ, и стыдливая, глубоко спрятанная любовь к людям, особенно к беднякам. Знал Дмитрий Данилович и то, какой трудной была жизнь Длугача: гибель убитого кулаками отца, смерть от неизлечимой болезни любимой жены, наконец, страшная потеря усыновленного Длугачом мальчишки Лаврика, которого в тридцатом году кулаки сожгли вместе с хатой Длугача, – все это было известно фельдшеру Ставрову, и он не переставал удивляться стойкости огнищанского председателя.
После смерти Любы, жены, Длугач долго жил один. По его просьбе старая Шабриха, которой председатель стал платить деньги вперед, по утрам посылала к нему свою дочь помочь по хозяйству. Лизавета приходила, молча останавливалась у покосившейся калитки и ждала, пока Длугач выйдет из хаты и скажет, что ей надо делать. Он отдавал ей ключ от дверей, скупо ронял: «Ты сама знаешь, чего тут надо» – и уходил в сельсовет до позднего вечера. Возвращаясь, не заставал девушки, отыскивал ключ под стрехой и усаживался за приготовленный ею ужин. А вечно хмурящая черные свои брови Лизавета, которую подрастающие парни и девчата продолжали по примеру старших именовать «колдуньей», белила его хату, смазывала чистой глиной земляной пол, убирала, стирала, гладила бельишко Длугача, готовила ему обеды и ужины, кормила поросенка и кур.








