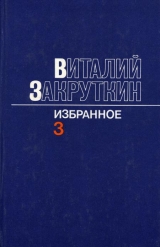
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
– Но таков же в принципе запланированный отбор лошадей или коров. Ваша организация явно заимствовала методы случных пунктов для животных. Неужели вам не противно этим заниматься? – продолжал возмущаться Юрген.
Конрад Риге осклабился, обнажив гнилые зубы.
– Напрасно ты хорохоришься, кузен! Поваляться в постели с пылкой смазливой девкой и не знать после того никаких хлопот – что же здесь противного?
Желая переменить тему разговора, Юрген обратился к нему:
– А как твои дела, Конрад? Продолжаешь снимать с людей головы и ломать им кости?
– Продолжаю, кузен, – согнав с лица ухмылку, ответил Риге. – Такая уж у меня профессия. Только мало мы снимаем голов, жантильничаем со всякой дрянью, а они наносят нам удары ножом в спину. – Откинувшись в мягком кресле, он стал рассказывать о происках невидимых врагов империи: – На протяжении последних нескольких месяцев наши пеленгаторы засекли работу вражеских радиопередатчиков в разных районах Берлина. Расшифрованы две радиограммы проклятой «Красной капеллы» – так у нас именуют этих неуловимых бандитов. На заводах распространяются возмутительные листовки, восхваляющие Красную Армию. Обнаружено много экземпляров подпольного журнала «Форт-групп», [11]11
«Передовой отряд» (нем.).
[Закрыть]прямо призывающего народ к свержению фюрера. Регулярно издается кем-то прокоммунистический журнал «Иннере фронт». [12]12
«Внутренний фронт» (нем.).
[Закрыть]
– Одно название чего стоит! – добавила от себя Ингеборг. – Наряду с внешним фронтом, где вы проливаете свою кровь во имя Германии, здесь, на нашей земле, существует, оказывается, еще один фронт – подпольный, тайный. – Она достала из ящика письменного стола тонкий, измятый экземпляр журнала и протянула мужу: – Полюбуйся, чем отвечают эти мерзавцы на обещание Черчилля Сталину открыть в Европе второй фронт против нас.
В журнале были подчеркнуты красным карандашом такие строки:
«Не господин Черчилль – гарант второго фронта. Носителем и гарантом второго фронта выступают трудящиеся массы всех стран, полные решимости покончить с каннибальским гитлеровским режимом убийц. Уже близится час, когда героизм Красной Армии и сопротивление народов Советского Союза сломают хребет нацистскому вермахту».
– Да-а, – протянул Юрген, – крепко сказано.
– Как же не снимать с таких голов и не ломать этим гнусным предателям кости? – запальчиво спросил его Конрад Риге. – Я удивляюсь, почему мы до сих пор не повесили публично их пророка Эрнста Тельмана! Почему девятый год кормим и поим его в одиночной камере Моабита? Дали бы мне волю, я бы его накормил!..
– Довольно, Конрад, – позевывая, сказала Ингеборг. – Пора спать.
Она постелила себе на диване, а двоюродных братьев отвела в спальню. Но только они начали раздеваться, как раздался протяжный вой сирены.
– Пошли, Юрген, в бомбоубежище, – сказал Конрад. – Это в Берлине круглосуточно: днем налетают янки, ночью – англичане. Прямо покоя от них нет…
Жильцы шестиэтажного дома, в большинстве своем женщины и старики, таща на руках и за руки детей, торопливо сбегали по лестнице в оборудованный под бомбоубежище подвал. С первым звуком сирены электрический свет был мгновенно выключен. Подвал слабо освещался лишь фосфоресцирующими полосами на бетонных колоннах, подпиравших низкий сводчатый потолок. Какой-то, ветхий старик в наброшенном на плечи пледе начал было довольно громко ворчать, проклиная все армии земного шара, но, заметив на Конраде Риге форму эсэсовского офицера, тотчас замолчал. Через несколько минут частыми залпами захлопали зенитки и послышался гул отдаленных взрывов. Судя по всему, бомбардировке подверглась северная окраина Берлина, и потому здесь, в центре города, набившиеся в подвал люди заметно приободрились. Кое-кто стал подремывать. Прислонясь плечом к Ингеборг, задремал и Конрад.
Юрген Раух не спал. Ему будоражило нервы бледное свечение колонн, от которого лица людей казались зеленоватыми, будто здесь, в этом мрачном подземелье, сошлись мертвецы, покинув наскучившие им могилы. Юрген с брезгливостью поглядывал на спящего Конрада и с отвращением думал о его грязных шашнях с Ингеборг. И еще он думал о людях, которых Конрад называл «Красной капеллой», осмелившихся объявить беспощадную войну войне и той железной, казалось бы, непобедимой системе, во главе которой стоял Адольф Гитлер.
«Кто же они, эти люди? – спрашивал себя Юрген. – Какие они? Молодые? Старые? Неужели они так уверены, что Гитлер будет побежден? Откуда у них такая вера? Откуда такое бесстрашие и сила воли? Что общего у них с простой русской женщиной из безвестной деревни Огнищанки, Ганей, которая тоже уверена в неизбежности краха Гитлера и предрекла бесславный конец мне, Юргену Рауху?..»
Зенитки стреляли все реже и реже, утихли дальние взрывы бомб, и наконец прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Заспанные люди стали покидать бомбоубежище.
Дома Ингеборг подогрела и разлила по чашкам кофе. Пили молча. Юрген курил, стряхивая пепел сигареты в придвинутую женой яшмовую пепельницу с фигуркой Будды. «Этой пепельницы не было у нас раньше», – отметил он про себя. Потом его внимание привлекли дорогие, отделанные бронзой вазы из малахита и розового парфира, водруженные на подставки по углам комнаты. Только сейчас заметил Юрген на оголенной, тронутой морщинами шее жены крупную подвеску-кулон и горько усмехнулся, догадавшись, что и этот кулон, и вазы, и даже пепельница – гонорар от Конрада за любовные утехи. Все это он натащил сюда из Франции, Бельгии, с Украины.
– Ты чего улыбаешься? – спросила Ингеборг. – Давайте, мальчики, допьем кофе – и спать.
– Да, пожалуй, пора, – потягиваясь, пробормотал Конрад.
Юрген поднялся, отодвинул кресло и, не в силах более оставаться здесь, объявил:
– Мне надо возвращаться в Россию. У нас там начинается крупная операция. Пора ехать на аэродром. Мой «шторх» ждет меня.
Он застегнул мундир, надел плащ, натянул перчатки, холодно поцеловал жену, коснулся рукой плеча Конрада и, не оглядываясь, зашагал вниз по лестнице.
ГЛАВА ПЯТАЯ1
Чем ближе к Дону подкатывался пылающий пожарами вал немецкого наступления с его неумолчным пушечным громыханием, с тяжкими взрывами бомб и снарядов, с тучами черного дыма, тем сильнее нарастала тревога среди населения донских городов и станиц. Как в давние времена вражеских нашествий, тысячи людей стали покидать обжитые места и уходить в обожженную летним солнцем, почти безводную задонскую степь.
В конце июня Дятловскому совхозу было приказано немедленно подготовить к эвакуации весь скот и наиболее ценное совхозное имущество, а недозревшие хлеба сжечь. Никто в станице в эту ночь не спал. Директор совхоза Ермолаев, главный агроном Младенов и две женщины из бухгалтерии торопливо увязывали шпагатом картонные папки с бумагами. В контору поминутно входили скотники, доярки, конюхи, чабаны, бригадиры – о чем-то спрашивали, что-то советовали.
После полуночи, когда обе женщины отпросились домой, Ермолаев сказал Младенову:
– Утром бери с собой с десяток рабочих и поджигай поля. Жги так, чтобы ни один колосок не достался гитлеровским гадам.
Младенов открыл оконную форточку, выбросил окурок и сказал, не оборачиваясь:
– Нет, Иван Захарович, посылай на это дело кого-нибудь другого. Я жечь хлеба не буду.
– То есть как это не будешь? – вспыхнул Ермолаев.
– Не буду, и все, – повторил Младенов. – Мне этого делать нельзя.
– Почему? – сдерживая ярость, спросил Ермолаев. – Интеллигентская кишка тонка?
Тяжело волоча ноги, Младенов подошел к нему вплотную и спросил вполголоса:
– Что ж, Иван Захарович, забыл ты, что ли, куда и зачем меня вызывали с месяц назад?
– Куда вызывали, знаю, а зачем – не очень, – честно признался Ермолаев.
– Ну так слушай, тебе могу сказать, – продолжал Младенов тихо. – На Дону меня мало знают, я человек приезжий, к тому же болгарин. Сведущие люди считают, что это немаловажно для подпольной партийной работы на оккупированной территории. Вот потому меня и обязали в случае прихода немцев оставаться в Дятловской и по-прежнему выполнять обязанности главного агронома. В активисты, говорят, не шибко лезь, а что по должности положено – делай и даже при немецком начальстве осторожно поругивай большевиков.
– А ты, Любен, часом, не брешешь? – усомнился Ермолаев.
Младенов обиделся:
– Если не веришь, езжай в район и наведи там справки. А коль поверил – не заставляй хлеба жечь. За это меня немцы сразу к стенке поставят, да и семью мою не пощадят.
Устыдившись своих подозрений, Ермолаев обнял Младенова, проговорил взволнованно:
– Ладно, Любен… Извини меня за дурацкий вопрос. Раз такое дело, иди-ка ты домой и поменьше мельтеши на глазах у людей…
Отпустив Младенова, он еще раз осмотрел все ящики своего письменного стола, проверил последние рапортички животноводческих бригад, а перед рассветом, разбудив уснувшего на крыльце мальчишку-посыльного, приказал собрать всех комсомольцев. Их в совхозе осталось только одиннадцать. Вернее сказать, комсомольцев не осталось вовсе – остались девчата-комсомолки. Парни давно ушли на фронт…
По вызову Ермолаева первой явилась Наташа Татаринова. Свежая, с влажными от утреннего купания волосами, она на бегу спросила с порога:
– Звали, Иван Захарович?
– Звал, Наталка-полтавка, – вымученно улыбнулся Ермолаев. – Садись. Пока соберутся другие, поговорим с тобой по душам. Ты, как я знаю, была первой помощницей у нашего садовода Ставрова, да и сейчас целыми днями пропадаешь в саду. Вот и скажи мне по совести: что будем делать с садом?
– Как это что будем делать? – удивилась Наташа. – Сад, Иван Захарович, в полном порядке. На деревьях хорошая завязь, черешни уже почти созрели, ранние вишни тоже. Только вчера мы с дядей Егором опрыскивали сад от плодожорки…
Ермолаев прервал ее:
– К нашей Дятловской, Наталка-полтавка, приближаются такие полчища двуногой плодожорки, что их ни парижской зеленью, ни самым крепким отваром полыни не одолеешь. Немцы, Наталка, вот-вот в станице появятся, и нам приказано заблаговременно все наши поля и плантации уничтожить, а самим уходить и скот в тыл угонять. Вот ты и скажи мне: как мы поступим со ставровским садом? Спилим поперечными пилами все деревья под самый корень или обольем их отработанной соляркой и сожжем?
Ермолаев видел, как медленно бледнело лицо Наташи, как задрожали ее пухлые губы, как из широко открытых глаз полились слезы. Она вдруг кинулась к Ермолаеву и закричала, содрогаясь от рыданий:
– Иван Захарович, родненький, да разве ж можно так?! Прошу вас: не надо ни спиливать, ни жечь сад! Слышите?.. Не надо! Не надо!.. Хотите, я сама умру, только сад пожалейте… Лучше я умру, а сад никому не отдам. Так и знайте – ни-ко-му!..
Наташа отшатнулась от директора. Заплаканное ее лицо некрасиво подергивалось. Маленькая, жалкая, только что казавшаяся беззащитной девчонкой, она вдруг подняла голову и сказала угрожающе:
– У меня запрятано ружье Андрея Дмитриевича… И заряженные патроны есть… Девяносто три штуки… Так вот знайте: сейчас я возьму ружье, патроны и уйду в сад… И если кто решится срубить хоть одно дерево, стану стрелять… Любого убью, так и знайте…
Такой реакции Ермолаев не ожидал. Он шагнул к Наташе, прижался небритой щекой к ее мокрым волосам и сказал растроганно:
– Ладно, дуреха… ангел-хранитель садовый… давай не будем реветь и вообще… Куда ни шло, оставим мы твой сад. Пусть растет, если пощадят его те двуногие плодожорки…
Услышав голоса за окнами, он вернулся к своему столу, сел, устало уронил голову на руки. Девчата-комсомолки, ввалившись в директорский кабинет шумливой стайкой, моментально притихли.
Ермолаев заговорил с ними, как всегда, спокойно, только, пожалуй, чуть суше обычного, короткими, отрывистыми фразами:
– Вам придется гнать в тыл скот. Пешим порядком. Путь предстоит далекий. Скота немало: сто шестьдесят коров с телятами, три сотни свиней, полторы тысячи овец. Никого не неволю, а только взываю к вашей комсомольской совести. И прошу не медлить с ответом: мне теперь же нужно знать, на кого из вас могу рассчитывать.
Раздался чей-то робкий голос:
– А когда уходить-то?
– Завтра в шесть утра.
Девушки зашушукались. Оказалось, что половина из них не может эвакуироваться по разным причинам: у одной больны родители, другая сама прихворнула, третья, грешным делом, готовится рожать, в чем вынуждена теперь признаться раньше времени.
Наташа Татаринова давно была подготовлена и ответила согласием немедленно. Недолго раздумывала и ближайшая ее подруга Ира Панотцова, худенькая, робкая девушка, сказала, что тоже погонит стадо за Дон.
– Правильно, Ирочка, – шепнула ей Наташа. – Мало ли что тут станут вытворять фашисты. Лучше уйти.
В полуоткрытое окно проник первый луч утреннего солнца, высветил ворохи рваных бумаг на полу, взволнованные лица девушек. Ермолаев, щурясь, обвел их взглядом, проговорил, подавляя вздох:
– Ну что ж… Кто дома остается, прощайте, девули. Держитесь тут как положено… как советские люди… А тех, кто в поход собирается, прошу быть завтра к половине шестого на берегу Дона против белого бакена…
С угоном стада совхоз фактически прекращал свое существование. Но станица Дятловская еще продолжала жить. Эвакуировались далеко не все дятловцы. Куда было деваться немощным старикам или женщинам с малыми детьми? Здесь у них своя кровля над головой, своя родная, потом политая земля, которая в это страшное лето щедро воздала им за их труды. Разве могли они оставить на приусадебных участках невыкопанный картофель, неубранные помидоры, огурцы, капусту, высокие плети гороха и фасоли? Бросить все недолго, а где и что найдешь?
Как часовые, стояли согбенные старики у калиток своих чистых, ухоженных двориков, где так празднично искрились посыпанные речным песком дорожки, шелестели листвой тополя, безмятежно покрякивали утки, кудахтали куры, повизгивали поросята. Иные неверующие неумело крестились, на «всякий случай» обратив взоры к вызолоченному кресту над куполом станичной церкви. Никто не стеснялся пролить слезу, провожая в дальнюю дорогу тех, кто помоложе, – родичей своих и просто соседей…
Плач и причитания не умолкали и в домике Татариновых. Еще зимой, получив известие о гибели старшего сына, совсем сдала Федосья Филипповна. Пуститься в дорогу вместе с дочерью у нее сил не было, а Наташа не могла остаться с ней, хотя очень жалела мать, да и расставаться с садом не хотелось. На обратном пути из совхозной конторы она забежала к Ежевикиным и, узнав, что Егор Иванович тоже уйдет со скотом, расстроилась еще больше: значит, сад останется вовсе без присмотра. Стала просить Федосью Филипповну:
– Приглядите хоть вы, мама. Там сейчас все деревья усыпаны плодами, вот и начнут бегать в сад все, кому не лень. Плодов не жалко, пускай пользуются, но ведь ветки пообломают, всякой шкоды наделают.
– Да как же, доченька, я дойду туда своими больными ногами? – сокрушалась Федосья Филипповна. – До сада небось версты три будет, а мне и по хате трудно ходить.
– Вы же знаете, мама, что я дала Андрею Дмитриевичу слово смотреть за садом, – настаивала Наташа. – Вернется он с фронта, а сад загублен. Как же мы тогда в глаза ему поглядим?
Материнским сердцем Федосья Филипповна чуяла, что творится в Наташиной душе, понимала, чего стоит дочери неразделенная любовь к Андрею Ставрову. Но чем могла она помочь Наташе? Разве вот исполнением ее просьбы относительно сада, который только и связывает Наташу с Андреем?
Укладывая в дорожный мешок скромные дочерние пожитки – пальтишко, два поношенных уже платья, две смены белья, полотенца, Федосья Филипповна пообещала:
– Ладно, доченька, не растравляй себя, не мучайся… Как-нибудь уговорю я других старух, приглядим мы за твоим садом все вместе, побережем его. Абы ты сбереглась и вернулась живая. Слухайся там старших. Кушай побольше, молоко пей – у вас же в стаде много дойных коров, на всех молока хватит… И письма мне пиши. Я ж тут одна от тоски помереть могу.
Наташа не решилась сказать матери, что, если немцы возьмут Дятловскую, ни одно письмо не дойдет сюда. Пообещала:
– Хорошо, мама, буду писать.
Перед вечером, когда все сборы закончились и дорожный Наташин мешок уже стоял у порога, она пошла проститься с садом. За станицей, на изрезанном ериками займище, как всегда, в эту пору, высились копны сена. Длинные их тени темнели рядами на нежной зеленой отаве. Наташа шла босиком, ощущая ступнями ласковую теплоту земли. В этот печальный час прощания все, что окружало ее, умиляло и трогало – и тихое займище, и розовое предвечернее небо, и бесшумные стаи грачей, летевших к лесу на ночевку. Но самым прекрасным, самым родным, неотделимым от ее молодой жизни представлялся Наташе сад.
Она остановилась у первой же яблони, обняла теплый ствол и замерла в изнеможении, закрыв глаза. В памяти воскресло все, что было совсем недавно на этом трудном куске земли: покинутый людьми погибший лес, непроходимый бурелом с волчьими логовами и лисьими норами; корчевание мертвого сухостоя и веселые костры у реки; подъем плантажа, посадка беззащитных саженцев; опасность затопления неокрепшего сада буйным весенним паводком, тяжелая работа по возведению земляного вала. Потом началась упорная борьба с прожорливыми оравами тли, щитовки, клещей, долгоносиков, цветоедов, слизистых пильщиков, шелкопрядов, моли, древесницы – опрыскивание молодых деревьев отваром табачной пыли, горького перца, полыни, настоем ромашки и тысячелистника, обвязка каждого стволика липкими ловчими поясами. Не окажись здесь заботливого, жалостливого человека, вся неисчислимая армия вредителей сожрала бы на деревцах листву и цветы, высосала соки, изгрызла плоды и ветви, умертвила бы корни.
Таким человеком, самым добрым, самым заботливым, Наташа считала Андрея Ставрова. С поразительной ясностью она представила его за обычной работой в саду. Вот он осторожно поворачивает листок сливы или яблони исподом наверх, смотрит – не появилась ли тля? Вот, став на колени, оправляет ловчий пояс на груше или абрикосовом дереве, потом поднимается и не спеша идет к следующему дереву, не обращая внимания на измятые, измазанные влажной землей штаны. Вот, щелкая острым карманным секатором с костяными ручками, обрезает сломанную ветром или засохшую веточку…
И вдруг возникла еще одна незабываемая картина: умаявшийся агроном спит на траве, возле садовой сторожки, с погасшей папиросой в зубах, весенний ветер шевелит его золотистые волосы, вокруг нет никого. И она, этакая глупая, смешная девчонка, пугливо озираясь, робко целует откинутую горячую руку обожаемого ею человека. Как недавно это было и как повзрослела с тех пор Наташа!.. И сад повзрослел заметно: вон уж алеют сочные ягоды вишен и черешен, отягощают ветки недозрелые еще плоды яблонь и груш. Первый урожай! Жалко, что им не может полюбоваться тот, кто отдал этому саду столько трудов, столько хлопотных дней и бессонных ночей…
Долго простояла Наташа, обнимая яблоню, прощаясь с садом. С трудом оторвалась она от теплого дерева и, не оглядываясь, побрела домой.
А утром вся станица собралась на берег Дона. Пастухи пригнали сюда стадо коров и телят. Правее, на излучине, гоношились чабаны с большой овечьей отарой. Тут же у воды тесно сбились оседланные верховые лошади. Два десятка лошадей были запряжены в телеги, до отказа нагруженные разным дорожным скарбом и продовольствием.
Будто по покойнику, голосили старухи. Глядя на своих хозяек, стали подвывать им на разные голоса собаки.
У Федосьи Филипповны чуть отлегло от сердца, когда уже здесь, на берегу, она узнала, что старшим гуртоправом назначен Егор Иванович Ежевикин. Он хоть и не очень близкий, а все же родственник. Подошла к нему, поклонилась, попросила, всхлипывая:
– Ты ж, Егор, присматривай, ради Христа, за Наташкой. Гляди, чтобы голодной не была, чтобы не обидел кто девчонку. Племянница ж она тебе.
– Не боись, Филипповна, не боись! – рассеянно отозвался занятый своими делами молодцеватый Ежевикин. – Дочка твоя завсегда при мне будет. Вроде моей помощницы.
Невысокий, верткий Егор Иванович бегал по берегу в сбитой на затылок каракулевой шапке, помахивал казачьей плетью с махрами, зычно покрикивал:
– Телят и овец грузить на баркасы! Коров будем переправлять вплавь, следом за ними!
Началась суматоха. К тяжелым рыбацким баркасам прислонили сходни. Понесли на руках телят со связанными ногами, стали укладывать их вдоль бортов. Хлопали пастушьи кнуты. Тревожно взмыкивали коровы.
– Сюды бы паром! – высказался кто-то.
– Где ты его возьмешь? – огрызнулся Ежевикин. – Не вякай по-пустому про паром, а занимайся делом…
Когда первые баркасы были загружены, к корме каждого из них короткими налыгачами подвязали по две коровы.
– Рушай! – скомандовал Ежевикин.
Заскрипели весла. Баркасы отошли от берега. На фарватере течение стало сносить их вниз.
– Табань правым, загребай левым! – размахивая плетью, орал с берега Егор Иванович.
Коровы плыли за баркасами, захлебываясь, натужно храпя. С кормы баркасов люди все выше и выше подтягивали налыгачами их рогатые головы с выпученными, безумными глазами.
Щелкая кнутами, пастухи загнали в реку всех остальных коров, криками стали отпугивать их от берега.
– Пропадет стадо! – невольно вырвалось у побледневшего Ермолаева.
– Не пропадет! – уверенно рявкнул Ежевикин. – Выплывет на лучке, там мелко…
Все дятловцы затаив дыхание следили за густым частоколом коровьих рогов, еле различимых на речной ряби. Обняв мать и подругу, глаз не сводила с реки Наташа. Лишь один человек казался безразличным к происходящему – главный агроном Младенов. Отчужденный и замкнутый, стоял он в стороне, целиком погрузившись в свои думы.
Шел седьмой час утра. Солнце поднялось уже довольно высоко. Баркасы и следовавшие за ними коровы достигли середины реки, когда послышался вначале невнятный, потом все более отчетливый гул самолетов. Из-за одинокого розового облака вынырнули два немецких бомбардировщика в сопровождении юркого, похожего на стрекозу, истребителя. Здесь им не угрожал зенитный огонь, и они снизились над рекой до бреющего полета, сбросили две бомбы, обстреляли захлебывающихся на глубине коров длинными пулеметными очередями. Люди, толпившиеся на берегу, спотыкаясь и падая, кинулись к лесу.
Трудно сказать, чем бы все кончилось, не появись в эти критические секунды советский истребитель. Он кинулся наперерез бомбардировщикам, заходившим на второй круг. Вновь протрещало несколько пулеметных очередей. Один бомбардировщик неуклюже накренился, стал терять высоту и взорвался в левобережном лесу. Другие самолеты – и немецкие и наш – скрылись за горизонтом.
Дятловцы опять сошлись на берегу. Потерь среди них не было. Коров погибло около десятка.
Ермолаев заторопил отбывающих со стадом:
– Прощайтесь. И в добрый путь. Завтра я догоню вас на машине.
Со всех сторон послышались женские голоса:
– Куды ж вы их отправляете?
– В каких краях они будут находиться?
– Маршрут нам дан на Кубань, – объяснял Ермолаев. – Пока на Кубань, а там видно будет…
Еле оторвавшись от плачущей Федосьи Филипповны, Наташа вскочила в лодку. Попрыгали за ней и другие. Младенов тоскливо помахал им вслед рукой.
Началось долгое и трудное кочевье. Вся задонская степь была забита другими такими же стадами и тысячами беженцев. Беженцы тащились на выбившихся из сил лошадях, на отощавших волах, ехали на велосипедах, шли пеньком, толкая перед собой нагруженные всякой всячиной тачки и детские коляски. Их обгоняли в своих изодранных кибитках, сопровождаемых худыми, голодными собаками, цыгане, – по приказу Гитлера на оккупированной территории они подлежали поголовному уничтожению. Временами этот пестрый поток перемежался обозами отступавших советских войск. Затем в него стали вливаться и сами войска – батальон за батальоном, в мокрых от пота гимнастерках, с черными от степной пыли лицами. Загромыхали тяжелые тягачи, буксирующие артиллерию. Появились автомобили с понтонами…
В сутолоке этой оробел даже бывалый Егор Иванович Ежевикин. Сошел с коня, вытер шапкой потную шею и сказал Наташе, которая ехала рядом с ним, сидя по-мужски на смирном гнедом мерине:
– Из такой карусели нам надо выбираться! Не дай бог, опять налетят фашисты. Они тут котлет наделают. Надо тикать.
– Куда тикать, дядя Егор? – удивилась Наташа.
– Подальше от дорог, – твердо сказал Ежевикин. – Будем двигаться, дочка, напрямки, степом. Я поеду помалу вперед, а ты обскачи-ка всех наших и заверни их следом за мной.
Приложив ладонь к глазам, Наташа проследила, куда он направил своего коня – через пыльную лесополосу, – хлестнула мерина хворостиной и поскакала от одного гуртоправа к другому, крича на скаку:
– Поворачивайте за дядей Егором! Вон он! Видите?..
Потеряв еще несколько коров и с десяток свиней, прибившихся к чужим стадам, дятловцы углубились в степь. Некоторое время двигались по жнивью, пересекли две глубокие балки и стали на ночевку у заросшей камышами безымянной речушки. Егор Иванович приказал разжечь костерок и сварить кондер, а сам занялся пересчетом людей и животных. Покончив с этим, присел на пропахшее конским потом седло и задумался.
Минула неделя после того, как стадо покинуло станицу. Темп движения в общем потоке регулированию почти не поддавался: хочешь или не хочешь, а частенько приходилось гнать скот не только днем, но и по ночам. Уже далеко позади остались Сальские степи. Подбились коровы и овцы. От жары и безводья дохли телята. Разбегались в поисках пропитания оголодавшие свиньи. Умаялись и люди. Кое-кто не выдержал: в Дятловекую вернулись двое стариков и двое девчат. Под началом Егора Ивановича остались: Наташа Татаринова, ее подружка Ира, веселая Панка Бендерскова, высоченный, тугой на ухо тракторист по прозвищу Полтора Километра, трое неразлучных ребят-восьмиклассников – Леша, Костя и Сеня – да пятеро молчаливых пожилых мужиков, приставленных к обозу.
Беспокоило Ежевикина и то, что, свернув с дороги в степь, он далеко отклонился от маршрута, указанного директором совхоза, и Ермолаев может не найти своих.
После ужина, когда все улеглись спать вокруг погасшего костра, он не обнаружил Наташи. Она одна сидела на берегу, обняв колени, тоже погрузившись в раздумья.
Ежевикин подошел, спросил негромко:
– Ты чего не спишь, дочка?
– Не спится, дядя Егор, – вздохнула Наташа. – Мама у меня стоит перед глазами. Сад наш вспомнила…
Егор Иванович насторожился:
– Может, и ты дезертировать собираешься?
Наташа посмотрела на него укоризненна:
– Это вы зря, дядя Егор. Я пойду до конца…
Над густым камышом нудно зудели комары. Дремали насытившиеся коровы и овцы. Пофыркивали лошади. Мирно журчала сонная речушка. Но война напоминала о себе: на северо-западе у самого горизонта трепетало багровое зарево пожаров, оттуда же доносилось глухое уханье пушек, а в усыпанном кротко мерцавшими звездами небе с монотонным рокотом плыли куда-то неизвестно чьи самолеты.
Задолго до рассвета Егор Иванович разбудил людей:
– Будем рушать. По холодку скотине легче…
И вновь потянулись долгие переходы, короткие привалы, жаркие дни и тревожные ночи. Понукаемое людьми отощавшее стадо, все больше редея, брело по холмам Ставропольщины и стало уже втягиваться в предгорья. Тут его начали обгонять разрозненные группы изможденных бойцов: и малые, по нескольку человек, и большие – по две-три сотни. Это были арьергарды отступающей армии. Следом накатывался совсем уже близкий грохот орудий, слышно было трещание пулеметов, а однажды рано утром Наташа Татаринова вдруг увидела немецких автоматчиков-мотоциклистов. Они выскочили к берегу каменистой горной речки и тут же были расстреляны из пулеметов группой укрывшихся за валунами советских бойцов.
– Ты, папаша, не задерживайся, – сердито сказал Егору Ивановичу Ежевикину чернявый, смуглый сержант. – Дуй без передыху дальше, а нам, если можно, оставь с десяток овечек. Мы возле этих шалунов постоим еще пару дней, чтобы перекрыть дорогу фашистской сволочи.
Старый казак Ежевикин покачал головой:
– Овечек, сынок, я тебе оставлю, куды ж денешься. Ты мне только расписочку черкни, что, дескать, получены тобою овцы Дятловского совхоза для пропитания солдат. А только гляжу я на вас и так думаю: дюже далеко вы, сынок, драпанули и где, в каких местах задержите немцев, одному богу ведомо.
Сержант протянул ему клочок бумаги:
– Получай расписку, стратег, и сматывайся, а то тут жарко будет. И еще прошу тебя: возьми на свои телеги шестерых раненых бойцов. Сдай их в госпиталь в Пятигорске или где еще…
Оставив пулеметчикам овец, мешок муки и кадушку с засыпанной солью рыбой, дятловцы тронулись дальше. Наташа занялась ранеными: с помощью Иры осторожно сняла с них пропыленные, пожухлые от крови повязки, промыла водкой и смазала йодом раны, перевязала свежими бинтами. Особенно поразил ее вид молоденького бойца с тонкой, мальчишеской шеей. Он был тяжело ранен в грудь, на телеге лежал неподвижно, но сознания не терял. На губах его все время пузырилась и стекала по острому подбородку кровавая пена. В его устремленном в небо, как бы отстраненном от всего земного взгляде было выражение торжественного покоя и примиренности с тем неизбежным, что должно было очень скоро наступить. За свою короткую жизнь Наташа Татаринова ни разу не видела так близко умирающего человека, и потому спокойная отчужденность этого бойца от живых отозвалась в ее сердце острой болью. Она не уловила того мгновения, когда прекратились хрипы в его груди и остановилась, перестала стекать на подбородок струйка крови. Наташа вскрикнула и забилась в рвущем душу плаче, лишь когда почувствовала, как стала холодеть неподвижная рука этого юноши в ее маленькой, измазанной йодом руке.
Умершего похоронили, постояли над одинокой могилой и пошли дальше.
После того как переправили стадо через реки Зеленчук и Кубань, узнали что немцы заняли Ставрополь. Егор Иванович с трудом устроил в какой-то полевой госпиталь пятерых раненых бойцов и решил двигаться в сторону Нальчика. Но уже за рекой Малкой, у входа в глубокое, стесненное скалами Баксанское ущелье, понял, что оно может стать для стада ловушкой – лучше податься в горы. Только как осуществить это? Люди, помогая друг другу, пожалуй, смогут одолеть перевал. А стадо? Бывалый дятловский казак Егор Ежевикин когда-то воевал в горах и знал, чего стоит там каждый километр пути.
Вечером после ужина Егор Иванович объявил:
– Вот чего, дорогие станичники, давайте держать совет. Останемся покедова тут, на неделю-другую, попасем бедолажный наш скот, а потом прикинем, куды двигаться дальше, или же зараз сдадим все стадо по документам балкарским ли, кабардинским ли колхозам, а сами, как говорится, с божьей помощью перейдем горы и пристроимся где-нибудь в Грузии?








