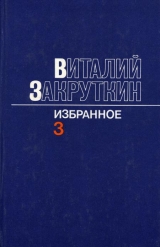
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
– Понимаете? – продолжал он, вытирая застиранным платком губы. – Штаб наш перестал существовать за каких-нибудь пятнадцать минут. Я только успел переложить деньги из сейфа в мешок и упасть в какую-то яму. А они прут на танках, высунулись из люков, орут, давят все живое… Когда прошли, я вылез из ямы, нашел четырех живых бойцов, схватили мы мешок с деньгами и – в лес, в самую гущину. Отсиживались там двое суток, ничего не ели. Спали, положив головы на этот проклятый мешок. Потом полтора месяца выходили из окружения. Сорок шесть дней и ночей!.. Насмотрелись такого… – Вздрагивая, Точилов перешел на свистящий шепот: – Задавят они нас. Понимаете, задавят! С ними не совладать. Это такая сила, такая мощь, вы не представляете! Всем нам конец…
С брезгливой жалостью смотрел Андрей на сидящего рядом с ним смятого животным страхом человечка, в котором как будто ничего человеческого не осталось. Подернутые тоскливой мутью глаза Точилова были устремлены в землю, брошенные на колени худые руки дрожали. «Да-а, – подумал Андрей, – хоть и спас ты мешок с деньгами, а, наверное, трус, и довела тебя трусость до ручки».
Будто угадав его мысли, Точилов пробормотал, заикаясь:
– Вы, товарищ Ставров, п-презираете меня, считаете д-дрянью, п-паникером? Это – ваше дело. Я, конечно, не принадлежу к числу героев. Я мирный человек, б-бывший б-бухгалтер, и, когда мне довелось увидеть этот кромешный ад, я п-превратился в ничтожество. Сам себя ненавижу…
Волоча ноги, сутулясь, Точилов побрел в финчасть. А Андрей долго еще сидел в парке, потрясенный откровениями Точилова. Внимательно слушая по радио ежедневные сводки Совинформбюро, читая газеты, он, казалось, давно постиг, какие бедствия несет с собою война. А выходит, что постигнуто еще не все. До сих пор ему почему-то не приходило в голову, что война кроме смертей и тяжелых увечий множества людей, кроме пожаров и разорения может уничтожить человека духовно, растлить его, превратить в безвольное существо.
«Но разве много таких, как этот Точилов? – волнуясь, спрашивал себя Андрей. – Нет, нет! Роман, Федор, Володя Фетисов, Ермолаев, Младенов, Егор Ежевикин, Илья Длугач, Демид Плахотин, дядя Александр не могут опуститься до такого состояния! И я не могу…»
В тот же день Андрей подал рапорт начальнику курсов об откомандировании на фронт. Майор Бердзенишвили, прочитав этот рапорт, в запальчивости пригрозил ему гауптвахтой и даже штрафной ротой. На шум в комнату вошел член Военного совета округа.
– Что здесь происходит? Ваши крики, майор, слышны у шлагбаума.
Начальник курсов протянул ему рапорт Андрея:
– Прочитайте, пожалуйста, товарищ дивизионный комиссар. Все рвутся на фронт…
Член Военного совета скользнул взглядом по бумаге, положил рапорт на стол, на секунду задумался и высказал то, чего Андрей никак не ожидал:
– Если он уж так настаивает, не возражайте, товарищ майор. На фронте сейчас большая нужда в людях. Танки Клейста выходят на ближние подступы к Ростову. Видимо, придется сократить срок обучения на ваших курсах. Через неделю присвоим курсантам звания и всех их отправим…
Неделя пролетела незаметно. Обескураженный Бердзенишвили в последний раз повел курсантов в горы, долго втолковывал им, что профессия горного стрелка самая мужественная из всех военных профессий, просил курсантов не забывать того, чему они успели научиться, уверял, что на войне все может пригодиться.
Будущее показало, что он был прав.
На выпускном вечере Бердзенишвили огласил приказ о присвоении всем своим питомцам звания «старший сержант».
И разбросала их война по всему огромному фронту, от Черного моря до Белого.
Андрей Ставров был направлен в 30-ю стрелковую дивизию. Предположительно она находилась в Ростове-на-Дону.
Перед отъездом туда Андрей послал письма Елене в Свердловскую область и Татариновым в станицу Дятловскую, пообещал в ближайшие дни сообщить им новый номер полевой почты. Очень хотелось написать и отцу с матерью в Огнищанку. Андрей долго сидел над чистым листом бумаги, опустив голову. Но лист этот так и остался чистым. Писать старикам не было смысла. По сводкам Совинформбюро выходило, что Огнищанка уже занята немцами.
Дождливым октябрьским вечером Андрей простился с товарищами по курсам, попутным грузовиком доехал до станции, подождал прибытия воинского эшелона, забрался в жарко натопленную теплушку и, подложив под голову дорожный мешок, задремал.
Монотонно постукивали колеса. Подвешенный к потолку теплушки фонарь раскачивался, скудно освещая спящих на нарах бойцов. Почти нигде не останавливаясь, эшелон шел на северо-восток. И каждый час приближал его к фронту.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ1
В Германии все было подчинено войне: заводы, фабрики, шахты, крестьянские поля, университеты, школы, газеты, радио, человеческие руки и помыслы, жизнь миллионов людей. Все должно было работать на войну, с каждым днем приближая торжественное провозглашение «великой германской империи».
Выполняя бредовые планы Адольфа Гитлера, миллионы немцев надели солдатские шинели. Именем фюрера им приказывалось убивать, расстреливать, вешать советских людей.
Бесконечным потоком шли в Германию посылки с награбленным добром: пиджаками и брюками, женскими платьями и бельем, мехами, обувью, чулками, посудой, детскими игрушками, картинами, салом, подсолнечным маслом, мукой. Один за другим прибывали длинные составы товарных вагонов, битком набитые даровой рабочей силой – захваченными при облавах русскими, польскими, чешскими, словацкими, французскими, норвежскими парнями и девушками, которые должны были заменить отправленных на фронт немцев – сутками гнуть спину за станками упрятанных под землю военных заводов, на шахтах и в рудниках, на полях и скотных дворах.
Не осталось в стране ни одного человека, за которым днем и ночью не следили бы гестаповцы, тайные и явные агенты всевидящего Главного управления имперской безопасности Германии – РСХА. В каждом доме были свои соглядатаи, платные и бесплатные доносчики. Под страхом немедленной расправы немцам вменялось в обязанность доносить даже на самых близких людей: на мужа, на жену, на собственных детей, на отца и мать, на братьев и сестер.
Будто эпидемия всепожирающей чумы, по стране распространились страх, подозрительность. Люди стремились поглубже упрятать свои мысли, поменьше разговаривать, чтобы не очутиться в одной из многочисленных тюрем, откуда если и можно было возвратиться, то преимущественно в виде горстки пепла, насыпанного в дешевую урну. Аккуратное тюремное начальство щедро рассылало такие подарки родственникам заключенных.
В подвалах городских домов и деревенских погребах с лихорадочной поспешностью оборудовались бомбоубежища. Поспешность не исключала добротности: крепкие бетонные колонны подпирали свод, каждую колонну опоясывала широкая полоса, нанесенная светящейся краской; по углам ставились баки с кипяченой водой; на стенах укреплялись шкафчики и полки с марлей, ватой, бинтами, медикаментами; у входа складывались санитарные носилки и запасные противогазы в гофрированных металлических коробках.
Газеты и радио успокаивали обывателей, заверяли их, что Гитлер оберегает жизнь каждого, что Геринг поклялся не пропустить в небо Германии ни одного вражеского самолета. Однако, несмотря на эти клятвы, эскадрильи английских ночных бомбардировщиков то и дело прорывались к столице рейха. Нанесла ряд чувствительных ударов по Берлину и советская авиация дальнего действия. Выли по ночам сирены воздушной тревоги, шарили по темному небу лучи прожекторов, слышался захлебывающийся лай зенитных пушек. Сонные берлинцы, волоча за собой детей, подушки, одеяла, клетки с птицами, собак и кошек, бежали по лестничным маршам многоэтажных домов к спасительным бомбоубежищам и там, дрожа от страха, вслушивались в тяжкие взрыву фугасных бомб. А с прекращением бомбежки по улицам Берлина мчались пожарные машины и мотоциклы гестапо. Пожарные боролись с огнем, гестаповцы разыскивали диверсантов и лазутчиков.
Такой предстала Германия перед бывшим казачьим хорунжим Максимом Селищевым и бывшим русским князем Петром Барминым. Оба они, как было условлено в Москве, поселились в квартире фрау Гертруды Керстен на Рунгештрассе и в первые дни никуда не выходили.
Пожилая фрау Гертруда была помешана на чистоте и опрятности. Постояльцы всегда видели ее в тщательно разглаженном темном платье с белоснежным крахмальным воротником. А уютная квартира сияла протертыми до блеска стеклами окон, отполированными боками пианино, покрытыми лаком паркетными полами, тщательно промытыми листьями комнатных растений. В квартире держался устойчивый запах скипидара и каких-то приятных ароматических эссенций.
Селищева и Бармина фрау Гертруда поселила в довольно просторной комнате, окна которой выходили во двор. Совсем недавно эта комната служила кабинетом ее мужу Вильгельму Керстену, профессору философии, погибшему вместе с другими пассажирами и командой парохода, по ошибке торпедированного немецкой подводной лодкой в Атлантическом океане.
Фрау Гертруда была дочерью довольно известного художника, подолгу жившего вместе с ней в Неаполе. После гибели мужа она занялась переводами с итальянского. Больше всего переводила книги писателей, близких по взглядам диктатору Италии Бенито Муссолини, – от инакомыслящих берлинские издатели отворачивались. Судя по всему, о приезде двух русских она была кем-то предупреждена, но кем – Бармин и Селищев не знали. Спокойная, сдержанная, она радушно встретила их, просила только поменьше курить, особенно в ее присутствии: фрау Гертруда не терпела запаха табачного дыма.
О своих квартирантах она сочла нужным сообщить блоклейтеру [8]8
Квартальный организатор нацистской партии.
[Закрыть]Хаазе и полиции. С виду добродушный толстяк Хаазе, владелец зеленной лавки, в один из вечеров посетил фрау Гертруду, за чашкой ячменного кофе познакомился с Барминым и Селищевым, пряча свою настороженность, расспросил их о цели приезда в Берлин и рассказал о загородном клубе, где собираются русские эмигранты.
– Они сейчас тянутся к фюреру отовсюду, – пережевывая жесткий пирог, рассказывал Хаазе. – Едут из Франции, из Югославии, даже из Америки. – Хаазе оглушительно захохотал. – Чудаки! Хо-хо! Вероятно, они полагают, что фюрер и немецкая армия расчистят им дорогу в Москву и встретят их… в этом самом… в Кремле колокольным звоном.
Но тут же, вспомнив, должно быть, с кем он разговаривает, Хаазе согнал с одутловатого лица издевательскую ухмылку, чуть помедлил и заговорил серьезно:
– Конечно, если господа русские эмигранты, тот же, скажем, атаман Краснов, поймут, что жизни немецких солдат дорого стоят и что за пролитую немцами кровь следует платить, фюрер, видимо, поможет России создать новое правительство. Россия обязана воздать нам должное за свое освобождение от ига большевиков. Не так ли? Я думаю, так…
Отхлебывая из хрустального бокала самодельный шнапс – бурую бурду с дурным запахом, – охмелевший Хаазе долго еще разглагольствовал о великой миссии Германии в этом сумасшедшем мире. А под конец покровительственно похлопал по плечу молчаливого Максима Селищева и закончил назидательно:
– С вашими русскими друзьями я вас сведу, господа. В этом вы можете не сомневаться, связи у меня есть. Но, вы сами понимаете, мы ведем большую войну, фюрер требует от всех нас осмотрительности, дисциплины и прочее. Поэтому вам надо побывать в гестапо, рассказать о себе, ничего не скрывая. Такой у нас порядок…
Слушая словоохотливого блоклейтера, Бармин, не теряя достоинства, иногда поддакивал ему. Селищев же продолжал отмалчиваться. Он пока еще не находил в себе силы играть ту роль заядлого контрреволюционера, которая была ему предназначена. Кроме того, в отличие от Бармина, прекрасно владевшего немецким языком, Максим с трудом понимал болтовню Хаазе. Когда тот ушел, они тотчас вернулись в свою комнату. Выкурили, открыв форточку, по сигарете. Переглянулись.
– В гестапо придется идти, – задумчиво сказал Бармин.
– Что ж, пойдем, – согласился Селищев…
На следующий день, пряча тревогу, они явились в районное отделение гестапо, где были немедленно приняты веселым молодым оберштурмфюрером, являвшим собой образец предупредительности и приязни. Оказывается, в гестапо уже звонили из абвера по поручению полковника Хольтцендорфа и сообщили, что военная разведка имеет некоторые виды на этих русских, а потому чинить им какие-либо препятствия пока не рекомендуется.
– Мы будем рады помочь вам, – сияя улыбкой, сказал гестаповец. – В воскресенье мы проводим вас в клуб русских патриотов. Там назначен широкий сбор, и вы сможете представиться атаману Краснову.
Оберштурмфюрер высказал предположение, что Краснов будет весьма рад встрече, поскольку они только вырвались из советского ада и располагают свежими сведениями о том, что происходит в России в связи с победоносным наступлением немецких войск.
Он задержал взгляд на спокойном лице Бармина и продолжал:
– Не хочу скрывать, князь, эти сведения не в меньшей мере интересуют и нас. Я буду весьма признателен, если вы проинформируете меня о положении на Дону, о настроении донских казаков, о том, насколько можно полагаться на их верность старым традициям, а также своему атаману-изгнаннику генералу Краснову. Не менее интересно и то, как казаки встретят немецкие войска, будут ли воевать против большевиков, если… фюрер разрешит вручить им оружие.
Бармин взглянул на Максима и с завидным хладнокровием сказал:
– Видите ли, оберштурмфюрер, все, что касается казачества, – компетенция моего старого друга господина Селищева. Он сам донской казак, офицер императорской и белой армий. Бывший, конечно… Досадно, однако, что господин хорунжий плохо владеет немецким языком. С вашего разрешения я переведу ему суть интересующего вас дела. – И, не дожидаясь испрошенного разрешения, тут же обратился к Селищеву: – Максим Мартынович, оберштурмфюрер просит приготовить для тайной полиции копию той информации, которую вы обещали дать абверу. Можно это сделать?
Максим кивнул:
– Разумеется. Я постараюсь выполнить просьбу господина оберштурмфюрера в ближайшие же дни…
Гестаповец с хозяйским радушием проводил их до дверей и, прощаясь, сказал:
– Я заранее благодарен вам, господа. Хочется лишь добавить, что рейхсфюрера Гиммлера интересуют не только те казаки, которые живут на Дону, но и наши берлинские казаки. – Довольный этим каламбуром, он засмеялся, а затем все-таки уточнил: – Под берлинскими казаками я разумею тех, кто окружает сейчас генерала Краснова. Трудно поручиться, что среди них нет большевистских агентов. Поэтому очень попрошу вас и в воскресенье и впоследствии внимательно понаблюдать за здешними вашими соотечественниками, и если вы найдете, что кто-то из них не внушает доверия, пожалуйста, поставьте нас в известность…
Выйдя из гестапо, Максим яростно сплюнул:
– Вот сволочь! Доносчиков из нас хочет сделать. И ты, Петр, тоже хорош – удружил мне. Что теперь прикажешь писать о советских казаках?
– Не волнуйся, Максим Мартынович, напишем, – заверил Бармин. – Разумеется, не то, что есть на самом деле, а то, что им хочется: казаки, мол, ждут не дождутся Гитлера, даже во сне его видят.
– Ты с ума спятил? – Максим даже приостановился, с негодованием посмотрел на Бармина.
– Именно так и напишем, – сказал Бармин. – Не кипятись. Пусть тешат себя надеждами… Надо, чтобы нам доверяли. И этот гестаповец, и та вылезшая из могил падаль, которая именует себя цветом России, солью русской земли.
– Там небось и графы обнаружатся, и даже князья вроде тебя, – с легкой усмешкой заметил Максим.
Бармин не принял шутку, ответил серьезно:
– Вроде меня там князей не будет. Князья Бармины нынче поумнели…
В воскресенье в десятом часу утра в квартире фрау Гертруды Керстен раздался звонок. Открыв дверь, она не могла утаить своего испуга: перед ней стоял одетый в модный штатский костюм гестаповец Юлиус Фролих, тот самый оберштурмфюрер, который два дня назад принимал ее жильцов. Заметив растерянность фрау Гертруды, Фролих галантно приподнял шляпу:
– Доброе утро, фрау Керстен. Я приехал за вашими русскими. Я обещал познакомить этих симпатичных парней с их соотечественниками.
– Заходите, герр Фролих. – Фрау Гертруда отступила от двери, давая гестаповцу дорогу. – Русские завтракают в кафе у Неблиха, они скоро придут…
Через полчаса оберштурмфюрер, балагуря, усадил Бармина и Селищева в свой автомобиль и увез их на сборище русских эмигрантов.
Пока ехали, Максим перебирал в памяти все, что знал об атамане Краснове. «Звать его, кажется, Петром Николаевичем. До революции командовал казачьей дивизией, в семнадцатом году якшался с болтуном Керенским и вместе с генералом Крымовым наступал на красный Петроград, откуда большевики турнули его так, что он не знал, куда бежать. Попал даже в плен к большевикам и, спасая свою шкуру, дал им честное генеральское слово никогда не выступать против своего народа. Под честное слово его отпустили, и он сразу подался на Дон. Донским атаманом был тогда генерал Каледин Алексей Максимович, и возле него гужевались Корнилов, Деникин, Алексеев. К ним в ту пору и пристегнулся Краснов. Очень они на казаков надеялись, но надежды плохо оправдывались: большевики и здесь им добре всыпали. Каледин не выдержал, застрелился. Другие генералы поспешили на Кубань, а Краснов остался на Дону. Как суслик, хоронился по хуторам да по зимовникам у богатых казачков, и с его помощью эти казачки подняли восстание против Советской власти, стали всех, кто сочувствовал большевикам, вешать на телеграфных столбах. Вот тут-то Краснов и вылез из норы. Кажется, в мае восемнадцатого года объявился в Новочеркасске, созвал „Круг спасения Дона“, и его избрали атаманом всевеликого Войска Донского».
Максим в ту пору тоже был в Новочеркасске – долечивался в госпитале после тяжелого ранения, полученного на Западном фронте. По случаю избрания нового атамана в войсковом соборе состоялась торжественная служба. Там, в соборе, Максим и увидел Краснова.
Молебен служил престарелый митрополит в окружении сонма священников и дьяконов. А прямо за ними, истово крестясь, стоял моложавый человек среднего роста, в парадном мундире с погонами генерал-лейтенанта. Нос с горбинкой, щеки румяные. На груди атамана сверкали эмалью и позолотой ордена. И умащенные бриолином темные его волосы тоже отражали мерцающий свет паникадил.
«Сколько же лет тогда ему было? – подумал Максим. – Должно быть, около пятидесяти. Крепкий еще был мужик. На Царицын с казаками два раза кидался, но красные и там ему задали перца. А на Дон тем временем немцы полезли, Таганрог взяли. И его превосходительство господин атаман всевеликого Войска Донского куцым кутенком перед ними ползал, сапоги им лизал, кайзеру Вильгельму письма писал такие, что даже Деникина от этих писаний стошнило. Зато после разгрома белых, где бы ни скитался битый атаман Краснов, а пригрет был в Германии. Интересно: каков он сейчас? – прикидывал Максим. – После того молебствия в Новочеркасске двадцать три года прошло, так что теперь Краснову уже за семьдесят…»
Клуб, куда оберштурмфюрер привез своих подопечных, представлял собою мрачный, темный подвал, в котором стойко держался застарелый запах кислого пива и табака. В огромном этом подвале, у задней его стены, был поставлен длинный стол. Над столом висел портрет Гитлера, одетого в униформу нацистской партии с портупеей через плечо и широким поясом. Справа от портрета был прислонен к стене большой красный флаг с белым кругом в середине и черной свастикой. А все пространство от стола до входной двери было уставлено рядами тяжелых дубовых скамей.
Часть участников сборища уже разместилась на скамьях, часть толпилась в проходах. Одеты по-разному: на одних сверкали погоны старой русской армии, на других уныло висели измятые, заношенные пиджаки, иные явились в рабочих комбинезонах или в форме немецких железнодорожников, шоферов, трамвайщиков. Среди этой пестрой толпы выделялись рослые парни в отлично сшитых костюмах. Выстроившись вдоль стен, они по-хозяйски взирали на всех остальных. Нетрудно было догадаться, что они, как и Юлиус Фролих, представляют здесь ведомство Гиммлера.
С помощью Фролиха Бармин с Селищевым устроились поближе к столу, приготовленному для начальства. Минут через пятнадцать из узкой боковой двери вышел человек в форме немецкого офицера и громко провозгласил по-русски:
– Господа! Прошу встать! Его превосходительство генерал-лейтенант Петр Николаевич Краснов, атаман всевеликого Войска Донского!
Ловко сделав шаг влево, он пропустил Краснова вперед. Тот был затянут в серый мундир гитлеровского вермахта с царскими погонами генерал-лейтенанта. На голову низко нахлобучена немецкая генеральская фуражка с серебряными шнурами, орлом и свастикой. Над левым карманом мундира белел офицерский Георгиевский крест с оранжево-черной лентой, а над правым – знак вермахта: распростерший крылья двуглавый орел с венком в лапах.
Тяжело волоча ноги, Краснов подошел к столу и снял фуражку, обнажив глянцевитую лысую голову с оттопыренными ушами. Постоял, пожевал губами, дрожащей рукой с лиловыми вспухшими венами поправил на переносице перекошенное пенсне и заговорил с паузами, отсекая фразу от фразы:
– Господа! Волею фюрера великой Германии его победоносные войска начали освобождение нашей многострадальной родины от многолетнего большевистского ига. Под их могучими ударами армии Сталина разгромлены на всех фронтах. Большевистские комиссары тщетно пытаются остановить свои бегущие дивизии и полки, сотни тысяч советских солдат уже взяты в плен…
К удивлению Максима, голос у дряхлого «атамана» оказался довольно звучным. Но вот он, этот голос, вдруг задрожал, взвившись на предельную высоту:
– Группа армий фельдмаршала Рундштедта вплотную приблизилась к нашему родному Дону, цитадели священной казачьей вольницы, которую… э-э-э… по справедливости до сих пор называют русской Вандеей. Пробил, господа, час… э-э-э… возрождения…
Патетическую речь Краснова прервало появление высокого немецкого генерала. Он вошел неожиданно, швырнул на стол фуражку и, не глядя на «атамана», уселся рядом с ним. У генерала было какое-то лошадиное лицо с тяжелым подбородком и злыми, прищуренными глазами.
– Кто это? – шепотом спросил Бармин у сидевшего рядом Фролиха.
– Группенфюрер фон Панвиц, – тихо ответил тот. – Он только что вернулся с фронта, из Белоруссии. А почему оказался здесь, не знаю.
Панвиц что-то сказал Краснову, тот послушно кивнул и продолжил прерванную речь:
– Э-ээ… прошу извинить, господа. Перед всеми нами поставлена сейчас святая цель: фюрер Гитлер разрешил нам участвовать в освобождении попранной большевиками казачьей земли, и мы… э-ээ… обязаны, не щадя жизни, выполнить это под руководством закаленных в сражениях генералов вермахта. Господину Альфреду Розенбергу, который назначен на высокий пост имперского министра восточных территорий, уже дано фюрером указание – вооружить формируемые нами казачьи воинские соединения… э-ээ… самым современным оружием.
«Атаман» многозначительно посмотрел на Панвица, поднял дряблый кулак и гаркнул торжественно:
– Сегодня, в этот незабываемый день, мы клянемся, что оружие, врученное нам, будет в надежных руках!.. Э-ээ… славные сыны тихого Дона не посрамят казачьей чести и будут беспощадны к врагам национал-социалистской Германии! Офицеры моего штаба заканчивают разработку плана освободительного похода на Дон. Вербовщики направлены во все лагеря советских военнопленных, и к нам… э-ээ… идут сотни… нет, тысячи заблудших… Один из наших вербовочных пунктов открыт здесь, в этом клубе, в помещении бильярдной. Приглашаю всех, в ком живы честь и гордость казачества, особенно господ офицеров, принять участие в освободительном походе. Прошу после сбора пройти в бильярдную и записаться у сотника лейб-гвардии атаманского полка господина Острецова. Там же, в бильярдной, каждому из записавшихся шарфюрер герр Бетгер вручит… э-ээ… этот самый… зольдбух… персональаусвайс… одним словом, личную солдатскую книжку, дающую право на получение обмундирования и продовольствия…
«До чего же ты докатился, выживший из ума старик? – опустив голову, думал Максим. – Где же твоя гордость русского человека? Где то самое казачье мужество, о котором ты верещишь? Где твои стыд и совесть? Куда ты их засунул, господин атаман? Разве осталось в тебе что-нибудь русское? Хотя бы самая малость, хотя бы кроха какая?.. Гад ты ползучий, немецкая шавка! Ходишь на задних лапках не только перед Гитлером и Розенбергом, а даже перед паршивым фашистским унтером Бетгером, лопоухим недоростком, который будет сейчас тебе, старому русскому генералу, выписывать и вручать этот самый персональаусвайс… Какой же ты Донской атаман? Не атаман ты, а смердящее дерьмо!»
Но именующий себя атаманом всевеликого Войска Донского жалкий лысый человечек, посверкивая стекляшками пенсне, говорил и говорил о высокой миссии национал-социализма, о «новом порядке» в Европе, о ниспосланном всемогущим богом Адольфе Гитлере и закончил истеричным выкриком: «Хайль Гитлер!»
Разномастная толпа, собравшаяся в подвале, шевельнулась, заревели сотни глоток, стараясь переорать друг друга:
– Хайль Гитлер!
– Зиг!
– Хайль!
– Зиг!
– Хайль!
Оглохший от этого дикого рева, скрипа и грохота сдвигаемых тяжелых скамей, Максим не сразу заметил, как к гестаповцу Фролиху подошел перепоясанный ремнями вдоль и поперек молодой немецкий капитан с Железным крестом на груди, повел головой в сторону Максима с Барминым и всех троих увлек за собой к столу, возле которого все еще оставались группенфюрер фон Панвиц и генерал-лейтенант Краснов. Приблизившись к ним, капитан слегка подтолкнул вперед Бармина, потом Максима и сказал по-русски:
– Генерал! Я хочу представить вам прибывших из Советского Союза ваших соотечественников, которые выразили желание сражаться против большевиков под вашим командованием: князь Петр Бармин, хорунжий Максим Селищев.
Краснов кашлянул, посмотрел на представляемых сквозь пенсне, изобразил на гладко выбритом лице подобие улыбки и протянул потную руку с коротко остриженными, затвердевшими от старости ногтями.
– Я очень рад, господа, – сказал он. – Рад тому, что не только здесь, в странах, где мы столько лет находились в изгнании, но и там… э-э… на родине нашей, есть еще честные, мужественные люди… э-ээ… которые служат России.
И тут Максим Селищев отчеканил, глядя прямо в глаза ему:
– Так точно, господин генерал! Мы с князем Барминым служим России.
2
Через Огнищанку днем и ночью проходили отступавшие советские войска. Угрюмые, темные от пыли бойцы шагали молча и, как правило, не соблюдая строя. Над деревней будто повис и раскачивался из стороны в сторону слитный гул отступления: громыхание черных, побывавших в огне танков, надрывное рычание грузовых автомобилей, монотонный скрип и позванивание обозных повозок, ржание взмыленных лошадей. В повозках и автомобилях, прижимаясь друг к другу, сидели и лежали раненые.
Ранняя осень успела сорвать с деревьев почти всю листву, но днем еще пригревало солнце, и тогда над ранеными начинали кружиться назойливые мухи. Они садились на грязные, пропитанные кровью бинты, жалили руки и лица… Девушки-санитарки, разгоняя мух, обмахивали раненых платками, сломанными ветками акации, марлевыми полосками.
Где-то за огнищанским кладбищем, за Казенным лесом, непрерывно погромыхивала артиллерийская канонада, но никто из отступавших вроде бы не вслушивался в это отдаленное громыхание. От усталости они едва волочили ноги и, казалось, были равнодушны ко всему.
Так продолжалось три дня. На исходе четвертых суток, под вечер, движение прекратилось. Дмитрий Данилович Ставров, накинув на плечи стеганку, вышел на улицу. Деревня выглядела вымершей. Напуганные отступлением, огнищане засветло запирались в своих избах. Орудийный грохот слышался все ближе.
Гнетущая тоска и острая тревога овладели Дмитрием Даниловичем. Трое его сыновей и зять – муж единственной дочери – были в действующей армии. Страх за них был значительно сильнее страха за себя, хотя Дмитрий Данилович каждый день читал в газетах, как зверствуют гитлеровцы на оккупированной территории, какие мучительные пытки применяют при захвате советских работников. А ведь он, несмотря на возвращение с фронта Ильи Длугача, все еще оставался временным председателем Огнищанского сельсовета: Длугач был тяжело ранен, у него ампутировали ноги и руку, он лежал дома, почти не поднимаясь.
Неделю назад из Пустопольского райкома партии приезжал второй секретарь, собрал деревенский актив, сказал, что район в опасности, посоветовал угнать подальше колхозный скот и эвакуироваться всем партийным и советским работникам. С угоном скота ничего не получалось, потому что отступающие на этом направлении войска полмесяца вели бои в окружении и изрядно наголодались. Пришлось отдать им всех колхозных коров и телят. А эвакуировались лишь две учительницы – одна из хутора Костин Кут, другая из Калинкина. Дмитрий Данилович от эвакуации воздержался.
«Куда нам со старухой уходить! – рассуждал он. – Кому мы нужны? Где ж нас будут искать сыновья, если после войны останутся живы? Нет, уж лучше подожду их здесь, может, как-нибудь обойдется».
Но в этот тихий пасмурный вечер Дмитрий Данилович пожалел, что остался в Огнищанке. Маловероятно было, чтобы гитлеровцы не тронули его. Ведь газеты не только пишут об их зверствах, но и фотографии печатают такие, что жутко смотреть.
Запахнув стеганку, он одиноко стоял у ворот, курил, тоскливо всматриваясь и вслушиваясь в темноту. Вдруг совсем близко загрохотала повозка. Погрохотала и смолкла, – видно, остановилась внизу, у колодца, возле избы Тоньки Тютиной. Потом вновь стало слышно позвякивание колес о пересохшую землю и тяжелое дыхание наморенных коней. Поравнявшись со Ставровым, кони остановились. К Дмитрию Даниловичу подошел человек в накинутой на плечи шинели. На мгновение сверкнул во тьме луч ручного фонарика.
– Ты, товарищ, будешь здешним председателем сельсовета? – глуховато спросил подошедший.
– Я, – отозвался Дмитрий Данилович. – А вы кто такой и чего от меня хотите?
– Командир батальона я буду, капитан Нурмухаммедов, – последовал ответ. – А в повозке комиссар мой лежит, сильно раненный. В живот он ранен, кровью истекает. Нельзя ему ехать в повозке дальше, не довезем мы его, умрет комиссар. Женщина там, внизу, сказала, что ты сам доктор. Прошу тебя: оставь комиссара, спрячь его, помоги ему, товарищ председатель-доктор! Он золотой человек. Мы не забудем твою помощь, дорогой доктор.
Дмитрий Данилович заколебался: отказать в таком случае нельзя, а принять раненого опасно – и для него и для себя. Куда его спрячешь, если немцы в деревню придут?








