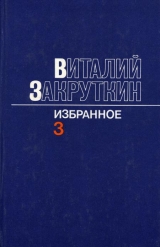
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
– Какой же все-таки ответ на русский ультиматум дал командующий? – спросил Юрген у Тенгельманна.
– Вы не хуже меня знаете нашего командующего, – то ли с сочувствием к Паулюсу, то ли с упреком ему ответил Тенгельманн. – Генерал наш ни за что не нарушит присяги, хотя прекрасно понимает, что только капитуляция может избавить от голодной смерти и уничтожения в неравном бою десятки тысяч подчиненных ему солдат и офицеров. Конечно, Паулюс передал текст ультиматума Гитлеру, испрашивая при этом разрешения на свободу действий.
– А что же Гитлер?
Тзнгельманн безнадежно хмыкнул и произнес совсем упавшим голосом:
– Фюрер наотрез запретил капитуляцию. Заявил, что с Волги он не уйдет. Приказал биться до последнего солдата. Так что не только солдаты, а и мы с вами должны готовиться к смерти.
Рот Юргена Рауха искривился в жалком подобии улыбки.
– Что ж, господа, возблагодарим фюрера, этого величайшего полководца, за то, что он уже списал нас в расход – решил похоронить в Сталинграде всю шестую армию и четвертую танковую. Сегодня после полудня русские устроят нам погребение…
Раух ошибся лишь насчет срока. После того как истекло время, названное в ультиматуме, советские генералы терпеливо ожидали еще семнадцать часов, давая командованию противника возможность обдумать положение и сохранить жизнь множеству обреченных немецких солдат и офицеров. Только 10 января в 8 часов 04 минуты тысячи пушек, гаубиц и минометов обрушили свой удар на позиции окруженных войск Паулюса. Испепеляющий ураган огня и металла бушевал весь день, не прекратился и ночью. От него нигде не было спасения.
Паулюс несколько раз просил у Гитлера разрешения прекратить никому не нужную кровавую бойню, сцепив зубы, лаконично доносил, что войска 6-й армии деморализованы, что голодные, обмороженные, обессиленные эпидемией тифа и повальной дизентерией солдаты не могут оказать русским сопротивление. Но из ставки фюрера, далекой от сталинградского ада, следовал один и тот же ответ: «Капитуляцию запрещаю. Приказываю сражаться до последнего патрона и до последнего солдата».
Юрген Раух как потерянный бродил по мрачным, холодным норам, в которых размещался штаб 6-й армии, молча смотрел, посвечивая фонариком, как валяются на бетонных полах похожие на привидения солдаты, даже не пытающиеся подняться при появлении офицера с красными лампасами. [13]13
Красными лампасами обозначалась принадлежность офицера к генеральному штабу сухопутных войск Германии.
[Закрыть]Заходил он и в подвалы, где вперемежку с окоченевшими трупами лежали раненые. Некоторые из раненых еще стонали и шевелились, другие – таких было большинство – молча задыхались в удушливом зловонии гниющих, обовшивевших тел: они примирились с неизбежностью смерти. Медленное умирание огромной, некогда гордой своими победами армии показалось Юргену Рауху кошмарным сном.
И все же, пятясь под напором советских войск, катастрофически поредевшие дивизии генерал-полковника Паулюса огрызались, как могли, расстреливали последние боеприпасы. Подвоз боеприпасов почти полностью прекратился после того, как сдали Питомник, где могли садиться немецкие транспортные самолеты. Теперь у окруженных оставалась единственная взлетно-посадочная площадка близ Сталинграда, и однажды Юргену Рауху довелось увидеть…
К самолету, вырулившему на взлетную полосу, кинулась толпа раненых. Они сбились вокруг приставного трапа, поднимая над головами перевязанные грязными тряпками культи ампутированных рук, выставляя напоказ загипсованные ключицы, кричали, плакали, ругались, падали перед летчиками на колени. А солдаты из полевой жандармерии избивали их прикладами карабинов, валили с ног, расчищая дорогу санитарам с носилками, подносившим «самых тяжелых». Тут же бесчинствовала кучка истощенных, но с виду совершенно невредимых офицеров. Швырнув на землю туго набитые чемоданы, размахивая пистолетами, они расталкивали и раненых и жандармов, с бесстыдной наглостью протягивали летчикам пачки денег, цеплялись за поручни трапа до тех пор, пока стоявший наверху летчик не ударил кого-то из них сапогом в лицо. Только после этого тяжело загруженный самолет, убыстряя разбег, устремился вперед, а за ним, спотыкаясь и падая, бежали и бежали теряющие силы искалеченные люди…
Раух немало был удивлен, что как раз в это время в Сталинград прилетел его кузен Конрад Риге. Они встретились под каменной лестницей дотла сожженного дома. Конрад угостил Юргена превосходным французским коньяком и стал торопливо рассказывать о цели своего визита в 6-ю армию.
– У нас дома службой безопасности вскрыто несколько тайных организаций коммунистов. Сотни этих негодяев безжалостно казнены, но на их место встают новые. Самое же неприятное заключается в том, что некое подобие заговора существует как будто даже среди военных высоких рангов. Вот я и прилетел сюда допросить одного полковника. Есть сведения, что он связан с очень важными должностными лицами из числа подозреваемых.
Юрген Раух невесело усмехнулся:
– Боюсь, что, пока ты будешь заниматься допросами, русские захватят наш последний аэродром и тебе придется самому отвечать на их вопросы. И русские, Конрад, тебя не пощадят, можешь в этом не сомневаться.
Лицо Конрада Риге стало серым. Но он тоже попытался изобразить подобие улыбки.
– Не пугай меня, дорогой кузен… Впрочем, ты, пожалуй, прав; лучше мне плюнуть на этого паршивого полковника, засвидетельствовать свое прибытие в штабе армии и подобру-поздорову махнуть на моем «шторхе» в обратный путь.
Конрад поднялся с разбитого снарядного ящика, проглотил одним глотком большую рюмку коньяка и спросил с притворной озабоченностью:
– Может, и тебе пора ретироваться из этого лагеря смертников? А? Давай-ка решай, пока не поздно. Место в «шторхе» есть, пилот у меня опытный. Какой черт в этом вашем борделе узнает, куда ты девался? Завтра мы уже будем в Берлине, обнимешь свою Ингеборг, а в случае каких-либо придирок твой всемогущий тесть отведет от тебя все неприятности.
– Нет, Конрад, – твердо сказал Раух, – мне с тобой не по пути. Наши дороги ведут в разные стороны. А ты не задерживайся, потому что русские танки могут появиться здесь каждую минуту.
– Что ж, дело твое, – пугливо озираясь, пробормотал Риге и протянул руку. – Прощай, Юрген, да хранит тебя бог…
Опираясь плечом об острый разлом кирпичной стены, слегка опьяневший Раух долго следил за тем, как длинноногий Риге трусливо бежал по протоптанной среди развалин тропе и как рыжие его следы исчезали под крупными хлопьями обильно падавшего чистого снега.
Во второй половине января советские генералы вторично направили командующему 6-й армией предложение о капитуляции и опять по приказу Гитлера оно было отвергнуто. В тот день Юрген Раух очутился на командном пункте генерал-полковника Паулюса, в подвале универмага. Он застал там скопище знакомых и незнакомых офицеров: одни из них, забившись в темные углы, нервно рылись в чемоданах, вышвыривая ненужные вещи, другие прямо из бутылок пили шнапс, третьи напряженно прислушивались к голосам, доносившимся из-за дощатой перегородки, – там шло совещание генералов. Пользуясь правом представителя генштаба, Раух молча кивнул молодому адъютанту и открыл заскрипевшую дверь.
На длинном, грубо сколоченном деревянном столе, в густом сигарном дыму тускло светилась электрическая лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору. Вокруг нее распластались затерханные карты, испещренные разноцветными стрелами, дугами и овалами. Над картами колдовал, как всегда чисто выбритый и подтянутый, начальник штаба армии генерал-майор Шмидт. Речь держал генерал Зейдлиц:
– С меня довольно, господа! Я не могу простить себе того, что в угоду чьей-то прихоти отдал на растерзание девять дивизий! В благодарность за эту мясорубку фюрер изволил в качестве успокоительной пилюли послать мне хорватский орден. А известно ли вам, как посмотрели на такое дурное шутовство мои офицеры?.. Этого не передать словами, и я больше не подчиняюсь приказам фюрера! Нам говорят, что мы героически умираем во имя великой Германии. Чудовищная ложь! Мы предаем Германию и свой народ!.. Нет, нет, с меня довольно! Я не могу и не хочу стать палачом моих несчастных солдат. Если угодно, можете арестовать меня, можете расстрелять, но я заявляю с полной ответственностью перед армией и немецким народом: мною будет отдан приказ о капитуляции остатков пятьдесят первого корпуса.
– Четырнадцатый танковый корпус вынужден последовать этому примеру, – подавленно сказал генерал Шлемер. – Иного выхода, господин командующий, я не вижу.
Только после этих слов Юрген Раух заметил одинокую фигуру сидевшего на железной койке Паулюса. Высокий, худой, с еще более удлинившимся и без того продолговатым лицом, он, по-видимому, совсем не слушал, что говорили командиры корпусов, совершенно отстранился от всего того, что было вокруг, – от этого убогого, пропитанного табачным дымом закутка, от теснившихся здесь людей, от разбросанных по столу теперь уже никому не нужных карт, на которых красные стрелы обозначали трагический конец всего, чем жил Фридрих Паулюс, пятидесятитрехлетний командующий наголову разгромленной армии, жалкие остатки которой умирали за стенами холодного, сырого подвала.
Юрген Раух искренне пожалел его, слывшего человеком очень порядочным, нравственно чистоплотным, хотя именно Фридрих Паулюс три года назад, будучи начальником оперативного управления генерального штаба, принял самое деятельное участие в разработке так называемого плана «Барбаросса», предполагавшего разгром и уничтожение Советского Союза. А теперь вот сидит согбенный, осыпаемый горькими упреками уважаемых им генералов и в ответ этим ранящим его упрекам не может произнести ни одного слова. Когда же он сломался? Не в самом ли начале вторжения вермахта на советскую землю, когда его стали одолевать первые мучительные сомнения в правомерности того, что по воле Гитлера должны были делать немецкие солдаты и офицеры? Ведь это он, Фридрих Паулюс, в рамках данной ему власти отменил в своей армии страшную директиву о физическом истреблении пленных комиссаров. Это он же отменил до глубины души возмутивший его приказ Рейхенау о поведении немецких солдат на оккупированной территории России, о повсеместном уничтожении евреев. Это он, Паулюс, в первые же дни окружения 6-й армии несколько раз просил разрешить ему оставить Сталинград. Это он, как только убедился, что 6-я армия обречена на разгром, что она приносится в жертву жестоким и нечистым политическим целям, и жалея своих голодных, обессиленных болезнями солдат, снова и снова просил сохранить им жизнь, капитулировать перед русскими, сдаться на милость победителей…
«Почему же он молчит? Почему не решается нарушить запрет Гитлера? – думал, глядя на командующего, Юрген Раух. – Что сейчас творится в его душе? Какие муки одолевают его? Почему не прислушивается к голосу ближайших своих соратников, не отвечает им?»
– Меня, господин командующий, удивляет ваше молчание, – сдерживая гнев, сказал генерал Зейдлиц. – Что вы в конце концов решаете в данной обстановке?
И тут Паулюс впервые поднял затуманенные тоской глаза и произнес фразу, которую долго помнили его подчиненные:
– Я выполняю приказ…
А развязка приближалась неотвратимо. 22 января советские войска приступили к расчленению и окончательному разгрому 6-й армии.
Последние дни боев слились в сознании Юргена Рауха как непрерывный калейдоскоп смертей: под пулеметным огнем падали солдаты, бросившие свои окопы в степи и устремившиеся в город, надеясь найти там спасение в подвалах; сотнями умирали под открытым небом раненые; гибли под ударами авиации штабы. Однако больше всего поразило Рауха то, что он увидел на одной из окраинных улиц Сталинграда. Там, в длинном овощехранилище, случайно уцелевшем от бомбежек и артиллерийских налетов, лежало свыше трехсот больных дизентерией немецких, итальянских и румынских солдат. Едва он, Юрген Раух, еле-еле справляясь с тошнотой, зажимая нос платком, вышел из этой зловонной ямы на воздух, как из-за соседних развалин показалась группа солдат с факелами в руках. Во главе ее брел пьяный фельдфебель. Он что-то сказал солдатам, и те стали поджигать составленные из камышовых матов стены овощехранилища.
– Вы что, с ума сошли? – закричал Юрген. – Ведь там живые люди! Вам известно?
– Так точно, герр оберст, – отчеканил фельдфебель, не разглядевший в полумраке знаков различия Рауха. – Наша дивизия покидает этот район, и мне приказано уничтожить данный объект.
– Вместе с людьми? – холодея от ужаса, спросил Раух.
– Так точно, герр оберст, вместе с людьми, – повторил фельдфебель. – Дело в том, что эти люди не могут двигаться.
Камышовые маты, едва скрепленные проволокой, уже пылали, рассыпая искры. До слуха Юргена донеслись душераздирающие крики. Он отвернулся от страшного зрелища, заткнул уши и, не оглядываясь, побежал по засыпанной снегом улице…
На следующий день вместе с генерал-полковником Паулюсом и сопровождавшими его офицерами Раух побывал в городской тюрьме, за толстыми стенами которой укрывались несколько корпусных и дивизионных штабов, потерявших связь со своими частями. Не зная, что делать и что предпринять, подавленные командиры в напряженном молчании дожидались решения своей участи. Когда Паулюс вошел в одну из просторных тюремных камер на первом этаже, находившийся там генерал Даниэльс после короткого рапорта кивнул на массивную железную решетку в окне:
– Обстановка весьма символичная, господин командующий.
Серые стены камеры были испещрены надписями, нацарапанными прежними ее обитателями – ворами, грабителями, аферистами. В одну из стен был вделан металлический столик, и на нем стояла недопитая бутылка рома. На полу валялись окурки и обрывки бумаг. Паулюс задержал взгляд на ржавой решетке и, не меняя выражения осунувшегося хмурого лица, сказал:
– Да, генерал Даниэльс, я разделяю ваше мнение. Это действительно символ нашего ближайшего будущего. И мы, кажется, того заслужили.
24 января он радировал в Берлин:
«Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию».
Гитлер запретил капитуляцию и на этот раз. А 26 января расчлененная на две части сталинградская группировка немецких войск стала сдаваться в плен отдельными полками и дивизиями, уже ни у кого не спрашивая на то разрешения из-за невозможности связаться с вышестоящими командирами. Однако разрозненные очаги немецкой обороны, особенно занятые эсэсовскими частями, все еще сопротивлялись. Уличные бои бушевали, то чуть затихая, то вспыхивая с прежней силой.
30 января, после долгих уговоров начальника штаба армии генерала Шмидта, человека властного и тщеславного, жаждавшего войти в историю как истинный потомок Нибелунгов, Паулюс подписал, не читая, поздравление Гитлеру с десятилетием прихода нацистов к власти. В послании этом была такая строка: «Над Сталинградом еще развевается знамя со свастикой». По иронии судьбы эта строка превратилась в злую насмешку, прежде чем была прочитана Гитлером…
Едва ранние зимние сумерки окутали городские руины, в подвале универмага появился командир дивизии, оборонявшей центральную площадь, генерал Росске. С трудом переводя дыхание, он долго стоял у дощатой перегородки, отделявшей каморку командующего от размещенных в подвальных тоннелях отделов штаба армии, наконец распахнул скрипучую дверь и замер у входа.
Паулюс поднял голову, настороженно спросил:
– Что у вас, Росске?
– Господин командующий! К сожалению, дивизия больше не в состоянии оказывать сопротивление превосходящим силам противника, – заикаясь и проглатывая слова, доложил генерал. – Русские танки приближаются к универмагу, их сдерживает жалкая горстка моих солдат. Это конец…
Наступило долгое молчание. Командир разгромленной дивизии, выжидая, стоял у порога. За перегородкой лихорадочно перешептывались штабные офицеры. От близких разрывов тяжелых снарядов глухо стонала земля и вздрагивали крепкие стены универмага.
– Идите, Росске, – устало сказал Паулюс. – Рано или поздно это должно было случиться… Прощайте. Мне надо прилечь…
Всю ночь в подвале универмага не прекращалась нервозная толчея. Десятка полтора офицеров, сбившись в углу, пили до одурения шнапс. Кто-то проклинал Гитлера. Кто-то ругал Геринга, Манштейна. Офицеры полевой жандармерии срывали с себя знаки различия, уничтожали личные документы. Старший адъютант командующего полковник Адам то и дело выходил из подвала – проверял охрану штаба, вслушивался в пушечную и пулеметную стрельбу.
Совсем близко разорвался снаряд. Тонкая дверь в каморку генерал-полковника Паулюса распахнулась. Юрген Раух заметил, что командующий лежит на железной койке, повернувшись лицом к стене. Никто уже не обращал на него внимания, ничего ему не докладывали, ни о чем не спрашивали.
Только перед рассветом к командующему стремительно вошел начальник штаба армии генерал Шмидт. Он осторожно тронул дремавшего Паулюса за плечо и торжественно провозгласил:
– Я хочу поздравить вас!
Присев на койке, Паулюс посмотрел на него брезгливо и настороженно:
– Что за чушь?.. Вы не пьяны?.. С чем это вам вздумалось поздравить меня?
Начальник штаба почтительно подал ему листок бумаги с текстом радиограммы.
– Только что получена. Фюрер пожаловал вас чином генерал-фельдмаршала.
Паулюс взял из рук Шмидта бумагу, скользнул по ней равнодушным взглядом и положил на стол. Его тонкие губы искривила усмешка.
– Это пожалование, вероятно, надо понимать как приказ о самоубийстве. Однако такого удовольствия я фюреру не доставлю…
А вверху, на площади, с каждым часом все громче трещали пулеметные и автоматные очереди. Огневой бой приблизился вплотную к универмагу.
Поднявшись на полуразбитый ящик, Юрген Раух выглянул в окно-бойницу. У кирпичных развалин, окружавших площадь, он заметил фигуры советских бойцов. Они то появлялись, то исчезали, не решаясь, по-видимому, на последний рывок. Но вот другая штурмовая группа, численностью не меньше пятидесяти человек, замелькала среди деревьев изуродованного сквера и короткими перебежками устремилась к универмагу.
Один из штабных офицеров крикнул что-то столпившимся у входа в подвал солдатам охраны, те защелкали автоматами, но появился полковник Адам и громогласно объявил:
– Командующий приказал не стрелять!
Вынув из кармана носовой платок, Адам развернул его и, подняв над головой, вышел на площадь. У распахнутых дверей своего закутка показался фельдмаршал Паулюс. Бескровные губы его были плотно сжаты, шинель аккуратно застегнута на все пуговицы. Сделав несколько шагов, он остановился. Посвечивая ручными фонариками, в подвал вошли люди в белых полушубках, с красными звездами на шапках. Тот, который шел впереди – видимо, старший, – вежливо приложил руку к шапке, что-то сказал Паулюсу и посторонился. Фельдмаршал, опустив голову, медленно пошел мимо него к выходу. За командующим последовали офицеры штаба армии с чемоданами, баулами, саквояжами в руках. Они шли, спотыкаясь, обходя опрокинутые табуреты и стулья, растерянные, давно утратившие свой прежний лоск и выправку, – лишенное вожака человеческое стадо. Слева и справа от них редкой цепочкой выстроились затянутые ремнями советские командиры.
Прижимаясь к холодной, сырой стене, Юрген Раух пристально следил за всем, что происходило здесь. От глаз советских командиров его укрывало пока нагромождение железных тачек, которыми, очевидно, пользовались когда-то грузчики универмага.
Когда в темном проходе скрылись спины конвоиров, сопровождавших Паулюса и его штаб, Раух вынул из кобуры новехонький, сверкнувший синевой «вальтер», из которого ни разу не стрелял, осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания, дослал патрон в патронник и как бы окаменел…
На какую-то долю секунды Юргена охватило горькое чувство вины перед кем-то, запоздалое раскаяние и саднящая жалость к себе. Он зажмурился. Сдерживая слезы, судорожно глотнул слюну, решительным движением поднес пистолет к виску и нажал спусковой крючок.
Двое советских офицеров побежали на звук выстрела. За наваленными одна на другую железными тачками увидели запрокинутое навзничь мертвое тело. Посветили фонариком. На плечах убитого сверкали погоны подполковника. Один из офицеров склонился над трупом, расстегнул шинель самоубийцы, достал из мундира документы и небрежно сунул в свою полевую сумку, высказав предположение:
– Хорош, видать, гусь! Недаром красные лампасы на портках…
Через два дня генерал Рокоссовский донес Верховному Главнокомандующему: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.2.43 года закончили разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки противника. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились…»
Оставалось провести здесь черную и печальную работу – погребение мертвых немецких солдат. На нее пришлось затратить несколько месяцев. Обледенелыми трупами была усеяна вся приволжская степь. Будто поленницы дров, присыпанные снегом трупы лежали вдоль стен разрушенных сталинградских домов, валялись в подвалах и на лестничных маршах. Множество трупов было придавлено горами битого кирпича, впрессовано танками в полотно дорог…
По подсчетам похоронных команд, на месте отгремевшей Сталинградской битвы было собрано и погребено более ста сорока семи тысяч немецких солдат и офицеров.
Вперемежку с трупами там и сям обнаруживались раненые, обмороженные, больные сыпным тифом и дизентерией. Немецкое командование заживо списало их в число безвозвратных потерь, но советские врачи постарались спасти от гибели хотя бы часть этих несчастных людей. И спасли немало, сами порой заражаясь при этом и расплачиваясь собственной жизнью.
Что же касается главного виновника трагедии – Гитлера, то к тому моменту, когда опустился занавес, он успел уже примириться с потерей 6-й армии, лишь сдача в плен Паулюса оказалась для него неожиданностью.
– Паулюс обязан был застрелиться, – сказал Гитлер новому начальнику генерального штаба Цейтцлеру и, сатанея от злости, ударил кулаком по столу. – Все! До конца войны никто больше не станет фельдмаршалом! Слышите, Цейтцлер! Никто! Новые фельдмаршалы появятся только после войны.
Скрыть гибель 6-й армии было невозможно. В Германии объявили по этому случаю трехдневный траур. На трое суток закрылись все рестораны, дансинги, ночные бары. Сотни репродукторов разносили по берлинским улицам мрачную музыку Вагнера. Сотни тысяч немцев оплакивали своих близких, погибших у стен далекой волжской твердыни.
А кровавая война все еще продолжалась.
4
После долгих скитаний по лесам белорусского Полесья и многочисленных диверсий в глубоком вражеском тылу отряд Федора Ставрова, продолжавший считать себя кавэскадроном, напал в марте 1943 года на след партизанской бригады, которая имела регулярную связь с Москвой и даже принимала на своей базе советские самолеты. Командир бригады – бывший директор леспромхоза, участник гражданской войны, крепкий, энергичный Аким Петров встретил Федора с распростертыми объятиями. Любуясь им, комбриг рокотал густым басом:
– Так вот ты, братец, какой! Я не раз про твой эскадрон слышал от наших полещуков. Они тебя неуловимым называют. Летает, говорят, этот политрук с алыми звездами на рукавах по всей Белоруссии и добре дает прикурить оккупантам.
Федор ответил сдержанно:
– В меру сил стараемся. По-кавалерийски воюем. Стремительный маневр – основа нашей тактики.
– Да, уж что-что, а маневр у тебя – дай бог, – похвалил Петров. – Мои разведчики – народ тертый – десятки раз по твоим пятам ходили, а встретиться с тобой не смогли. Возвращаются, понимаешь, и только руками разводят: черта лысого, мол, этого вьюна настигнешь, исчезает, как иголка в сене…
В партизанской бригаде Федор пробыл три дня. Ему удалось не только доложить о действиях эскадрона Центральному штабу партизанского движения, но и снестись при помощи этого штаба с командованием своего кавкорпуса. Оттуда последовало указание: в дальнейшем взаимодействовать с бригадой Петрова и, если есть возможность, сохранить как внешний облик, так и все качества боевого подразделения Красной Армии. Одновременно сообщалось, что политрук Ставров, его заместитель младший лейтенант Найденов и старшина Кривомаз награждены орденами Красного Знамени, а наиболее отличившиеся бойцы, о которых Федор доложил по радио, удостоены других орденов и медалей. Из Москвы в ближайшее время должен был прибыть специальный посланец для вручения этих наград.
Аким Петров от души поздравил Федора, пошутив при этом:
– Ты хоть сейчас не носись как угорелый, не заставляй московского товарища гоняться за тобой. Он, брат, не то что мои разведчики: обидится на твою непоседливость и увезет награды обратно в Москву.
– Зачем же их возить туда-сюда? Лучше уж вы, Аким Никифорович, разделите наши награды между своими ребятами, – отшучивался Федор.
После переговоров с Большой землей командир эскадрона стал еще требовательнее к подчиненным. Старшина Иван Иванович Кривомаз еще ревностнее следил за строевой выправкой бойцов – за тем, чтобы поясные ремни у всех были затянуты «до отказа», чтобы у каждого «сверкали як месяц ясный» и клинок, и шпоры, и обувь. А Женя Найденов, добыв кусок легкого огненно-красного шелка, выкроил из него эскадронный штандарт, на котором Тина Тихомировна вышила золотыми буквами: «За Советскую Родину».
В любую деревню, любое село, если только не требовалось предварительно выбить оттуда немцев, эскадрон вступал во всей своей красе. Впереди на гнедом белоногом жеребце ехал Федор. За ним – Женя Найденов с трепещущим, будто живой огонек, штандартом на тонком, ровном, как стрела, древке. Затем – сабельные взводы, пулеметные тачанки, небольшой эскадронный обоз. И наконец, как положено на строевом смотру, – замыкающий всадник со старшинскими регалиями.
Даже если по каким-то причинам не было возможности созвать деревенский митинг – хотя Федор считал это обязательным – и рассказать там о положении на фронтах, о своих боевых делах в тылу противника, то и тогда один только вид подтянутого, дисциплинированного советского кавэскадрона ободрял людей, исстрадавшихся в оккупации, окрылял их надеждами, оттаивал им душу.
Появились и легенды. По слухам, передававшимся из деревни в деревню, уже не полторы сотни всадников, а будто бы тысячи отлично вооруженных бойцов Красной Армии, чуть ли не три или даже пять советских кавалерийских корпусов рейдируют в Полесье.
При очередной встрече с Федором командир партизанской бригады Аким Петров сказал, посмеиваясь:
– Ну, братец, нагнал же ты фрицам страху. После твоего налета на хутор Валки четверо бежавших оттуда немецких зенитчиков напоролись на одну нашу заставу. Стали мы их допрашивать, а они от страха зубами клацают и все четверо заявляют, что фронт, мол, прорван, по тылам немецких войск носятся несметные силы регулярной советской кавалерии, все сокрушая на своем пути. Валки, по их показаниям, были атакованы целым полком. Паникуют, мать их за ногу!
– А разве это плохо? – спросил Федор, уловив в голосе комбрига какие-то странные нотки.
Петров помедлил с ответом, пристально посмотрел на чисто выбритого Федора, на его аккуратно подстриженные темные усы и проговорил задумчиво:
– В общем-то неплохо, дорогой ты мой политрук. Только знаешь, что я хотел тебе сказать?.. Не слишком ли ты гусаришь? Не заносит ли тебя с этими твоими синими петлицами, эмблемами, шпорами? Не пренебрегаешь ли нами, грешными? Вы, дескать, одно, я совсем другое. У вас, мол, колхозные привычки, колхозные порядки, а я вот выеду на своем красавце жеребце, остановлю его перед строем под красным штандартом, скомандую зычно своим молодцам-гусарам: «В ата-а-ку а-арш-а-арш!» – и мне сам черт не брат… А? Так ты рассуждаешь, товарищ политрук, или по-иному?
Федор обиделся:
– Это вы зря, Аким Никифорович. Я не исключаю свой эскадрон из числа всех прочих партизан. Скажу больше: завидую таким, как вы, вашему личному авторитету среди местного населения, вашим связям с народом, потому что вы здесь у себя дома, а я как-никак человек пришлый, можно сказать, гость. Однако делаем мы одно дело – и делаем так, как умеем, как считаем лучшим. Что касается меня, то я с первого дня окружения дал себе клятву: непременно вывести эскадрон на соединение со своими войсками как воинское подразделение, спаянное армейской дисциплиной. И этого добьюсь, Аким Никифорович. Конечно, если буду жив.
– Да нешто я тебе препятствую? – примирительно воскликнул Петров. – Действуй как знаешь. Только действуй!..
В тот вечер они договорились вместе осуществить налет на расположенные в трех больших деревнях немецкие склады оружия, горючего и провианта. Деревни примыкали к магистральному шоссе и тщательно охранялись довольно сильными гарнизонами, под единым командованием штурмбаннфюрера Фосса. Общая численность охраны достигала пятисот человек. На вооружении у нее имелись тяжелые минометы, несколько пушек и четыре танка.
Удар главными силами был назначен на четыре часа утра. Эскадрону Федора Ставрова комбриг поставил задачу: с вечера укрыться в лесу, первым атаковать деревню Опалиха и отрезать немцам пути отхода из двух других деревень, на которые обрушится бригада Петрова.
Все удалось как нельзя лучше. Бой продолжался два с половиной часа. Отряд Фосса, застигнутый врасплох, был уничтожен почти полностью. Лишь самому Фоссу с небольшой группой солдат удалось прорваться на шоссе. Там их подхватила колонна порожних грузовиков, направлявшихся на склад, но вынужденных повернуть обратно.
В самую большую из трех освобожденных деревень, где был назначен общий сбор партизан после боя, эскадрон Федора Ставрова прибыл только в девятом часу. Моросил мелкий холодный дождь. Под копытами коней чавкала жидкая грязь. На залитой лужами улице, под заборами, во дворах валялись трупы полуодетых эсэсовцев.
В толпе деревенских женщин Федор увидел опоясанного пулеметными лентами высокого парня из бригады Петрова. Спросил его:
– Где комбриг?
Парень махнул рукой в сторону церкви. Пояснил:
– Там наши хлопцы сволочь одну подловили и вздернули на телеграфный столб, на котором он, гад, больше десятка советских людей перевешал.
Одна из женщин, повязанная дырявым шерстяным платком, подошла к Федору, подняла на него заплаканные глаза и, поглаживая потную шею жеребца, добавила:
– Этот зверюка пришел до нас вместе с немцами. Откуда он взялся, бес его знает. Чутка у нас шла, что за убийство был осужден и из тюрьмы не вылезал. Ленькой звали. Чернявый такой, и вся морда волосом заросла. Немецкий комендант повязку ему на рукав повесил, два левольвера выдал, поставил начальником над всеми полицаями, и стал Ленька зверствовать: хаты грабил, молодых девчонок сильничал, двоих поранетых красноармейцев своей рукою пострелял, доченьку мою, комсомолку, на столбе возле церкви повесил…








