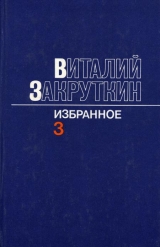
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ1
О великом множестве больших и малых войн написано великое множество больших и малых книг. Тысячелетиями о войнах писали цари, императоры, султаны, принцы, герцоги, маршалы, генералы и адмиралы, с гордостью подбивая приходо-расходный баланс: количество «чужих» и «своих» убитых, калек, без вести пропавших, умерших от голода; число сожженных, разрушенных городов и селений.
Чем больше погибало людей, чем больше было захвачено чужих земель и награблено чужого имущества, тем более высокая слава и щедрые почести воздавались полководцам, возглавлявшим армии узаконенных убийц и грабителей, которые не знали и не хотели знать пределов злобы и жестокости. Всепожирающим ураганом проносились орды захватчиков по землям обреченных на смерть ни в чем не повинных народов.
Шло время. Покорные еще не познанным законам общественного развития, исчезали построенные на человеческих костях рабовладельческие империи. Феодальные государства уступали место под солнцем новому строю – капитализму. Развивались науки, искусство, культура. Все хитрее, все изощреннее становилось угнетение людей людьми. А войны продолжались, становясь все более истребительными.
В обществе угнетателей и угнетенных лишь мечтатели-одиночки грезили о вечном мире на земле. Присяжные же философы, издеваясь над этой золотой мечтой, провозгласили войну естественным состоянием человечества, а самого человека – хищным животным, у которого будто бы от рождения заложено неодолимое желание убить себе подобного. Философы утверждали, что война – это «вечный обновитель», «очиститель человечества», «великое кровопускание, которому периодически подвержена история людей, притом не произвольно, а по определенным законам биологической циркуляции».
Готфрид Лейбниц не без грусти писал: «Вечный мир возможен только на кладбище». Иоганн Готлиб Фихте уверял, что в отношениях между государствами «нет иного права, кроме права сильного». Знаменитый Гегель настаивал: «Война вечна и нравственна, она – торжество того, кто лучше».
Убежденным и наиболее яростным проповедником войны был Фридрих Ницше. «Высококультурное и оттого утомленное и вялое человечество, – писал он, – нуждается не только в войнах вообще, но в величайших, ужасающих войнах, следовательно, и во временных возвратах к состоянию варварства; в противном случае оно из-за средств культуры может поплатиться самой культурой и своим существованием». Отвергая понятия о морали и нравственности, высокообразованный Ницше, подобно тупому прусскому фельдфебелю, поучал немецких юношей: «Будьте насильником, корыстолюбцем, вымогателем, интриганом, льстецом, низкопоклонником, гордецом и, смотря по обстоятельствам, даже совмещайте в себе эти качества…»
Все эти философы и их последователи отказывались отличать разбойничье нападение государства-грабителя на другую страну от военной необходимости страны, подвергшейся нападению, защищаться с оружием в руках. Зато делалось различие между войнами и «бунтами черни» – выступлениями рабов против своих поработителей, замордованных помещиками крестьян и нищих горожан-ремесленников против господствующих классов-угнетателей. «Бунтами» считались: восстание Спартака, французская Жакерия, действия Уота Тайлера в Англии, борьба Яна Жижки в Чехословакии и пастуха Ганса Дударя в Германии, восстание сипаев в Индии и восстание тайпинов в Китае.
«Бунты черни» имели еще одно название – «незаконные возмущения». А вместе с тем признавались не только вполне законными, но были даже объявлены «выполнением высокой цивилизаторской миссии» многочисленные колониальные войны, безжалостное истребление так называемых «диких» народов, жестокое покорение и разграбление целых континентов. Историки не подсчитали и вряд ли сумеют подсчитать, сколько человеческих жизней унесли за века эти кровавые оргии, какие немыслимые горы трупов поглотила земля, какое множество людей было обречено на смерть от голода, страданий и непосильного, рабского труда.
Настало, однако, время, когда люди впервые услышали о том, что войны бывают разные и относиться к ним надо по-разному. Одно дело, когда армии-захватчики нападают на другую страну с целью ее покорения; или когда армии империалистов-колонизаторов по-разбойничьи грабят «нецивилизованные» народы и присваивают себе право полновластно хозяйничать на их землях, в земных недрах и водах; или когда до зубов вооруженные войска правящих классов-угнетателей огнем и кровью «усмиряют» революции, карая смертью своих соотечественников. И совсем другое дело, когда, отбивая нападение захватчиков, государство ведет против них освободительную войну; или доведенные до отчаяния народы колоний начинают войну против колонизаторов; или рабочие и крестьяне восстают против отечественной буржуазии и помещиков.
Первые, то есть все захватнические, колониальные, контрреволюционные, войны Ленин называл несправедливыми, реакционными и только войны освободительные, революционные считал справедливыми…
В несправедливых, злодейских войнах было совершено неисчислимое множество жесточайших убийств, казней, пыток. Римский патриций Лициний Красс приказал распять на крестах вдоль дороги из Капуи в Рим шесть тысяч плененных им сподвижников Спартака. Горы мертвецов и черные пепелища оставляли за собой войска Навуходоносора, легионы Суллы и Мария, полчища Аттилы, Чингисхана, Тамерлана. Византийский император Василий после одного из сражений ослепил пятнадцать тысяч попавших в плен болгар, а другим, оставленным зрячими, победители отрезали руки и ноги. Японские самураи вталкивали пойманных крестьян-повстанцев в мешки и сжигали живьем.
Но ни одна из самых несправедливых, самых разбойничьих войн прошлого не может сравниться с той войной, которую спланировали против Советского Союза заправилы нацистской Германии – Адольф Гитлер и его генералы. Впервые в истории военные и гражданские чиновники государства-захватчика заранее с математической точностью подсчитали: сколько миллионов людей надо обязательно умертвить в областях России, Украины, Белоруссии, в прибалтийских республиках; сколько мужчин и женщин подвергнуть насильственной операции, обесплодить, чтобы уничтожить «биологический потенциал» советского народа; какое количество отобранных у родителей детей онемечить, превратив их в послушных рабов. На подготовленных нацистскими чиновниками картах заблаговременно было обозначено, какие советские республики, края и области отойдут к Германии, станут немецкими провинциями, а какие фюрер «подарит» своим союзникам: кондукэтурулу Румынии генералу Йону Антонеску, регенту Венгрии – адмиралу-диктатору Миклошу Хорти, диктатору Финляндии маршалу Карлу Маннергейму. В планах нацистов было перечислено все, что подлежало грабежу на советских землях: заводы и фабрики, нефть, пшеница, крупный рогатый скот, древние иконы, книги, картины, теплая одежда. В этот реестр входили даже печная сажа и лечебная грязь.
На окраинах немецких и польских городов, на пустырях и в степи строились гигантские бараки, а рядом – просторные крематории, в которых подлежали сожжению будущие узники концлагерей. Конструировались закрытые автомобили-душегубки и глухие бетонные подвалы для умерщвления людей газом и ядовитыми кристаллами.
Все было расписано.
Предварительно Гитлер обеспечил себя с тыла: были разоружены и оккупированы Австрия, Чехословакия, Польша, Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия. На удивление всему миру, молниеносно, за сорок четыре дня, войска вермахта разгромили Францию, а разбитые дивизии англичан загнали на их «опоясанный морем остров» – так фюрер изволил именовать Англию.
Советский Союз тоже должен был пасть в течение нескольких недель. С этой целью к его западным границам выдвинулись три группы армий, каждая из которых прикрывалась мощным воздушным флотом. Вместе с вермахтом выступили венгерские и румынские войска. Вся эта армада заняла исходные позиции на огромном пространстве от Балтийского моря до Черного и ждала только условного сигнала, чтобы ринуться вперед.
2
Офицер генерального штаба сухопутных войск Германии подполковник Юрген Раух за неделю до начала войны был направлен в группу армий «Юг» фельдмаршала Рундштедта, где пробыл всего три дня, а потом на самолете «физелер-шторх» перелетел в расположение подчиненной Рундштедту 1-й танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста. Там он должен был находиться до особого распоряжения.
Накануне вторжения штаб Клейста передислоцировался из Сандомира в лес юго-восточнее Замостья. Юрген Раух не без труда отыскал замаскированный густыми ветвями автобус командующего, доложил о прибытии адъютанту и через несколько минут представился Клейсту, о котором слышал много самых противоречивых отзывов.
Раух знал, что потомственный аристократ Эвальд фон Клейст был тридцать шестым в своем роду генералом. Накануне первой мировой войны, после окончания академии, служил в прославленном полку императорских «гусаров смерти». После отречения кайзера Вильгельма остался монархистом. Вместе с Хайнцем Гудерианом создавал танковые войска. За монархические убеждения был уволен Гитлером из армии, потом снова призван. В 1940 году три танковых корпуса Клейста в войне против Франции прорвали мощную линию Мажино, форсировали Маас, прижали английские войска к берегу между Северным морем и проливом Ла-Манш и сбросили бы их в море, если бы не странный приказ Гитлера остановить танки Клейста и не трогать англичан.
Один из сослуживцев по-дружески предупредил Юргена, что с Клейстом надо быть осторожным: он-де до сих пор не может забыть кайзера, а к нацистам и даже к самому Гитлеру относится с плохо скрытым презрением, нацистских офицеров считает безграмотными в военном отношении выскочками. При всем том, конечно, ума, опыта и смелости у Клейста не отнимешь, – он сумел превратить сотни танков в одну слаженную, покорную его воле машину, которая сминает и давит на своем пути любого противника. Только потому, очевидно, фюрер и терпит этого кичливого господина…
Генерал-полковник Клейст встретил Рауха, стоя у стола, покрытого картой. Это был крепкий и стройный, несмотря на свои шестьдесят лет, человек, с тяжелой челюстью, аккуратно зачесанными седыми волосами и острым взглядом светло-серых глаз. Он с полным безразличием выслушал доклад Юргена о прибытии, коротко кивнул в ответ и заговорил угрюмо:
– Надеюсь, вам известно, что моя группа нацелена на прорыв фронта Красной Армии между Равой-Русской и Ковелем, должна форсировать реку Западный Буг, выйти к Днепру в районе Киева, окружить там войска русских и уничтожить их, не допуская отхода за Днепр. Я это сделаю, но пехота моих соседей – фельдмаршала Рейхенау слева и генерала Штюльпнагеля справа – едва ли поспеет за мной, а ждать ее я не намерен, танки нельзя уподоблять черепахам. Поэтому советую вам, подполковник, следить не столько за движением моих танков, сколько за действиями полевых дивизий шестой и семнадцатой армий, докладывать своему начальству именно о них. Полагаю, вы меня поняли? Если да – можете быть свободным…
…Вечерело. Юрген Раух бесцельно побрел по широкой и длинной лесной поляне. На обочинах ее, в измятой сочной траве, бесконечными рядами выстроились танки с открытыми люками, сидели и лежали одетые в черные комбинезоны танкисты. Почти все эти люди были участниками победоносных сражений во Франции, но – странное дело – Рауху показалось, что теперь они выглядели встревоженными, как будто даже угнетенными тем, что через несколько часов им предстоит перейти границу огромной и таинственной страны. Среди танкистов не слышно было ни разговоров, ни смеха.
«Неужто боятся? – подумал Раух. – Наверное, пугают пространства России, которым нет ни конца ни края». И вдруг поймал себя на том, что он-то сам знает Россию лучше, чем все они, вместе взятые, потому что родился и вырос там, а сейчас, в этот тихий летний вечер, когда вот-вот должно свершиться то, что беспокоило и волновало двадцать с лишним лет, тоже испытывает чувство страха. Его пугали не только российские пространства с их лесами, болотами, реками, необъятными степями, бесчисленным множеством запутанных проселков и оврагов, среди которых можно потеряться. На подполковника Юргена Рауха больше всего нагоняли страх люди России – сильные, немногословные, упрямые, неприхотливые труженики. Десятки миллионов таких же, как там, в Огнищанке, откуда семью небогатых помещиков Раухов изгнали фанатики большевики.
От лесной опушки, где присел он на старый пень, было рукой подать до реки, разделявшей покоренную немцами Польшу и Советский Союз. В вечерних сумерках смутно белел одинокий пограничный столб, за которым пропадали, будто таяли, очертания едва заметных холмов и перелесков. Пройдет короткая июньская ночь, и туда с железным скрежетом, изрыгая пламя пушечных выстрелов, ринутся окутанные дымом и пылью танки, покорные воле угрюмого генерала.
Юрген Раух подумал о том, как он появится в родной Огнищанке, увидит низкий, приземистый дом, в котором родился, обнимет в парке старый тополь с вырезанными на нем инициалами «Ю. Р.». Конечно, будет там и Ганя Лубяная, та, которую он так любил и, несмотря на свою женитьбу на другой женщине, до сих пор любит, хотя и старается это прятать ото всех, даже от самого себя. Двадцать лет разлуки с Ганей сделали их любовь как бы прекрасным сновидением, о котором стыдно говорить.
Ему писали, что Ганя вышла замуж за коммуниста Демида Плахотина. Может быть, нарожала кучу детей и теперь уже не та, какой была? Но остались, не могли не остаться ее чистые, черные глаза, алый ее рот, загорелые руки, вся она, его Ганя, которую он никогда не забывал, любил и любить будет до конца своей жизни!..
На секунду в его воспоминаниях мелькнуло холеное лицо жены с оттушеванными ресницами, наигранной усмешкой и постоянно ищущим взглядом. Будто наяву он увидел полнеющую фигуру Ингеборг, туго затянутую в черный мундир с витым погоном оберштурмфюрера СС [4]4
Офицерское звание в войсках СС, соответствующее армейскому старшему лейтенанту.
[Закрыть]и золотым значком национал-социалистской партии, пожалованным Адольфом Гитлером. Это мимолетное видение не принесло радости. Юрген досадливо отмахнулся от мыслей о жене, которая – он это знал – при каждом удобном случае спала с его кузеном Конрадом Риге и почти не скрывала своей супружеской неверности, отделываясь циничными шутками.
В ту ночь Юргену Рауху было не до жены. Он все пристальнее всматривался в полосатый пограничный столб. За ним, за этим разделяющим два государства столбом, было тихо. Отдаленный, еле слышный лай собак только еще больше подчеркивал глухую, томительную тишину.
«Неужели они там ничего не чувствуют? – спрашивал себя Юрген. – Неужели не видят, что мы выдвинулись к самой границе, уже сняли проволочные заграждения и через считанные часы ринемся на их землю?»
На мгновение перед глазами явственно возникла огромная оперативная карта, он представил себе невиданно длинную, слегка изломанную линию от берегов Балтики до Днестра, на которой сейчас, изготовясь к вторжению, стояли миллионы немецких солдат: армии, корпуса, дивизии, полки, батальоны с множеством танков, пушек, минометов, пулеметов; три могущественных воздушных флота; химические и саперные войска; инженерные, автотранспортные и железнодорожные части; войска связи с мощными радиостанциями и аппаратурой подслушивания; хлебопекарни, полевые скотобойни, бани, госпитали, ветеринарная служба; полевая жандармерия и тайная полевая полиция – великое множество связанных железной дисциплиной, вымуштрованных людей, уже вкусивших сладость побед в Европе. Да, они готовы на все. Они выполнят приказ фюрера. В этом никто не должен сомневаться.
Но почему так молчаливы, так угрюмы прославленные танкисты Клейста?..
«Нет, это не трусливое сомнение в успехе, – мысленно заключил Юрген Раух, – здесь нет неверия и слабости духа. Это только понимание того, что Германия стоит перед задачей такой сложности, какую никогда не ставила перед ней история. Сегодня мы начнем решать нашу судьбу и наше будущее на тысячи лет вперед».
Он поднялся, походил вдоль лесной опушки, разминая затекшие ноги. Было еще темно, но на востоке уже стало светлеть. Вначале узкая полоса багряной утренней зари приобрела желтоватый оттенок, потом небо сделалось бледно-лимонным, ясным, только за лесом, на западе, еще держались сумеречные тени уходящей ночи.
Юрген Раух взглянул на часы и в ту же секунду услышал где-то вверху ровный, могучий гул множества самолетов. Над головой Юргена в окружении эскорта истребителей, выдерживая заданные интервалы, полк за полком плыли тяжело нагруженные бомбами «хейнкели» и «юнкерсы». На бомбежку мирных советских городов поднялся весь 4-й воздушный флот генерал-полковника Лёра, приданный группе армий «Юг».
«Началось! – мысленно воскликнул Юрген. – Сейчас заговорит артиллерия и пойдут танки».
Он прислонился щекой к холодноватому, влажному от росы стволу старой сосны и прошептал, сняв фуражку:
– Да поможет нам бог…
3
Эту летнюю ночь, тихий рассвет и ясное, полное свежести и прохлады воскресное утро Андрей Ставров запомнил на всю жизнь, потому что ему показалось, что в часы ночного одиночества он наконец стал понимать то самое значительное, самое важное в жизни, чего годами не мог понять, но что давно беспокоило его, о чем он догадывался, но никак не мог постигнуть: в чем же заключается это самое значительное и самое важное. Еще в отрочестве, задавая себе вопрос: для чего живет человек, в чем коренится смысл человеческого существования? – Андрей стал без разбора читать все, что нашел на полках огнищанской избы-читальни, вверенной ему, подростку, председателем сельсовета Ильей Длугачом. На этих грубо сколоченных полках оказались роскошные, тисненные золотом фолианты из реквизированных библиотек сбежавших помещиков Пустопольской волости, комплекты старых журналов, библия и евангелие, разрозненные собрания сочинений философов и писателей, книги Ленина и тощие, напечатанные на серой, оберточной бумаге брошюры Политпросвета. Скопище никем не просмотренных книг, на которые Андрей накинулся с жадностью! Поздними зимними вечерами, проводив десяток парней и девчат, которые приходили в избу-читальню потанцевать под залихватское треньканье балалаек, он придвигал поближе чадящую керосиновую лампу, брал с полки очередную книгу и, чумея от остатков стойкого табачного дыма, принимался за чтение.
И чем больше читал, тем больше запутывался – никак не мог ответить на мучительные вопросы: зачем появился в этом мире он сам, в чем главная цель его жизни и жизни отца, матери, братьев, сестры – всех и каждого из огнищан, до одурения работавших на земле? Есть ли у человека душа и если есть, то действительно ли она бессмертна и вечна? По библии и евангелию выходило, что душа у людей есть и, после того как умрет бренное тело – смертная человеческая оболочка, – недоступная видению душа улетает куда-то в прекрасные сады рая или низвергается в мрачные вертепы ада в зависимости от того, как прожил человек свою земную жизнь – был праведником или злодеем. Но кто создал рай и ад, солнце и звезды, землю и все, что живет на ней, – людей, зверей, птиц, деревья, реки? Бог? А какой он, этот бог? Окруженный светоносными лучами белый голубь? Строгий старец с седой бородой? Допустим. Но кто видел этого голубя или старца? Кому и когда довелось запечатлеть их на иконах? Почему пустопольский священник отец Ипполит, бабник и веселый картежник, давая прихожанам в серебряной ложечке смоченные красным вином кусочки просфоры, нараспев произносит слова о том, что вкушающие причастие люди едят тело Иисуса Христа и пьют его кровь? Кому не известно, что просфоры эти печет бабка Варвара, а вино церковный староста дед Ерофей бочонками покупает у приезжих молдаван? Какое же это божье тело? Что это за кровь? Да и к чему это свирепое людоедство?
Евангелие учило людей любви к ближнему, смирению, покорности богу, праведной жизни, душевному стремлению платить добром за зло, ставило в пример сына божьего Иисуса, принявшего смерть, чтобы искупить грехи человеческого рода. Таким образом, Иисус Христос представал перед Андреем как воплощение кротости, чистоты помыслов и деяний, защитником детей, всех угнетенных, бедных, униженных сильными мира сего, образцом для людей, которые ищут истину и хотят стать праведниками.
Стоило, однако, отложить в сторону евангелие, как рука Андрея – в который раз – непроизвольно тянулась к сочинению полунищего французского священника Жана Мелье. Из этой книги ему запомнились едкие, гневные строки о том же Христе: «А наши богохристопоклонники? Кому приписывают они божественность? Ничтожному человеку, который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был презираем в мире. Кому приписывают они ее? Сказать ли? Да, я скажу: они приписывают ее сумасшедшему, безумцу, жалкому фанатику, злополучному висельнику… Вот какому лицу священники и учителя приписывают божественность; вот кого заставляют они вас чтить как вашего божественного спасителя и искупителя, – его, который не мог спасти самого себя от позорной казни на кресте».
Жану Мелье по-своему вторил Фридрих Ницше. Этот называл Иисуса Христа «богом углов, богом всех темных закоулков и мест, всех нездоровых жилищ всего мира», «бледным и слабым декадентом-космополитом», чье «мировое царство как было, так и останется царством преисподней, госпиталем, подземным царством, царством гетто».
Путаясь, как в трех соснах, в священных и философских книгах, мысленно витая где-то в далеком прошлом, в давно ушедших веках, Андрей Ставров все же пытался понять и другое: что происходит вокруг него или минуло совсем недавно. И неожиданно пришел к выводу: «Вера в бога ничего не дала людям. Она только уводила их от борьбы за свое счастье на земле. Говорят, что вера в потусторонний мир укрепляет нравственность людей, грозя им грядущим наказанием в аду за все преступления, совершенные на земле. А сколько преступлений совершили те, кто это говорит, – сами служители бога: папы, иезуиты, монахи других орденов! Сколько крови пролили „помазанники божьи“– императоры, цари, короли – отцеубийцы, сыноубийцы, клятвопреступники, угнетатели, палачи!»
Так Андрей Ставров начисто отверг евангельские поучения, которые начали было привлекать его своим человеколюбием, идеей очистить человечество от всяческой скверны. «Коммунисты правы, – решил он, – жизнь людскую и самих людей не улучшить сказками о райских кущах. Людям нужно счастье здесь, на земле…»
Как-то Длугач привез из волполитпросвета связку книг, среди которых они с Андреем обнаружили книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
– Давай-ка, избач, поглядим, чего тут товарищ Ленин пишет, – сказал Длугач, усаживаясь на табурет. – Ты читай в голос, а мне, ежели я тебя спрошу, объясняй, чего будет непонятно.
Однако сложное философское сочинение оказалось непонятным и для Андрея. Резкие споры Ленина с Махом, Авенариусом и с их российскими толкователями, множество иностранных строк в скобках, частые сноски, обилие таких терминов, как «интроекция», «спиритуализм», «эклектика», «гносеология», заставили чтеца прервать чтение и объявить со вздохом:
– Нет, Илья Михайлович, увольте, это очень трудная книга.
Длугач издевательски ухмыльнулся:
– Трудная, говоришь? Какой же ты в таком случае избач? Выходит, товарищ Ставров такой же темный, как недоделанный придурок Гаврюшка Базлов?
– А какой вы коммунист? – вспыхнул Андрей. – Член партии должен знать Ленина.
В те давние годы Илья Длугач был в Огнищанке единственным коммунистом. Он гордился этим и многих своих односельчан называл «дубовыми пеньками» и «дурошлепами» за то, что они побаивались вступать в партию, ссылаясь на свою малограмотность. Услышав слова Андрея, он помрачнел, задумчиво постучал своим вишневым мундштуком по столу и произнес:
– Это, конечно, правильно, как член партии я должен, прямо-таки обязан знать товарища Ленина. А ты, избач, поимей в виду, что Ленин писал свои книги для всех чисто людей: и для таких, как, скажем, я, грешный, иначе говоря, для рабочего класса и трудящегося крестьянства, и для всяких там самых что ни на есть разученых профессоров. Идея у него, у Ленина, была одна – коммунизм, а книги свои он писал так, чтоб в них каждый – и необразованный и образованный – находил ответ на все вопросы. И простые – кто, примерно, хозяином земли при социализме будет, и самые заковыристые – кому там, скажем, интроекция достанется, а кому эклектика с этим, будь он неладен, Авенариусом и с Махом в придачу.
А заключил тогда Длугач твердо и уверенно:
– Ленина, брат ты мой, всю жизнь изучать надо. Иначе любой путаник и ловкач может тебя с истинной позиции сбить и на чужую тропу повернуть…
С той зимы, когда состоялся этот разговор, прошло много лет. Андрей успел окончить Ржанский техникум. Пожил и поработал на Дальнем Востоке, получил диплом сельскохозяйственного института, женился на Еле Солодовой. Все те годы он читал Ленина, изучал стенограммы партийных съездов и конференций, гораздо лучше стал понимать все, что происходило в стране и в мире. Но постиг ли до конца смысл человеческой жизни? Иной раз казалось, что постиг. А порой все же одолевали сомнения.
…И вот настала эта тихая июньская ночь, когда Андрей оказался один на один с самим собой в молодом саду.
Еще с вечера Егор Иванович Ежевикин, выкурив у костра свою самодельную трубку, сказал просительно:
– На заре моя черга коз пасти, так что ты, Андрей Митрич, сам уж тут посторожи, чтоб ненароком какая-нибудь скотиняка в сад не вломилась да не наделала шкоды.
– Ладно, – лениво согласился Андрей, – иди паси своих коз, я побуду в саду.
– Ну, бывай здоров, товарищ агроном, – сказал Егор Иванович, – мне еще надо забечь до Татариновых, чтоб Наташка утречком снеданок тебе принесла…
Андрей залил водой костерок, походил по междурядьям сада, прилег у копны свежего, недавно скошенного сена. Над головой мерцали звезды – неисчислимое множество больших, ярких и совсем малых, далеких, еле различимых звезд! Андрей всматривался в их переливчатое мерцание, и ему показалось, что все звезды дышат, что там, в непроницаемой тьме, в бесконечном пространстве, непрерывно возникает и в положенный час исчезает, чтобы снова возникнуть на иных звездах, своя жизнь, познать которую вряд ли когда-нибудь доведется человеку, как бы далеко ни проник он в тайны вселенной.
Колеблемая слабым дуновением ветра, шелестела листва молодых яблонь. Сонно плескалась рыба в реке. Где-то в ближних камышах басовито дудела тоскующая выпь. Озабоченно посапывая, мимо копны прошагал еж, и тотчас же зашуршала сеном напуганная мышь-полевка. Пролетел, шелестя крыльями, козодой. Комары зудели над самой головой.
Андрей вслушивался в разрозненные, негромкие звуки ночи, и они показались ему согласованным, прекрасным в своей удивительной слитности песнопением неистребимой жизни, в которой никто не фальшивит и все равны, все наделены одинаковым правом жить: и пролетевший козодой, и еж, и комар, и выпь, которая кого-то зовет, и плеснувший у берега сазан, и лошадь, и дерево, и он сам, Андрей Ставров.
«Что ж в таком случае получается? – задал себе вопрос Андрей. – Выходит, надо щадить и клопа и вошь, не есть ни мяса, ни даже капусты, которая ведь тоже живое существо и, наверное, испытывает боль, когда ее срезают, отделяя от корня? И от кожаной обуви, от рыбной ловли, наконец, даже от книг тоже, значит, следует отказаться, потому что для каждой книги вырубаются тысячи живых деревьев?
Нет! – ответил он мысленно. – Человек не может и не должен превращаться в юродивого, который погибнет от голода и холода. Человеку нужны и хлеб, и одежда, и кров. Нужны плуги, нужны книги… А пушки и бомбы? А ядовитые отравляющие вещества, танки, разрывные пули, мины, огнеметы – все, что изобретено для умерщвления себе подобных? Разве это тоже нужно? И всегда ли будет нужно? Зачем человечеству, развивающему науку, использовать ее достижения, чтобы множить миллионы убитых, сжигать поля и леса, разрушать города и веси?..»
Почему-то вспомнились библейские строки, читанные когда-то вслух дедом Данилой:
«И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их… Начнутся болезни, – и многие восстенают; начнется голод, – и многие будут гибнуть; начнутся войны, – и начальствующими овладеет страх; начнутся бедствия, – и все вострепещут. И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет и города ее будут разрушены. Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял на ней. Дерева дадут плоды, но некому будет собирать их. Трудно будет человеку увидеть человека или услышать голос его…»
Тогда, в детстве, зимой 1921 года, у постели умирающего от голода деда, Андрей слушал его чтение, безмолвно смотрел на огонек чадящего жирника, следил за движением пугающе худого дедова пальца и, замирая от страха, старался, запоминал – и ведь запомнил – мрачные слова библейского пророка.
А сейчас, в часы ночного одиночества, охраняя молодой сад, он подумал: «Все эти пророчества основаны на слепой уверенности в том, что человек во веки веков останется неразумным хищником, свирепым убийцей, губителем всего живого и никогда не найдет выхода из заколдованного круга. Но ведь это чепуха! Правда, пока на земле не прекращаются убийства, голод, угнетение. Давно ли бесчинствовали итальянские солдаты в Абиссинии, а самолеты и танки Гитлера терзали Испанию? Давно ли повержены и разгромлены Польша и Франция? Однако должен же когда-то наступить конец человеческому безумству!..»
В редеющей тьме уходящей ночи он словно увидел зеленые разливы буйного леса, непуганых зверей и птиц, чистые поля на всех материках, прозрачные моря и реки с бесчисленными косяками рыб, безмежные сады с невиданно крупными, румяными плодами. И не было на этой радостной, обновленной земле ни убийств, ни унижения людей. Не было жадных стяжателей, скупцов, паразитов. Не было лжи, клеветы, зависти, предательства. Всюду наслаждались необременительным трудом свободные люди – мудрые, бережливые, добрые, любящие все живое, славящие прекрасный, сверкающий под теплым солнцем земной мир.
«Да, да, когда-нибудь, может быть очень нескоро, но так будет, – убежденно сказал себе Андрей. – Так обязательно будет!..»
Взошло солнце. Андрей встал, с наслаждением потянулся, жадно, всей грудью вдохнул свежий, с бодрящим запахом реки, прохладный утренний воздух. Прямо перед ним, совсем близко и все дальше, уходя к самому горизонту, сияли тысячи деревьев молодого сада, усеянные золотыми и розовыми каплями утренней росы. Стройные, ухоженные, они за последние два года успели стать выше людей, нежно шелестели сочной листвой, влажная кора их крепких ветвей отливала коричневыми, багровыми, малахитовыми оттенками.








