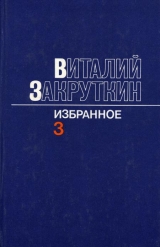
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
– Не горюй, Петро, – утешал Максим своего молодого товарища, – в одиночестве ты не останешься. Поначалу мы поживем у моей Таечки, она и тебя приютит, как родного. Отдохнем, осмотримся, подыщем себе работу и будем с чистой совестью трудиться на своей земле…
Все было спокойно до тех пор, пока у них не были залечены раны. Когда пришла пора выписки, в госпиталь приехали двое в темных пальто и в шапках, отыскали в палате Максима, потом Бармина, вызвали их в коридор, спросили фамилии и предъявили документы сотрудников НКВД. Попросили вполголоса:
– Переоденьтесь. Поедете с нами.
Максим не почувствовал страха. «Это должно было случиться, – все время уверял он себя, – без проверки нельзя. Допросят, проверят как положено и освободят. Лишь бы не очень долго тянулась эта канитель. Жаль только, что Тая не успела приехать и повидаться со мной в госпитале. Ну ничего, потерпим немного…»
Однако после первого же допроса Максим пал духом.
В просторной комнате сидел за столом широкоплечий человек, похожий на красивого цыгана. Черные глаза его остро сверлили вошедшего в комнату Максима. Заметив, что Максим идет к столу, он остановил его возгласом:
– Садитесь на стул там, в углу.
Максим послушно сел, куда ему указывали.
– Я старший лейтенант Колошин, – сказал человек за столом, – мне поручено провести проверку, касающуюся вас.
…Ни Селищев, ни Бармин не знали, что сразу же по прибытии их парохода из Испании в Советский Союз раненый партизан-испанец Алонсо Карнеро, выполняя приказ командира своего отряда, поставил в известность советские органы государственной безопасности о том, как его спутники Максим Селищев и Петр Бармин оказались в партизанском отряде. Он счел своим долгом коммуниста рассказать и о том, что оба указанных им лица, находясь в республиканской воне, сожгли какие-то бумаги, что вначале они выдавали себя за коммерсантов из города Лиона, а потом заявили, что находились у врагов-фалангистов, выполняли обязанности связных при советском инструкторе полковнике Якове Ермакове.
Придя с допроса, Максим лег, с головой завернулся в одеяло, но уснуть не мог. Еще на пароходе, по пути в Советский Союз, он предполагал, что его могут вызвать куда следует, чтобы допросить о службе в белой армии и жизни за границей. Это, как он думал, было бы естественно и объяснимо. О том, что не избежать им обоим проверки, сказал он и Бармину. Но первый же допрос показал, как много совершенно неожиданных обстоятельств сложилось не в их пользу. «Кто скажет здесь о нас доброе слово? Кто заглянет в душу? В мире творится черт знает что, разве станут с нами церемониться?» Последняя надежда у Максима была на Тодора Цолова, но кто знает, где он сейчас…
Шли дни, недели, а на допросы Максима никто не вызывал.
Только потому, что по ночам в камере стало холодно, Максим Селищев понял, что наступили дни поздней осени. Кроме молчаливой старухи, которая ровно в час дня наливала ему миску супа или борща, да нескольких сменявших друг друга дежурных солдат, Максим никого не видел. Он привык к своему одиночеству, хотя и не перестал думать о том, что, может быть, когда-нибудь неизвестные люди – там, в кабинетах на верхних этажах, – поймут, что он ни в чем не виновен, что напрасно держат его взаперти. «Это должно было случиться, – уверял он себя, – без проверки нельзя. Проверят как положено и освободят».
Перед ним часто возникали в памяти картины прожитой жизни, но он видел их как бы в недоступной дали, какими-то обрывками. То ему представлялось весеннее половодье в станичной пойме и вышедшие из берегов пойменные озера, в которых он, загорелый чернявый мальчишка, ловит с товарищами сазанов… то виделись ему проволочные заграждения на австрийском фронте, за которыми мелькали частые вспышки выстрелов, и он чувствовал под коленями дрожь своего пугливого коня… То мелькали бесконечные дни скитаний на чужбине с их тоской, голодом, унижением… То вдруг видел он – совсем молодой – жену, и он плакал от жалости к ней, Марине, и к себе.
Однажды утром Максим увидел за стеклами недоступно высокого окна белые холмики выпавшего за ночь чистого снега. Нежно розовея отсветами невидимой зари, снег лежал на железной решетке, на перекрестье оконной рамы, и даже сквозь давно не мытые стекла Максим увидел его сияющую чистоту и почувствовал холодноватый, свежий запах. Он вдруг почти наяву увидел остро сверкающую ледяную гладь Дона, себя, мальчишку, летящего на самодельных коньках к заснеженной Тополихе, услышал стрекотание потревоженных сорок в лесной чаще… И еще ему привиделись взмыленные кони, и вкусно пахнувшая дегтем конская сбруя с заливчатыми бубенцами, и легкие сани, а в санях, рядом с ним, совсем юная его невеста Марина в белом полушубке, в пуховых рукавичках, и все это было так живо и ясно, что он заплакал от счастья. А когда, очнувшись, увидел серость камеры, жидкое одеяло на нарах, ему показалось, что это кошмарный сон, что ему надо проснуться и тогда все исчезнет и он снова будет среди людей…
Но вот у дверей камеры лязгнул замок… Конвоир, держа в руке листок бумаги, спросил:
– Как ваша фамилия?
– Селищев…
– Одевайтесь.
Конвоир повел его на третий этаж, но остановился не возле той комнаты, где следователь Колошин первый раз допрашивал Максима, а приказал идти дальше и повернуть направо, за угол. В небольшой комнате, куда они вошли, сидел молодой человек в очках. Он был белокур, худощав, его мускулистую фигуру ловко обтягивал черный свитер. Максиму показалось, что он видел этого юношу на первом допросе. Шагнул к дальнему стулу в углу комнаты, но молодой человек остановил его словами:
– Садитесь сюда, поближе. Так будет лучше.
Он внимательно посмотрел на Максима, неторопливо протер очки и заговорил спокойно:
– Прежде всего давайте познакомимся. Моя фамилия Журавлев, зовут Анатолий Ильич. Мне поручено вести ваше дело вместо товарища Колошина, вашего прежнего следователя. Сегодня я не буду вас спрашивать ни о чем и не буду писать протокол допроса. Мне хочется послушать вас, Максим Мартынович.
– Как вам будет угодно, – глухо сказал Максим. – Может, прямо начать с того, как я оказался в белой армии, а потом попал за границу?
– Нет, зачем же? – сказал Журавлев. – Начинайте с самого детства. И потом, пожалуйста, ничего не скрывайте: ни хорошего, ни плохого.
Опустив голову, Максим закрыл глаза, и перед ним с ослепительной ясностью и непостижимой быстротой замелькали картины его не очень уж долгой, но мучительной жизни. Он стал рассказывать о семье, в которой вырос: об отце Мартыне Ивановиче Селищеве, суровом, молчаливом казаке, о том, как он бился на своем малом земельном наделе, как отец и мать отказывали себе во всем, чтобы по-людски выдать замуж трех дочерей, а потом купить ему, единственному в семье парню Максиму, коня и все, что положено для прохождения военной службы.
– Перед самой войной я женился на хорошей девушке, – глядя в угол, рассказывал Максим, – звали ее Мариной. Она потом стала учительницей. Последний раз я видел ее в девятьсот пятнадцатом году, когда после ранения получил короткий отпуск. Оставил ее беременной, а сам опять подался на фронт. Служил в казачьей дивизии, снова был ранен, награжден тремя Георгиевскими крестами, дослужился до хорунжего. Жена родила дочку, но я ее так и не увидел… Ну а потом началась гражданская война, многие наши казаки поверили тому, что большевики под корень уничтожат казачество, а всех женщин и детей сошлют в Сибирь. Поверил и я. Так и оказался у белых. Ни в каких карателях, слава богу, не был, никого не расстреливал. В бою под Новочеркасском был третий раз ранен, и меня увезли в Крым, к Врангелю…
Лейтенант Журавлев внимательно слушал, стараясь не проронить ни одного слова, незаметно наблюдая за выражением его лица. Откуда-то из-под стола он достал термос, налил стакан горячего чая, молча подвинул Максиму.
– В двадцатом году начались мои заграничные скитания, – продолжал Максим. – Сейчас даже самому не верится, что я это все пережил… Из Крыма, так и не долечив, врангелевцы увезли меня за границу.
Время от времени Максим поднимал глаза на следователя, чтобы убедиться в том, что тот его слушает. Лейтенант Журавлев сидел неподвижно, подперев рукой подбородок, лицо его было непроницаемо.
– Твердых убеждений в том, что так называемая белая идея справедлива, у меня никогда не было, – вздохнув, сказал Максим. – Конечно, свержение царя и особенно расстрел царской семьи в Екатеринбурге поразили меня так же, как и многих других. Мне казалось тогда, что в России рушатся все устои, что революция несет с собой разрушение, анархию, никем не управляемый хаос и что в этом повинны большевики. Но мне пришлось насмотреться и на то, что творили белые – корниловцы, деникинцы, врангелевцы. Видел я, как они насмерть забивали шомполами стариков, насиловали женщин, вешали и расстреливали ни в чем не повинных людей, грабили, дотла сжигали хутора и деревни. Все это вызывало у меня страх и отвращение, но круговерть гражданской войны несла меня, как слепого кутенка, дальше, прямехонько в омут… Уже находясь в Болгарии, где мы работали в горах на заготовке леса, я понял, что жизнь моя поломана, и горько позавидовал людям, которые остались дома, не мыкаются по чужим странам и не поливают кусок чужого хлеба, который застревает у тебя в горле, потом и слезами… Там, в Болгарии, полевой суд Первого добровольческого корпуса приговорил меня к расстрелу. В моем дневнике нашли страницу, где я писал о том, что завидую своим землякам в России, которые строят новый, свободный мир. Хорошо, что в дело вмешались болгарские коммунисты. Они запросили премьер-министра, кто разрешает иностранцам на болгарской территории иметь свои суды и выносить смертные приговоры. После этого меня выпустили. Трудно было. Мотался я по разным странам, голодал, в тюрьмах сидел. Побывал в Америке. Там меня чуть не усадили на электрический стул. В то лето я работал в колонне сборщиков овощей. Рабочих томили голодом, издевались над нами. Люди взбунтовались и убили шерифа. На него накинулась целая толпа с лопатами, а в убийстве обвинили меня и еще двоих американцев, хотя и я и эти двое не были виноваты. Ну, за меня потом поручились люди…
Этот день показался Максиму до удивления коротким. На время умолкая, задумываясь о прошлом, вспоминая все, что ему довелось пережить, он проговорил несколько часов. Долгое вынужденное молчание заставило его сегодня разговориться, и он рассказывал о себе так, словно наверстывал упущенное и говорил последний раз в жизни.
Уже когда по-вечернему потемнело окно, лейтенант Журавлев достал коробку папирос, положил на стол и сказал:
– На сегодня хватит, Максим Мартынович. Вы устали. Выпейте чаю, закурите. И идите отдыхать.
Пока Журавлев вызывал конвоира, Максим успел выпить холодный чай. В камере он прилег на нары, с головой укутался в одеяло и мгновенно уснул… Он не знал, что на следующий день к молодому следователю был вызван из другой камеры Петр Бармин, который так же подробно рассказал о себе, а потом по просьбе Журавлева стал говорить о знакомстве с Максимом и о том, что их заставило поехать в Испанию, служить в войсках Франко и встречаться с советским полковником Ермаковым.
Когда Бармина увели, лейтенант Журавлев стал делать пометки в блокноте. То расхаживая по кабинету в глубокой задумчивости, то присаживаясь к столу, он записывал все, что ему предстояло сделать.
В его записках значилось:
1. Съездить в станицу Кочетовскую, поговорить с людьми, которые знали семью Селищевых.
2. Если в станице остались сослуживцы М. М. Селищева по царской и по белой армии, допросить их.
3. Проверить архивы советского посольства в Польше за 1927 год и узнать у сотрудников посольства тех лет: действительно ли весной 1927 года эмигрант М. М. Селищев просил разрешить ему вернуться на родину.
4. Узнать в Главном разведывательном управлении Красной Армии, работал ли в 1936 году в Париже Тодор Цолов, и, если удастся, связаться с ним.
5. Поговорить с нашими военными советниками, которые были в республиканской Испании.
6. Допросить родственников Селищева, а у его дочери попросить для ознакомления письма отца…
Журавлев долго сидел задумавшись, курил папиросу за папиросой и едва услышал насмешливый голос Колошина:
– От кого это ты дымовую завесу поставил? Начадил так, что задохнуться можно!
Колошин подошел к столу, заглянул в блокнот Журавлева.
– Зря ты, Анатолий, занимаешься всем этим, – раздраженно сказал он. – Целую программу, видишь ли, составил, да еще с поездками, с командировками!
Журавлев вздохнул, закрыл блокнот и спрятал его в сейф.
– Знаешь, Павел Петрович, у меня такое впечатление, что ты обижен, – сказал он. – Это видно по всему.
– Чем? – криво усмехаясь, спросил Колошин. – Тем, что ты пошел жаловаться на меня начальнику и тебе передали это дело?
– Я не жаловался, товарищ Колошин, – сказал Журавлев. – Как член партии, я счел нужным сообщить свое мнение по этому делу.
Язвительная усмешка не сходила с лица Колошина. Он остановился у стола, заговорил, сдерживая злость:
– Жалостливые какие! Еще наплачетесь все: и новый начальник и такие, как ты, Журавлев. Вы оба закрываете глаза на все, что делается вокруг нашей страны: как много у нее врагов. А может быть, старший из этих двоих, Селищев, как раз и расстрелял в девятнадцатом году моего брата Никифора и перед тем раскаленным железным шкворнем звезду на его спине выжег!
Лейтенант Журавлев с грустью слушал своего старшего товарища. Он знал, что Павел Петрович Колошин – человек прямой, был уверен в его порядочности, и ему было жаль, что Колошин не может понять тех требований, которые предъявляются партией. Не только понять не может, но и упорно настаивает на своей правоте, полагая, что непоколебимая твердость и есть единственно необходимое качество чекиста. А Журавлев был убежден в том, что тупая подозрительность, неверие в помощь и поддержку народа лишь помогают подлинным врагам укрыться от карающей руки правосудия…
Обо всем этом думал Анатолий Журавлев, слушая старшего лейтенанта Колошина. Он неторопливо оделся, взял шапку и сказал:
– Извини, пожалуйста, Павел Петрович, мне некогда, меня ждут люди. А что касается твоих взглядов, то ты не прав. Придет время, нас с тобой рассудит будущее. Я уверен в этом и действовать буду так, как велит моя совесть…
Несколько дней Журавлев работал без отдыха. Он поочередно слушал Бармина и Селищева, успел получить из Кочетовской не только протоколы допросов станичников, которые хорошо знали семью Селищевых, но среди опрашиваемых нашлись двое рядовых казаков, служивших с Селищевым в Гундоровском полку. Они были вместе с ним в Болгарии, откуда вернулись в 1924 году, и оба заявили, что хорунжий их полка Максим Мартынович Селищев ни в каких карательных командах не участвовал, в Турцию из Крыма был увезен раненым, а в болгарском городе Тырново был действительно приговорен белогвардейским полевым судом к расстрелу «за большевистские настроения» и смерти избежал только после вмешательства местных коммунистов.
Из архива Наркомата иностранных дел Журавлев получил заверенную копию дневниковой записи секретаря советского посольства в Польше. В лаконичных строках дневника стояла дата: «3 июня 1927 года» – и было написано: «Сегодня приходил эмигрант казак М. М. Селищев с просьбой разрешить ему возвращение на Родину. Я разъяснил ему порядок возвращения».
Анатолий Журавлев по своему возрасту – ему недавно исполнилось двадцать шесть лет – знал гражданскую войну только по книгам да по рассказам отца, рабочего-металлиста, которому довелось вышибать юнкеров из Московского Кремля, сражаться под Царицыном. Еще будучи мальчишкой, Журавлев любил слушать воспоминания старых красногвардейцев, много читал и потому пытливо изучал невеселую повесть о жизни и мытарствах Максима Селищева и Петра Бармина. Живого князя он видел впервые и присматривался к Бармину с особым интересом. Конечно, возраст Бармина начисто исключал возможность его службы в белой армии – князь, может, на год или на два был старше самого Журавлева, тут любые обвинения отпадали. Но он не давал воли своим чувствам. Следователь Журавлев поставил перед собой одну цель: найти истину, неопровержимыми фактами доказать виновность или невиновность обоих арестованных. В том, что они были взаимно связаны, он не сомневался.
Журавлеву нравился напряженный, трудный процесс установления истины не только потому, что это требовало гибкости ума, тонкого умения анализировать и сопоставлять различные, на первый взгляд кажущиеся мелкими, факты и надо было мягко, ненавязчиво, может быть, незаметно проникнуть в самые глубины психологии обвиняемого, но и потому, что от него, настойчиво ищущего истину следователя, зависела судьба арестованного, живого человека со всеми свойственными только ему страстями, ошибками, взлетами и падениями.
На запрос Журавлева, отправленный в Москву, кто из советских добровольцев, воевавших в Испании, находился вместе с убитым в Мадриде полковником Яковом Ермаковым, он получил ответ, который удивил и обрадовал его: оказывается, одним из помощников покойного Ермакова был ныне капитан Роман Дмитриевич Ставров. Из ночных рассказов Максима следователь Журавлев уже знал, что Ставровы – его родственники. В своих показаниях Максим среди других имен упоминал и имена своих племянников Андрея и Романа, но сказал при этом, что молодых Ставровых он видел, когда они были совсем малыми детьми, и что его, Максима Селищева, они, конечно, знают только со слов родителей.
Да, ответ из Москвы обрадовал Журавлева. Капитан Ставров, не зная своего дяди, возможно, видел его у Ермакова, а для следствия это было очень важно, так как подтверждало связь Бармина и Селищева с Ермаковым. Продумав формы дальнейшего следствия, Журавлев решил, что он обязательно должен увидеть Романа Ставрова и поговорить с ним. Это оказалось возможным. В ответ на письмо Роман сообщил, что он в ближайшие дни будет в городе и постарается зайти в НКВД.
– Я почти убежден, что вы интересуетесь мною в связи с делом моего дяди Максима Мартыновича Селищева. Не так ли? – сказал Роман, сидя в кабинете Журавлева. – Мне стало известно, что он арестован.
– Вы угадали, товарищ капитан, – сказал Журавлев.
Роман пожал плечами.
– Вряд ли я смогу помочь вам, – сказал он. – Дядя Максим приезжал к нам всего один раз, когда мне было четыре или пять лет. Больше я его не видел.
– А вы узнали бы его сейчас? – спросил Журавлев.
– Нет, не узнал бы, – сказал Роман. – У нас в семье нет его фотографий последних лет.
Журавлев позвонил вниз и попросил, чтобы привели арестованного из тринадцатой камеры. Через несколько минут в кабинет вошел сопровождаемый конвоиром Петр Бармин. Он поздоровался и спокойно сел на предложенный стул.
– Товарищ капитан, посмотрите, пожалуйста, повнимательнее на сидящего перед вами арестованного и постарайтесь припомнить, не видели ли вы его где-нибудь.
Роман всмотрелся в бледное лицо Бармина. Ему показалось, что он действительно где-то видел это слегка удлиненное лицо с печальными серыми глазами. Но где? Когда? Кажется, это было в Мадриде, в комнате Якова Степановича Ермакова. Но борода, длинные волосы…
– Мне кажется, я видел капитана, – сказал Бармин.
Как только он заговорил, Роман сразу заметил у него во рту две золотые коронки и уверенно сказал:
– Я не знаю, кто этот человек, но я встречал его в Испании.
– Где именно? – спросил Журавлев. – Попрошу, товарищ капитан, вспомнить точно, от этого зависит многое.
– Я видел сидящего передо мной гражданина в тысяча девятьсот тридцать седьмом году в Мадриде, на улице Алькала, в квартире, которую занимал мой начальник полковник Ермаков, – твердо сказал Роман. – Я зашел к полковнику, а этот человек и еще другой, с темными усами, сидели у Ермакова.
– Я тоже вспомнил капитана, – сказал Бармин. – Мы однажды случайно встретились в Мадриде, но знакомы не были и ни о чем не говорили.
Когда Бармина увели, лейтенант Журавлев сказал:
– Сейчас, товарищ капитан, приведут вашего дядю. Вы, конечно, и без моего предупреждения догадаетесь, что в кабинет войдет именно он, Максим Мартынович Селищев, но я попрошу не подавать виду, что вам известно, кто он, и ни о чем с ним не говорить, а только отвечать на мои вопросы. Это крайне важно для следствия.
Сердце Романа сжалось, дрогнуло от жалости, когда он увидел худого бородатого человека, медленно открывшего дверь в кабинет. Только одно мгновение задержался он у порога, но Роман успел рассмотреть густую седину в его волосах, нездоровый румянец, вид обреченности и покорности в согбенной фигуре. Так вот он какой, дядя Максим, георгиевский кавалер, давно пропавший Тайкин отец, о котором когда-то часто говорили в семье Ставровых, а потом, с годами, и говорить перестали… Здорово же его истрепала жизнь.
Максим скользнул равнодушным взглядом по лицу Романа, посмотрел на Журавлева и, повинуясь его жесту, сел на стул.
– Вы знаете сидящего рядом с вами человека? – спросил Журавлев.
Еще раз взглянув на Романа, Максим сказал:
– Нет, гражданин следователь, не знаю.
– А вы, товарищ капитан, что скажете?
– Да, это тот самый человек, которого я видел в Мадриде, – волнуясь, сказал Роман, – только у него тогда не было бороды, но усы были.
Не понимая, что происходит, Максим удивленно посмотрел на Романа, сказал тихо:
– В Мадриде я действительно был несколько раз вместе с Петром Барминым. Нам было приказано перейти линию фронта и передать полковнику Ермакову сведения, которые были нужны республиканцам.
– Я подтверждаю, что видел его вместе с Ермаковым, – твердо сказал Роман.
Ему хотелось вскочить со стула, кинуться к изможденному, растерянному человеку, обнять его, утешить, сказать, что он, Роман Ставров, с детства, по рассказам матери, любил своего дядю…
Когда Максима увели, Журавлев долго молчал, потом подвинул к Роману чистый лист бумаги, чернильницу и сказал:
– Теперь, товарищ капитан, хотя бы коротко напишите о том, что вы видели Бармина и Селищева вместе с Ермаковым.
После того как требуемое следователем показание было написано, Роман поднялся и спросил:
– Им предъявляется серьезное обвинение?
– Обвинение, конечно, серьезное, – сказал Журавлев. – Стечение некоторых, не до конца выясненных обстоятельств осложняет дело. Оно усугубляется еще и тем, что Петр Бармин, бывший князь, и ваш дядя почти двадцать лет жили за границей. Вы сами, надеюсь, понимаете, насколько это затрудняет работу следователя, ведь из-за рубежа для допроса никого не вызовешь. Вот и приходится искать окольные пути, а это требует времени.
Он заметил протянутый Романом пропуск на выход и, прощаясь, задержал его руку.
– У меня, товарищ капитан, еще есть надежда на то, что мне удастся разыскать следы одного человека, – доверительно сказал Журавлев. – Пока мои попытки не увенчались успехом. Как мне сообщили, сейчас этот человек находится вне Советского Союза. Но он жив и здоров. Если он подтвердит то, что показывали на допросах арестованные, они будут освобождены.
– Что ж, будем ждать, – сказал Роман.
– Да, ничего другого нам не остается, – сказал Журавлев. – Будем ждать, товарищ капитан.
3
Для дятловцев ледоход на Дону всегда был праздником. Он означал конец долгой, надоевшей всем зимы, близкий приход весеннего тепла, ход рыбы с низовьев. Услышав шум на реке, вся станица бежала к берегу. Оживленные люди часами смотрели, как медлительно плывут потемневшие, набухшие от воды огромные льдины, сшибаются, напирая одна на другую, вертятся в белой пене водоворотов, несут к морю клочья соломы, поломанные вешки, порванные рыбацкие вентери.
В эту весну лед тронулся в ночь под воскресенье. После нудного вчерашнего собрания Андрей Ставров еще лежал в постели, лениво потягивался и вдруг услышал звонкий девичий голос за окном:
– Наташа! Выходи быстрее, побежали к Дону, там уже все наши девчонки! Лед тронулся!
Андрей вскочил, торопливо оделся, натянул сапоги. Ни Наташи, ни Федосьи Филипповны уже не было. На крыше дома, охорашиваясь, надувая серебристый, с воронением зоб, пронзительно посвистывал скворец. Под забором кудахтали куры. Солнце светило вовсю. Андрей подпер дверь вилами, закурил и пошел вдоль ерика к реке, разбрызгивая сапогами сверкающую воду в лужах.
На берегу Дона толпились люди; мужчины постарше степенно сидели на бревнах, опрокинутых вверх днищем лодках, а кто и просто на корточках; женщины и девушки, как это испокон веков было заведено в станице, не садились в присутствии мужчин; они стояли, лузгали семечки, говорили о домашних делах, но взгляды их было устремлены к реке, по которой с гулом и грохотом неслись ноздреватые, свинцового оттенка льдины. По самой кромке берега с криком, с радостным смехом гоняли мальчишки. За рекой, в еще прозрачном, не одевшемся листвой лесу, деловито хлопотали грачи.
На песке, под береговым обрывом, ловко орудуя черным горячим квачом и паяльной лампой, уже смолил свою верткую кайку неугомонный Егор Иванович Ежевикин. Ему помогал такой же заядлый рыбак, молодой парень Мишка Бендерсков, племянник Егора Ивановича. Левая Мишкина рука была на перевязи, он только недавно выписался из госпиталя после ранения на Карельском фронте. Так же как все, Мишка радовался тому, что три с половиной месяца неожиданной войны миновали и он теперь дома.
Андрей подошел к Егору Ивановичу, поздоровался.
– Браконьеры готовятся первыми? – усмехаясь, сказал он.
Однако Егор Иванович не принял его шутки, вытер потный лоб рукавом телогрейки.
– Это ты напрасно, дорогой агроном. Браконьером я никогда не был и не люблю этого баловства, а посидеть с удочкой в кайке сызмальства привык, особливо попервости, когда последний ледок еще плывет, не растаял.
Мишка Бендерсков незаметно подмигнул Андрею: заливает, дескать, дядя Егор, при случае он и сетчонку поставит и перемет забросит.
– Я пошутил, – сказал Андрей, – не обижайся, чемпион дятловских рыбаков…
Весь день на берегу толклись люди: одни приходили, другие уходили, управлялись по хозяйству и снова возвращались. Тяжелые льдины плыли и плыли, с грохотом раскалывались, наплывая и громоздясь одна на другую, скапливались на крутой излучине, образуя торосистое ледяное поле. Но непрерывная работа воды, неодолимое стремление реки туда, в низовья, где ее принимало море, делали свое дело. Река шумела, пенилась, с неодолимой силой и яростью поднимала огромные льдины на дыбы, переворачивала их исподом вверх. Над перевернутыми льдинами кружились стаи голодных каркающих ворон…
Егор Иванович присел на просохший бок лодки, закурил.
– Нонешней весной будет большая вода, – сказал он, – в верховьях много снега, под Воронежем, говорят, наворочены цельные горы. Значит, водичка зальет все наше займище, наполнит озера. Хор-ро-шо!
Он посмотрел на Андрея, хитровато ухмыльнулся:
– А ты, Митрич, за сад не боишься? Не думаешь, что яблони наши могут поплыть аж в Азов?
– Не думаю, – сказал Андрей. – Со стороны Донца сад обвалован, а донская вода, даже самая высокая, до сада не доберется.
Наслаждаясь незлой местью за шутливое обвинение в браконьерстве, Егор Иванович покачал головой:
– Гляди не прогадай, Андрей Митрич! Насчет водички у меня свои приметы есть. Я тебе прямо говорю: разлив будет сурьезный…
Он не ошибся.
Весенние дни шли обычной чередой, и вначале ничто как будто не предвещало беды. Светило солнце, на займище проклюнулись нежно-зеленые стрелки ранних трав, с юга одна за другой летели стаи уток, казарок, больших и малых куликов. Лес на ближнем острове был наполнен верещанием вьющих гнезда птиц. Андрей каждое утро спешил побывать в саду. Ходить туда пешком было трудно – на проселках, особенно по низинам, еще держалась густая грязь, – поэтому он с рассветом бежал в конюшню, седлал закрепленного за ним Орлика и ехал в сад.
Андрей полюбил эти утренние поездки. Сытый, караковой масти жеребец, екая селезенкой, шел легкой, машистой рысью. Отражая зарю, розово светились озера, на их поросших камышом берегах крякали утки, на невысоких курганах разгуливали важные дудаки, и все вокруг, как всегда бывает весной, было свежим, радостным, бодрящим. Вдыхая запахи влажной земли, воды, первой зелени, конского пота, Андрей думал о том, как все это хорошо и как важно и правильно то, что он, агроном Ставров, вместе с другими людьми работает на этой доброй, теплой земле, что высаженный им сад через два-три года поднимется, станет взрослым и каждое дерево широко раскинет ветви, будет плодоносить и щедро воздаст людям за их заботы и нелегкий труд…
В это утро Андрей, как всегда, подъехал к деревянному дому-сторожке, в котором с весны хозяйничал Егор Иванович Ежевикин. Тот уже сидел над костром, ладил железную треногу с котелком. Отворачиваясь от дыма, он снял потертый лисий треух, помахал Андрею:
– Здорово, товарищ агроном!
– С добрым утром, – приветливо ответил Андрей.
– Зараз мы сварим ушицу, трошки сгоним оскому, – сказал Егор Иванович. – Попались мне на крючки лещики и один добрый такой сазанчик.
Андрей расседлал вспотевшего жеребца, привязал его к тополю и подошел к костру.
– Разрешите доложить, товарищ начальник? – Егор Иванович вскочил, приложил, дурачась, ладонь к шапке. – Так что за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Были обнаружены только четыре яблоньки, маленько подгрызенные злодеями зайчишками еще зимою, но я их подлечил.
– Садитесь, казак Ежевикин, – в тон Егору Ивановичу сказал Андрей, – благодарю за службу и за приглашение отведать ухи.
Присев на опрокинутый ящик, он закурил и стал следить за тем, как ловко управлялся Егор Иванович с выловленной рыбой, как аккуратно чистил ее острым самодельным ножом (фабричных ножей Егор не признавал, мастерил их из полотна стальной пилы), смотрел, как он доставал из видавшего виды брезентового охотничьего мешка разные приправы, ополаскивал в ведре с чистой речной водой, опускал в котел и при этом приговаривал:
– Сперва положим картошечку с укропчиком… укропчик даст ушице добрый дух. Он хотя и сухой, прошлогодний, а запах свой держит. Теперь опустим туда рыбку, травку с кислинкой, почистим лук и разделим его на две половины, одну покладем зараз, а другую опосля того, как уха прокипит, чтобы лучок остроту не потерял. Теперь посолим, перчика ей поддадим…
Перед тем как снять котел с треноги, Егор Иванович достал из мешка бутылку, заткнутую кукурузной кочерыжкой.
– Уха, которая по-казачьи сдобрена горьким перчиком, без запива не пойдет, – сказал он, посмеиваясь.
– Это что? Вино? – спросил Андрей, поглядывая на мутноватую жидкость в бутылке.
– Кто ж из истинных казаков держит вино до весны? – укоризненно проговорил Егор Иванович. – В бутылочке у меня святая водичка из яблок да из поздних слив, сотворенная с прибавкой сахара. Водичка эта, к слову сказать, прочищает мозги и сничтожает перхоть.








