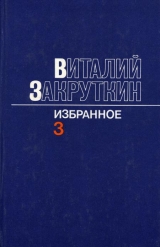
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
В ночь под Новый, 1943 год небольшому отряду советских солдат, оторванных от мира, как никогда хотелось знать, что делается там, внизу, на огромном фронте. Но радиоприемник давно вышел из строя – сели батареи. В последний раз его включали шестого ноября, когда Сталин выступал с докладом на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся по случаю двадцать пятой годовщины Октябрьской революции. Очень их обрадовал тогда спокойный, ровный голос докладчика, уверенный тон доклада. Но было чем и встревожиться. Сталин сказал:
– Военные действия на советско-немецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период – это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение четырех месяцев прошла местами более четырехсот километров, и второй период – это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт на юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу, прошли местами в течение пяти месяцев до пятисот километров…
Характеризуя второй период, докладчик сообщил о выходе немцев в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока… На этих словах приемник умолк. Как ни старался радист Леша, как ни понукали Лешу раздосадованные бойцы, все было тщетно: батареи, питавшие приемник, сдали окончательно.
Так вот и получилось, что в ночь под Новый, 1943 год, когда все советские люди уже праздновали явно обозначившуюся великую победу под Сталинградом, радовались успехам Красной Армии на Кавказе, на Юго-Западном, Южном, Воронежском, Калининском, Волховском, Ленинградском фронтах, здесь, в отряде Андрея Ставрова, господствовали тревога и сомнения. А все-таки, по традиции, всем хотелось как-то отметить Новый год.
Еще с вечера проветрили и прибрали гранитное убежище. Каждый побрился, подстригся, после чего все удалились из пещеры – дали возможность привести себя в порядок и Наташе.
Погода в горах тоже вроде бы приготовилась встретить праздник: ураганный ветер сменился полным безветрием, куда-то за перевалы, на северные склоны хребта белой ведьмой улетела метель, с прояснившегося неба лениво падали крупные, пушистые снежинки. Многие из бойцов поскидали рубахи и забарахтались в сугробах, яростно натирая друг другу спины мягким сыпучим снегом.
Когда все опять собрались в пещере и чинно расселись вокруг тусклого парафинового светильника, Сергей Синицын предложил:
– Чтобы не так нудно было ждать полуночи, давайте поделимся друг с другом своими мечтами о самом заветном, расскажем, чем каждый был занят до войны и чем собирается заняться после нее.
– Что ж, Серега, начинай ты первым, – сказал Егор Иванович.
– Пожалуйста, – согласился Синицын. – До войны, товарищи, я был учителем в небольшом поселке на берегу чудесного озера Иссык-Куль. Каждое лето бродил с учениками старших классов в горах Алатау, а мечтали мы тогда о путешествиях в Испанию, Францию, Америку. Наивные были мечты, а все же вспомнить о них приятно. И кто знает, может, они еще сбудутся. Только вот где теперь мои тогдашние ученики? Встретиться бы с ними – вот моя самая заветная теперешняя мечта.
Сидевший рядом с Синицыным Гурам Кобиашвили тихонько переводил его рассказ пленным немцам. Те сочувственно кивали головами, а когда Синицын умолк, заговорил Маттиас Хаак:
– Я любил проектировать жилые дома. Целыми днями пропадал на строительных площадках и был счастлив, когда моя фантазия, мои идеи материально воплощались. Есть у нас на границе с Австрией красивое место Бад-Рейхенхалле. Я давно мечтал воздвигнуть там нечто грандиозное. Подвернулся счастливый случай: один богач предложил мне спроектировать и построить дом для одиноких стариков. На сто человек! И я его построил – прекрасный светло-голубой дворец в предгорьях Баварских Альп на фоне вечнозеленого парка. Он стал моим любимым детищем. Прошло четыре года. В Берхтесгадене – это довольно близко от Бад-Рейхенхалле – начали строить резиденцию для рейхсканцлера, который соизволил самолично изобразить на ватмане, какой она должна быть. Ведь Гитлер вполне серьезно считает себя архитектором. Не знаю, быть может, в данном случае я недостаточно объективен, но этот новый дворец, появившийся в близком соседстве с моим голубым сокровищем, всегда казался мне безвкусным подобием рейхсканцелярии. Впрочем, суть не в том… Очень скоро Гитлера стало раздражать соседство старых инвалидов. По его приказу их переселили куда-то подальше, поговаривали даже, что все они были отравлены. А в конце сорокового года английские летчики, которые и теперь настойчиво охотятся за Гитлером, превратили лучшее из моих творений в руины. Стерли с лица земли то, о чем я мечтал на протяжении многих лет.
– А вы, Хаак, не видели, сколько руин оставили ваши соотечественники в Ростове-на-Дону только за одну неделю своего пребывания там? – спросил Андрей Ставров. – Только за одну неделю! – повторил он с нажимом. – Через неделю мы их вышибли из Ростова.
– К сожалению, видел, – ответил Хаак. – Нас везли на Кавказ через Ростов…
После этого возникла тягостная пауза. Интересно начавшаяся беседа готова была угаснуть. Выручил Егор Иванович. Он вынул из мешка трофейную флейту, ласково огладил ее и сказал:
– Нема, братцы вы мои, ничего лучше музыки. Я еще под стол пешком ходил, а меня покойный мой дед и на скрипке играть учил, и на трубе, и на флейте. Сколько годов служил дед в музыкантской команде и сколько за свое умельство разных наград от наказного донского атамана получил. А уволившись со службы, обзавелся пасекой и меня туда к себе забирал на все лето. Так вот там-то, на пасеке, перед заходом солнца сядет, бывало, дед на лавочку возле балагана, сунет мне в руки какой ни на есть инструмент и приказывает: «Играй, внучек». Так и обучил.
Егор Иванович приложил флейту к губам, и пещера наполнилась мягкими чистыми звуками протяжной казачьей песни. Вечерами в станице Дятловской старые казаки, участники многих походов, хлебнув после трудов праведных сибирькового или пухляковского винца, не раз певали эту бередящую душу песню о том, как подобные им донцы-молодцы возвращаются в родные места после войны, радуясь близкой встрече с молодой жененкой и тоскуя по боевым товарищам, павшим в кровавых сечах. И Андрей и Наташа знали слова этой песни и совсем тихо, еле слышно, стали подпевать, послушно следуя за мелодией флейты. Многим в те минуты показалось, что исчезли тяжелые, низкие своды пещеры, похожей на склеп, раздвинулись ее стены и возникла теряющаяся вдали бесконечная степная дорога, по которой, глухо постукивая полу оборванными подковами, усталым шагом бредут подбившиеся в походах кони и раскачиваются в седлах темные от пыли всадники, и не Андрей с Наташей, а именно эти всадники поют эту чудесную песню, где воедино слиты любовь и тоска, полынная горечь долгой разлуки и светлые надежды…
Робко прижимаясь к плечу Андрея, Наташа пела удивительно чистым голосом, забывая вытирать слезы. Временами она чуть-чуть убыстряла песню, чтобы подсказать Андрею слова, которые он запамятовал или знал нетвердо. А флейта вела их обоих в какую-то немыслимую даль, туда, где не было ни войны, ни снежных могил, ни голода, ни суровых гор.
Но вот флейта умолкла. Доброе лицо Егора Ивановича озарилось лукавой улыбкой.
– Больше всего, други мои, нравилось мне играть веселые песни на свадьбах, – вздыхая, сказал он. – Играешь, бывалыча, глядишь на жениха с невестой, а сам думаешь: пошли вам бог счастья! И мечтаю я, родная моя племянничка, – повернулся он к Наташе, – ежели останемся мы живы, сыграть на твоей свадьбе. Вон ведь ты какая у нас красуля стала: ладная, как перепелочка в жите… Не журись, Наталка! Кончится война, мы тебе такого жениха представим, что закачаешься.
Наташа незаметно отодвинулась от Андрея. С укоризной глянула на Егора Ивановича.
В пещере стояла тишина. Никто никак не откликнулся на прозрачный намек Ежевикина. Слабо мигал угасающий огонек светильника, распространяя запах горячего парафина. Гурам Кобиашвили послюнил пальцы, подтянул повыше фитилек и сказал, обращаясь почему-то только к Синицыну:
– Видишь ли, Сергей, как получается? Мечты человеческие переменчивы. А вот у меня, дорогой, была и осталась одна мечта: заняться в аспирантуре германистикой. Внушил мне эту мечту один замечательный грузинский писатель, человек глубокого, большого таланта. До революции он учился в Германии, полюбил немецкую литературу, отлично знал философию и, когда рассказывал мне о Гёте или Гегеле, о Канте или старых мейстерзингерах, весь светлел, глаза у него горели. Затеянная нацистами проклятая война все наши планы поломала. Но я, дорогие друзья, не сдамся. В свое время обязательно съезжу в Лейпциг, в Иену, в Геттинген, в Берлин, куда угодно! Спляшу на могиле Гитлера и прославлю в своей любимой Грузии прекрасную немецкую культуру. Ту самую, которую пытаются растерзать гитлеровские шакалы! – Он порывисто повернулся, положил руку на плечо соседа: – Правильно я говорю, Иоганн? Что вы об этом думаете?
Выбритый до красноты рыжий ефрейтор Фиркорн сердито засопел:
– По правде сказать, камарад Гурам, я думаю сейчас не о Гегеле. Меня заботит судьба лучших людей сегодняшней Германии. Их немало. И не только в тюрьмах, концлагерях. Есть и на свободе – среди рабочих, ремесленников, студентов, даже солдат и офицеров вермахта. Они не сидят сложа руки. Несмотря на слежку и преследования, не страшась пыток и смерти, изо дня в день ведут непримиримую борьбу с темными силами фашизма и твердо верят, что Красная Армия поможет нашему народу избавиться от этой чумы.
– А вот угадайте, о чем я думаю! – включился в беседу Леша-радист. – Не догадываетесь? Ну так извольте, скажу сам. Мне, братцы, осточертела собачья конура, в которой мы торчим. Она, может, хороша для нашего любимца Усика-Пусика, которого совсем заласкала Наташа, а что до меня, то я скучаю по Арктике, по своему ледоколу. Мне необходимо движение, океанские просторы, связь по радио чуть ли не со всем светом. Мне нужна безотказная аппаратура, а не наш завалящий приемник, который жрет батарею за батареей и молчит, гад, как в рот воды набрал.
Леша начал рассказывать об одном из своих плаваний, когда ледоколу «Сибиряков» было приказано провести в порт назначения затертый льдом караван судов. Рассказывая, Леша так увлекся, что Кобиашвили, взглянув на светящийся циферблат своих часов, вынужден был прервать его:
– Слушай, ты, вольный сын эфира! До Нового года остается ровно пятнадцать минут, так что выключай свой громкоговоритель…
Все в пещере задвигались, забренчали кружками, набирая из большого немецкого термоса холодную, с ледяными иглами воду. Рачительный Егор Иванович добавил в кружки по пятьдесят граммов спирта. Каждую порцию он отмерял найденным в немецком ранце серебряным стаканчиком.
– Эх, елку бы сюда! – мечтательно обронил Синицын.
– Хоть бы махонькую какую зеленую веточку – и то б душа оттаяла, – прогудел своим баском Удодов.
– Будет у нас, хлопцы, зеленая веточка, – пообещал Андрей. – Таша, достань из моего рюкзака тетрадь, которую ты в Дятловской мне подарила перед моим уходом на фронт.
Он взял из рук Наташи тетрадь в клеенчатом переплете, раскрыл ее, осторожно положил рядом со светильником. На белом прямоугольнике бумаги все увидели сухой, но не утративший своей зеленой окраски лист яблони.
Андрей долго смотрел на него, и неуловимые тени пробегали по его лицу. Перед его мысленным взором вновь зазеленел сад над рекой. Побеленные, золотисто-розоватые в свете утренней зари стволы стройных молодых деревьев уходили вдаль по ровной речной пойме; трепетала окропленная росой живая листва, темно-зеленая – та, что ближе к стволам, и светло-зеленая на концах ветвей. А вверху остроконечные, с нежным пушком побеги ранневесеннего прироста казались почти прозрачными, неприметно слитыми с таким же прозрачным сияющим небом. Златогрудые иволги оглашали сад своими флейтовыми свистами, заливисто ворковали горлицы, кому-то пророчила долгую жизнь вещунья кукушка. Перед глазами Андрея уже не было пещерного мрака и тусклого огонька парафиновой плошки. Он видел в тот миг тысячекратно повторенное в текучих водах реки майское солнце, чуть влажный песок на берегу с крестообразными, похожими на вышивку следами птичьих лапок, босую черноглазую девушку, ясную, ласковую, простую, как горлица, как теплая речная вода, как молодое деревцо в этом зеленом саду…
– Мы вернемся туда, – тихо и робко прошептала Наташа, угадав его состояние. – Мы все будем жить, и он не умрет, наш сад…
– Да, да, Таша, он не умрет, – сказал Андрей.
Гурам Кобиашвили напомнил:
– Товарищ лейтенант, осталось три минуты.
Андрей понял это как приглашение сказать что-то при прощании с уходящим кровавым годом и встрече с новым годом, который вряд ли обещал быть легче. Да, конечно, командир отряда обязан сказать хотя бы несколько ободряющих слов своим боевым товарищам. Но что скажешь, чем ободришь других, если у самого сердце изныло в неведении, каково положение там, далеко внизу – на широком фронте? И все-таки даже в этой угнетающей неизвестности, не видя вокруг ничего, кроме засыпанных снегами скал, не слыша команды, подсказки, командир остается командиром. Разумом своим, сердцем и волей должен он влиять на людей, отданных под его власть.
Приподняв кружку, Андрей сказал:
– Давайте выпьем за победу над фашистскими захватчиками. Она неминуемо придет, наша победа, потому что жизнь сильнее смерти. Пожелаем, чтобы Новый год приблизил долгожданный приход творимого нами мира. И пусть никто и никогда не нарушит его. Пусть Леша счастливо плавает на своих ледоколах! Пусть Маттиас Хаак создает новые светло-голубые дворцы, лучше тех, что разрушены войной! Пусть Гурам Кобиашвили изучает Гёте, а Егор Иванович весело играет на свадьбах! Пусть, дорогой Иоганн Фиркорн, будут живы и тверды духом твои и наши товарищи – немецкие коммунисты, им доведется строить новую Германию! И пусть, милая Таша-Наташа, цветет любимый наш дятловский сад!..
До рассвета никто не спал. Каждому хотелось рассказывать товарищам о себе, о своем довоенном прошлом, потому что только теперь – во время войны – люди по-настоящему оценили, насколько хорошо им жилось в мирные дни. Все вспоминали своих родных, доставали из карманов и показывали друг другу потертые, изломанные фотографии…
Прошло еще два дня. А на третий, когда в разрывах серых туч кое-где проглянуло голубыми островками чистое небо, прилетел самолет-кормилец. Покружил над тропой, прицелился и сбросил – на этот раз точно – очередные мешки с провизией. В одном из мешков оказалась записка, адресованная Андрею:
«Тов. Ставров! Наши войска продолжают разгром дивизий противника, окруженных в Сталинграде. Шестая немецкая армия обречена. Два дня назад с Терского рубежа перешла в наступление Северная группа войск Закавказского фронта – она гонит врага в направлении Минеральных Вод. Под угрозой окружения немецкие горнострелковые части покидают перевалы Главного хребта. Сообщите об этом бойцам. До вас добраться пока невозможно. При первой возможности пошлем на выручку альпинистов и саперов. Терпите и ждите скорого освобождения из снежного плена.
Привет всем.
Майор Бердзенишвили.
3.1.1943 г.»
3
Ни один из миллионов немецких солдат и офицеров на Восточном фронте, ни один из генералов, которые вели свои армии, корпуса и дивизии на Кавказ и Волгу, никто из высокопоставленных стратегов верховного командования вооруженных сил Германии даже отдаленно не представлял того, что вопреки планам Гитлера произойдет под Сталинградом.
Не представлял этого и подполковник генерального штаба сухопутных войск Юрген Раух, прикомандированный в августе 1942 года к 6-й армии генерала Паулюса и вместе с ней дошедший до Сталинграда. Педантично выполняя свои обязанности, он действовал как бы в тумане, и все, что происходило вокруг него – быстрое движение огромной, трехсоттысячной армии, степные пожары, грохот орудий, веселые попойки офицеров в ожидании совсем близкого поражения России, – не затрагивало Юргена Рауха, погруженного в раздумья и сомнения, которые ощутимо углубил мучительный разговор с Ганей. Однако и он, много размышлявший над будущим Германии и пытавшийся прозреть в этом будущем собственную судьбу, оказался совершенно не подготовленным к тому, что произошло в двадцатых числах ноября, когда советские войска окружили армию Паулюса.
Гитлер категорически запретил отступление из Сталинграда, прорыв на запад. Командующий военно-воздушными силами рейхсмаршал Герман Геринг заверил его, что сможет бесперебойно снабжать окруженных боеприпасами, горючим, провиантом. Это заверение оказалось невыполнимым. Провалилась и попытка фельдмаршала Манштейна деблокировать армию Паулюса – ее солдаты и офицеры мерзли в окопах и подвалах разрушенных сталинградских домов, голодали, гибли тысячами в бесплодных, бесперспективных боях.
За полтора года изнурительной, невиданной по жестокости войны, которую гитлеровские теоретики назвали «тотальной», то есть всеобщей, всеобъемлющей, Юрген Раух повидал много страшных картин, попривык ко всяким неожиданностям, но то, что произошло в Сталинграде, потрясло его. После прошлогоднего отступления от Москвы и Ростова армии вермахта стали как будто вновь набирать силу, дошли до Кавказа, водрузили имперский флаг на вершине Эльбруса, и вдруг, когда фюрер уже оповестил весь мир, что Сталинград взят, противник на Волге разгромлен, вдруг этот «разгромленный» противник окружает его лучшую, многочисленную, отлично вооруженную армию, отрезает ей все пути отхода, обрекает триста тридцать тысяч немецких солдат и офицеров на неизбежное поражение, громит и рассеивает по заснеженным степям две румынские армии, прикрывавшие фланги Паулюса, железной стеной встает на пути прославленного фельдмаршала Манштейна, обращает вспять итальянскую и венгерскую армии, прибывшие сюда по велению верных гитлеровских вассалов Муссолини и Хорти.
Предчувствие неотвратимого краха и неизбежного возмездия за все, что натворили армии Гитлера на захваченной ими русской земле, с особой силой охватило Рауха, когда он однажды вечером возвращался на бронеавтомобиле в пылающий Сталинград из 51-го армейского корпуса, от генерала фон Зейдлица, которого знал давно и любил за его смелость, решительность, нетерпимость к угодничеству.
Слева и справа от дороги чернели остовы разбитых немецких танков и автомашин, валялись в сугробах окоченевшие трупы, и над ними с карканьем кружились вороны. Затянутое тучами, низкое, сумеречное небо, казалось, готово было упасть на землю. В серой его толще непрерывно вспыхивали зловещие огненные прочерки, похожие на хвосты комет.
С тоской всматриваясь во все это, Раух вспоминал ошеломительно резкие высказывания генерала:
– Меня не удивляет неврастеничный ефрейтор, возомнивший себя полководцем. Ждать от него грамотных решений нельзя. Удивление и возмущение вызывают его верноподданные военные советники. Я имею в виду Гальдера, Цейтцлера, наконец, барона Вейхса, Манштейна… Почему они не настояли на отводе шестой армии из Сталинграда, когда это было еще возможно? – Генерал прошелся по блиндажу, закинув за спину руки, и продолжал с горечью: – Сталинградские подвалы забиты ранеными. Врачи не в состоянии оказать им помощь. Раненые заживо гниют… А вчера я случайно увидел, как мои солдаты пристрелили старую, худую собаку, ободрали ее и ели сырое собачье мясо. Ради чего так страдают люди?
– Все гнусно и подло, – мрачно обронил присутствовавший при этом начальник штаба корпуса, молчаливый полковник Клаузиус.
С ужасом слушал Юрген Раух этих двух заслуженных, уже немолодых людей, увенчанных многими наградами: их слова подтверждали его мысли.
– Вам не доводилось откровенно поделиться своими впечатлениями с командующим армией? – поинтересовался Раух, обращаясь к генералу.
Сардоническая гримаса скользнула по лицу Зейдлица.
– Я не только устно, а и письменно ему докладывал, что приказ Гитлера – удержать Сталинград – невыполним. Однако господин начальник штаба армии генерал Шмидт изволил начертать на первой странице моего доклада: «Мы не должны ломать себе голову за фюрера, а генерал фон Зейдлиц – за командующего армией». Этим и закончилась моя попытка предотвратить крах.
– Что касается лично меня, то решение уже принято, – неожиданно сказал Клаузиус.
Зейдлиц недоуменно глянул на полковника:
– Какое решение?
– Дело идет к концу, господин генерал, – вздохнул Клаузиус. – Финал сталинградской трагедии – уже у порога нашего блиндажа. Плена я не выдержу, а потому твердо решил покинуть корпус и в одиночку прорываться из западни.
Генерал Зейдлиц подошел к нему вплотную, спросил строго, но без резкости:
– То есть вы, Клаузиус, избрали закамуфлированную, так сказать, форму самоубийства? Я вас правильно понял?
– Да, генерал, – спокойно ответил Клаузиус, – вы меня поняли совершенно правильно. К сожалению, ничего лучшего я не нахожу…
…Весь этот разговор в генеральском блиндаже не оставил у Юргена Рауха никаких сомнений в том, что 6-я армия, гордость германского вермахта, агонизирует.
Оставив автомобиль у разрушенной стены пятиэтажного кирпичного дома, он побрел по еле заметной тропинке среди руин. Вокруг все пылало. Над истерзанным городом висела мутно-багровая пелена. В этот переходный от вечера к ночи час почти не было слышно выстрелов, как будто окружившие 6-ю армию советские войска уже не желали тратить снаряды и патроны на обреченное скопище немецких солдат.
Густо падал снег. Между черными развалинами домов росли сугробы, прикрывая оледеневшие трупы, сложенные штабелями вдоль развороченных стен. За последнюю неделю убитых и умерших от сыпного тифа или дизентерии перестали даже складывать в такие вот штабеля: не поспевали. Поэтому трупы валялись везде. Сталинград с каждым днем все больше превращался в гигантское немецкое кладбище без надгробий и могильных холмов…
В тесном сыром подвале, где нашли себе убежище трое офицеров оперативного отдела армии, приютившие Юргена Рауха, раньше держали уголь. Еще и теперь, когда пронимал мороз, операторы становились на четвереньки и принимались скрести по углам подвала угольную пыль. После этого разжигали железную печурку, все собирались вокруг нее, протягивая к огню перепачканные углем руки.
В таком унылом положении и застал их Юрген Раух по возвращении из 51-го армейского корпуса. Примостившись рядом с ними, спросил:
– Что нового?
Тщедушный, похожий на сову гауптман Штейнбреннер сверкнул стеклами огромных роговых очков.
– Все то же. Сегодня после полудня на площади расстреляны две группы солдат с фельдфебелями и двумя офицерами.
– За что? – равнодушно спросил Раух.
– История обычная, – ответил Штейнбреннер, – одна группа из семнадцати человек во главе с офицерами, занимавшая оборону возле тракторного завода, самовольно отошла под натиском русских. Причем оба офицера подстрекали солдат сдаться в плен, раздавали им русские листовки, ругали фюрера. Ну, а вторая группа нашла в развалинах сброшенный самолетом мешок с консервами и утаила свою находку. Вот начальник штаба и решил разделаться с ними для поддержания дисциплины.
Не снимая сапог, с головой укутавшись шинелью, Юрген Раух долго ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Тяжелым молотом стучало у него в мозгу: «Кончена жизнь. Кончена жизнь. И все неправда. Все не то. И жизнь – неправда. И жена моя – неправда. И дорога, которой я шел, – сплошная неправда. А что же правда? Где правда? Где выход? Выход один – смерть…» Под утро он забылся в чутком полусне: ему пригрезилось, будто сидит он, застенчивый подросток, на берегу огнищанского пруда, исподлобья любуется смуглой черноглазой Ганей, хочет сказать ей о своей любви, но не может произнести ни одного слова, а она призывно улыбается, и рот у нее алый, зубы ровные, белые. И вот она встает и уходит все дальше и дальше, а он тянется за ней и не может подняться, словно прирос к земле, неласковой, твердой, холодной как лед…
Разбудил Рауха оглушительный грохот артиллерии. Все вокруг гудело. Содрогаясь от непрерывных взрывов, утробно стонала земля. Казалось, все силы ада сошлись в кошмарном карнавале, чтобы в свисте и адской пляске отпеть тех, кто оказался среди мрачных руин Сталинграда, страшного города, из которого уйти не дано. Через полчаса артналет прекратился, наступила странная, пугающая тишина.
– Заспались, Раух! – кричал длинный обер-лейтенант Эрлингер. – А я успел побывать на аэродроме и еле ноги оттуда унес. Там уже русские танки. За каких-нибудь пятнадцать минут они раздавили, вмяли в землю все капониры и блиндажи вместе с охраной аэродрома.
И тут же в подвал, скатился бледный майор Тенгельманн. Опершись ладонью о край сколоченного из досок стола, он сообщил каким-то необычным для него вибрирующим голосом:
– Господа! Русские прислали нам ультиматум. Вот он, можете посмотреть. Мне дали его переписать.
Вынув из папки сложенный вчетверо лист бумаги, Тенгельманн протянул его Рауху. Юрген Раух стал читать ультиматум вслух, запинаясь от охватившего его волнения:
– «Командующему окруженной под Сталинградом 6-й германской армии – генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю.
6-я германская армия, соединения 4-й танковой армии и приданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года. Части Красной Армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не оправдались. Спешившие вам на помощь германские войска разбиты Красной Армией, и остатки этих войск отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным, стремительным продвижением Красной Армии вынуждена часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных издалека. К тому же германская транспортная авиация несет огромные потери в самолетах и экипажах. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной.
Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается; сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых, антисанитарных условиях.
Вы, как командующий, и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.
В условиях сложившейся для Вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития, предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:
1) Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим штабом прекратить сопротивление.
2) Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии…»
Юрген Раух замолчал, с трудом перевел дух. Опустив глаза, он долго смотрел в одну точку на полу. Там, в сыром углу, валялась куча какого-то тряпья. Покрытое инеем тряпье слегка шевелилось, из-под него выглядывали две крысы. Освещенные лучом аккумуляторной лампы, они осторожно водили острыми носами, будто переглядывались и решали важный вопрос: стоит ли остерегаться этих голодных людей, у которых даже им, крысам, уже давно нечем поживиться. «Вот и конец, – лихорадочно думал Раух. – Да, да – конец. Крысы счастливее нас: это их подвал, а нам уходить отсюда… Мы уйдем, а они останутся. Они будут жить…»
– Это конец! – вслух повторил мысли Рауха обер-лейтенант Эрлингер. – Стыд и позор! Довоевались!.. В ультиматуме русских положение нашей окруженной армии определено совершенно точно. Потому они и разрешили себе в обращении к нам твердый тон победителей.
– Повремените с комментариями, Эрлингер, – прервал длинного обер-лейтенанта майор Тенгельманн. – Подполковник Раух еще не дочитал ультиматума до конца.
– Да, да, – спохватился Юрген Раух, – извините, пожалуйста. Я сейчас дочитаю. Надо прийти в себя. Одну секунду.
Он глотнул из кружки ледяной воды и продолжал чтение:
– «Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или любую страну, куда изъявят желание военнопленные.
Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие.
Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.
Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января 1943 года в письменном виде через лично Вами назначенного представителя, которому надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конной – станция Котлубань.
Ваш представитель будет встречен доверенными командирами в районе „Б“ 0,5 км юго-восточнее разъезда 564 в 15 часов 00 минут 9 января 1943 года.
При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность».
– Чьи же подписи стоят под ультиматумом? – спросил Эрлингер.
– Разве это имеет значение? – сквозь зубы сказал Раух. – Впрочем, если это вас интересует, ультиматум подписан так: «Представитель Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Рокоссовский».
Согнув длинную шею, Эрлингер прошелся по тесному подвалу.
– Что ж, – сказал он, – если судить по второй половине ультиматума, то эти русские генералы верны старым традициям истинного рыцарства. Те гарантии, которые они нам дают, проникнуты уважением к побежденным.
– Если бы судьба нас поменяла местами, мы вряд ли предложили бы русским гарантии жизни и безопасности, ордена, личные вещи и все, что они предлагают нам, – с горечью отметил Юрген Раух. – С нашим отношением к русским пленным я, к сожалению, не раз сталкивался и на фронтовых дорогах, и в лагерях, и мне было не только стыдно, но и страшно за наше будущее. Впрочем, теперь мне это безразлично, потому что лично у меня нет будущего.
Тенгельманн и Эрлингер не обратили внимания на скрытый смысл горьких слов Рауха, каждый из них был занят своей судьбой. Юрген Раух понял это. Здесь, в Сталинграде, он не ждал сочувствия ни от кого, хотя ему очень хотелось чьей-то поддержки, доброго участия близкого человека. И он с ужасом подумал о том, что у него не осталось близких людей. Ни одного! Отец и сестра давно умерли. Самовлюбленная эгоистка Ингеборг, именуемая его женой, занята только собой. Кузен Конрад – кровавый палач, ему на все и на всех наплевать.








