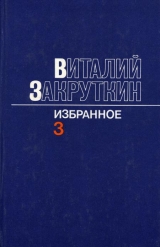
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Балагуря, Егор Иванович наполнил горячей ухой большую миску, достал пару деревянных ложек, разлил самогон в граненые стаканы, чокнулся с Андреем.
– Изыди все хмельное, останься лимонад, – торжественно крестя стакан, сказал он и выпил самогон одним глотком.
Когда острая, пропахшая дымком уха была съедена, Андрей поднялся и сказал:
– Спасибо, уха прямо-таки царская, давно такой не ел. Ну а теперь, Егор Иванович, подбрось-ка жеребцу сенца и давай походим с тобой по саду, потом защитный вал осмотрим.
Они медленно пошли по междурядьям, всматриваясь в каждое деревце. Тонкие, но уже окрепшие стволики были давно побелены и, казалось, светились под лучами утреннего солнца. Набухшие соками почки распускались, а на ранних сортах глянцево блестели нежные листья.
– Поломок нигде нет? – спросил Андрей.
– Откуда им быть? – обидчиво сказал Егор Иванович. – Я наказал пастухам, чтоб они пасли свою скотиняку подальше от сада. Поломок нема нигде, а вот одиннадцать штук яблонь посохли, и все в одном месте, рядышком.
– Почему? – озабоченно спросил Андрей.
Егор Иванович махнул рукой.
– А потому, дорогой агроном, что мы с тобой перед посадкой недоглядели, что аккурат в том месте придурок Филька солярку разлил, цельная бочка у него с прицепа вылилась.
…Сердце Андрея сжалось при виде погибших деревьев. Кора на них по-старушечьи сморщилась, потемнела, ветки остались голыми, а почки засохли, не успев распуститься. Но самую главную опасность Андрей увидел, когда подошел к берегу Донца. Вода в реке поднялась почти до самой кромки обрывистого берега. Видно было по всему, что скоро, может через несколько дней, река выйдет из берегов и ее мутные потоки подберутся прямехонько к неширокому земляному валу, который защищал молодой сад от возможных наводнений.
– Ты замерял суточный подъем воды? – с тревогой спросил Андрей у стоявшего рядом Егора Ивановича.
– А то как же? У меня за сторожкой мерка воткнута, – сказал Егор Иванович. – За ночь водичка поднялась почти что на четверть. Ежели так дело пойдет, то наш вал загудит как миленький и сад будет затоплен.
– Что же делать? – растерянно спросил Андрей.
Егор Иванович постоял, сбив шапку на затылок, долго смотрел на реку.
– Седлай, Андрюха, своего коня, беги до директора, – сказал он. – Нехай едет в район и выпросит в МТС хотя бы один грейдер. Партийный секретарь, товарищ Фетисов, нехай на завтра поднимает народ. Дня два или же три у нас в запасе еще имеется. Будем укреплять вал, пророем канаву от края сада аж до того мысочка и отведем по канаве воду в Дон. – Он хлопнул Андрея по плечу. – Не журись, казак, не опускай крылья. Тут, брат, слезами горю не поможешь. Работать надо и спасать садочек…
Андрей потом надолго запомнил эти три весенних дня. В Дятловскую, пришпоривая Орлика, он мчался как угорелый и думал об одном: «Пропал сад… деревца захлебнутся в воде, они же как малые дети… Надо спасать их, надо уговорить людей, ведь это все для них… для всех…»
В станицу он прискакал потный, разгоряченный, разыскал Ермолаева, Младенова, Фетисова. По приказу Ермолаева больше ста рабочих наутро были отозваны с огородов, парников, из коровников. Володя Фетисов бегал по дворам, беседовал со стариками, уговорил учителей, чтобы они пришли в сад и привели учеников старших классов. К вечеру из районной МТС прислали старый, разболтанный грейдер. К нему сразу же приставили двух трактористов, чтобы за ночь отремонтировать видавшую виды машину. Вся Дятловская гудела, как потревоженный улей. С вечера станичники готовили совковые и штыковые лопаты, сапки, грабли, женщины загодя укладывали в корзины харчи, а рано утром все потянулись к саду.
Возле Донца толпы людей постояли, осматриваясь. Река уже вышла из берегов. По неприметным низинкам вода мелкими, на первый взгляд совсем не опасными лужицами потекла в сторону сада, туда, где в сотне метров от берега слабо зеленел первый ряд стройных деревцев.
– Бедняжечки вы наши, – ласково запричитали сердобольные старухи. – Стоят и не ведают, какая беда на них идет…
– А яблоньки славные, одна в одну…
– Как же нам не пожалеть такую красу?
– Известное дело, надо помощь им оказать…
В четырех местах, там, где было пониже, вода уже приблизилась к невысокому земляному валу, стала кое-где подмывать его поросший редкой травой откос. Главный агроном совхоза Любен Георгиевич Младенов, как всегда молчаливый и сосредоточенный, прошагал вдоль вала, показывая, где забивать остро отесанные колья. Следом за ним с кольями и длинным шнуром шел Егор Иванович.
– Там, где шнур натянут, начинайте копать канаву, – громко говорил рабочим Андрей, – чем глубже будет канава, тем лучше. Землю отбрасывайте в сторону вала, ее подберет грейдер.
Часть трассы, по которой должна была пройти отводящая воду канава, проложил трактор с плугом. Следом за трактором протянулась темная борозда. К ней не мешкая кинулись люди, замелькали лопаты, сапки. Кое-кто вытаскивал влажную землю ведрами.
Среди школьников Андрей мельком увидел Наташу. В неудобных больших калошах, которые поминутно спадали с ее маленьких ног, с выбившимися из-под материнского платка растрепанными косичками, она, согнувшись, тащила наполненное землей ведро.
– Ты что? Надорваться хочешь? – сердито закричал Андрей. – Ну-ка брось ведро и возьми сапку!
Наташа остановилась, испуганно посмотрела на Андрея. Ей хотелось сказать, что ведро не тяжелое, она даже шагнула навстречу Андрею, но споткнулась и упала на колени, потеряв калоши. Девчонки засмеялись. Андрей подошел, взял опрокинутое ведро, помог Наташе подняться и увидел в ее глазах слезы.
– Дурочка, – мягко сказал он, – разве так можно? Иди помой руки и работай сапкой или лопатой.
– Я же хотела как лучше, – всхлипывая, прошептала Наташа, – мне сад жалко.
– Ладно, ладно, я понимаю, – улыбаясь, сказал Андрей. – Ты молодец, Таша, но ведра с землей больше не таскай.
Он выбрал большую совковую лопату, поплевал на ладони и стал выбрасывать из канавы землю. Трактор с плугом уходил все дальше, вдоль борозды появлялось все больше людей, они работали молча, стараясь не отстать от соседей. Солнце поднялось выше, стало жарко. Глаза Андрея заливал соленый пот, ладони горели, но ему стыдно было бросить лопату и хоть немного отдохнуть. Он с затаенным страхом посматривал в сторону реки, на далекий противоположный берег, слушал тревожные крики грачей над полузатопленным лесом и думал: «Неужто не успеем, неужто не справимся и сад пропадет? Нет, нет, не может быть. Надо только не останавливаться, работать быстрее». Во рту у него пересохло, он часто сплевывал горькую, тягучую слюну, ему казалось, что силы вот-вот оставят его и он уронит лопату и рухнет на влажную, холодную землю.
Сколько времени прошло, Андрей не знал. Углубляя канаву, люди подвигались все дальше, но до поросшего старыми тополями мыса, где сливались две реки, было еще далеко. Мимо Андрея, толкая перед собой тачки с землей, проходили мужчины, усталые женщины с ведрами, а он, стиснув зубы, сипло дыша, выбрасывал и выбрасывал из канавы землю, и казалось, ей не будет конца.
Как во сне, услышал он голос Наташи:
– Андрей Дмитриевич, люди проголодались. Вас зовет дядя Егор. Пойдемте обедать. – Она с жалостью смотрела на его потное, исполосованное пылью лицо, подошла ближе, тихо повторила: – Пойдемте обедать. Давайте лопату, дядя Егор ждет…
Наташа подала Андрею мыло, стала из кружки сливать ему на руки воду, сняла с плеча чистое полотенце.
– Спасибо, Таша, – сказал Андрей. – Сразу легче стало.
На сухом взлобке невысокого кургана, расстелив брезент, сидели Ермолаев, агроном Младенов, Егор Иванович, Володя Фетисов. На откосе земляного вала, на поваленных бревнах, а то и просто на земле рассаживались смертельно уставшие дятловцы. Женщины доставали из корзин куски сала, бутылки с молоком, вареный картофель. Несмотря на усталость, Андрей радовался тому, что станичники сразу откликнулись на его просьбу помочь саду.
– Ежели денька три так поработаем, сад останется целым, – утешил его Ермолаев.
Хмурый Младенов посмотрел на Андрея.
– От воды мы сад, видимо, отвоюем, – сказал он. – А вот я проверил примерно сотню деревьев, на них появилось много бурой и зеленой тли, особенно на яблонях и сливах. Это такая сволочь, что может сожрать всю молодую листву, а химикатов никаких у нас в совхозе нет.
– Ничего, мы подлечим деревья по старинке, как деды лечили и нас учили, – ободрил начальство неунывающий Егор Иванович. – Соберем по всей станице табачок да махорку, сделаем крепкий настой, стирального мыла туда прибавим и скажем этой проклятой тле: пожалуйте бриться. Она сразу лапки кверху поднимет…
Пообедали быстро, не задерживаясь. И опять замелькали в руках у людей лопаты, ведра, заскрежетали нагруженные землей тачки. Высоченный тракторист Филя, которого все в станице называли Полтора Километра, взгромоздившись на грейдер, стал подбирать выброшенную из канавы землю, оттаскивал ее к валу и там разравнивал.
Андрей снова взялся за свою совковую лопату. Солнце уже пригревало вовсю, он снял пиджак и расстегнул воротник сорочки. С каждым взмахом лопата становилась все тяжелее, но, поглядывая на беззащитные деревца, боясь того, что люди не успеют преградить путь губительной воде, он упрямо выбрасывал из канавы землю, дышал, как запаленный конь, но работу не оставлял.
Работавшие поблизости женщины, не выдержав, заговорили о нем:
– А молодой агроном, видать, настырный парень.
– Не иначе, в деревне возрастал.
– Мокрый весь, будто его искупали, а отдохнуть стыдится.
– Ничего, такой сдюжает, порядок наведет.
Языкатая Панка Бендерскова, смазливая бабенка, от которой сбежали два мужа, игриво проворковала:
– Чегой-то он все один да один, жинка толечко разок показалась в станице и кудысь умотала. Может, приголубить его? Жалко такого мужика, даром добро пропадает.
– Нишкни, шалава, еще услышит, – оборвал ее кто-то.
Андрей, медленно подвигаясь по канаве, выбрасывая лопатой землю, думал о Еле, о Димке, и зло его разбирало… Мысленно упрекал он себя в том, что так и не смог переломить, осилить упрямство жены, вынужден был подчиняться ее желаниям и жить здесь, в станице, каким-то неприкаянным бобылем, который не сегодня, так завтра может стать посмешищем для всей Дятловской. Андрей много раз спрашивал у Ермолаева, когда в конце концов начнут строить совхозные дома для специалистов, но тот ничего утешительного не мог ему сказать – ссылался то на нехватку денег, то на отсутствие строительных материалов. Впрочем, чем дальше шло время, тем больше Андрей убеждался в том, что даже при наличии квартиры Еля вряд ли откажется от города. Она, если судить по ее редким письмам, привязалась к школе, в которой преподавала музыку, была довольна тем, что Димка хорошо учится, и ни разу не упомянула о возможности ее переезда в Дятловскую…
Солнце уже было на закате, когда к Андрею подошел секретарь парткома Володя Фетисов и сказал, отдуваясь:
– Пожалуй, хватит, Андрей Дмитриевич, народ уморился. Школьники, так те прямо на ногах не держатся. Надо отпускать людей домой, иначе завтра никто не придет. – Школьников можно отпустить, – сказал Андрей, – а мы чего будем бросать так рано?
– Женщины начали ворчать, ведь их ждут коровы, свиньи и прочая живность, – продолжал настаивать Фетисов. – Нельзя заставлять людей работать до одурения. Так мы сами себе навредим.
Андрей вздохнул, бросил лопату.
– Ладно, Володя, кончать так кончать…
Таясь от подружек, подчиняясь горячему желанию возвращаться домой рядом с Андреем, идти с ним по лугу в вечерних сумерках, слушать его голос и не помнить себя от счастья, Наташа нарочито долго возилась у реки: мыла злосчастные калоши, старалась умываться подольше и все время поглядывала, не ушел ли Андрей. Но Андрей все еще стоял возле тачанки, в которой сидели Ермолаев и Младенов. Когда Наташа робко подошла к ним, Андрей мельком глянул на нее и сказал Ермолаеву:
– Иван Захарович, подвезите до станицы мою молодую хозяйку.
– А ты чего? – спросил Ермолаев. – Садись, места хватит.
Андрей вздохнул и сказал, как будто оправдывался:
– Я не поеду, останусь тут и жеребца своего оставлю. Буду следить за рекой. Если что, не обижайтесь: поскачу в станицу и разбужу всех. Боюсь я за сад.
Ермолаев пожал плечами, засмеялся:
– Чудак ты, Ставров! В саду остается сторож Ежевикин, ему это по чину положено и вообще. А там как хочешь, вольному воля.
Он помог опечаленной Наташе сесть в тачанку, крикнул кучеру:
– Поехали!..
Андрей с Егором Ивановичем долго сидели у костра. Говорить не хотелось. Егор Иванович разворошил костер, запек пару лещей. После ужина пошел проверил свою вешку с насечками и сказал, позевывая:
– Уморился я, в сон меня клонит, пойду в сторожку, прилягу. Насчет водички ты, Митрич, дюже не тревожься, прибывает она почти что неприметно.
Он подбросил в костер сушняку и побрел спать.
Стемнело. Сухие ветки быстро прогорели. Костер стал угасать. Сквозь тонкий слой пепла еще светились тускнеющие жаринки. Андрей сидел на обрубке бревна, смотрел на остатки костра, и ему так же, как когда-то в детстве, казалось, что он один летит высоко над землей, а где-то внизу сверкают далекие огни огромного города, и в этом городе живет великое множество людей, и у каждого из них своя судьба, свои беды и радости, свои большие и малые дороги.
За левобережным лесом взошла огромная красноватая луна. В ее неверном свете Андрей увидел крайние ряды деревцев в саду. Они чуть угадывались на фоне звездного неба. «Вот и моя дорога привела меня к этому саду, – подумал он, – и разве я когда-нибудь смогу покинуть его? Ведь в каждом деревце живу я сам, и все они живы мною, от меня они ждут защиты, ласки, заботы, во мне их жизнь…»
В займище стояла нерушимая тишина поздней ночи. В этой тишине Андрей слышал плескание сонной рыбы в реке, шуршащие шаги ежей в сухих бурьянах на берегу, смутные, таинственные звуки, которые едва доносились из леса, из трав и которые показались ему невнятным, недоступным человеку голосом живой земли…
Его клонило ко сну. Сладко ныло наморенное тело. Он закрыл глаза, и ему опять показалось, что он летит высоко над уснувшей землей, а под ним далеко внизу медленно проплывают леса, моря, реки, незнакомые города, вся земля с ее счастьем и несчастьем, жизнью и смертью, с бесконечным ее движением, которое никакие силы не могут остановить, и где-то там, среди множества чужих людей, живет она, Еля, которой ему так не хватает в этом ночном одиночестве, в томящей душу тишине.
4
Жизнь Елены Ставровой проходила спокойно и размеренно. Платон Иванович Солодов, ее отец, удивился тому, что она согласилась с предложением директора музыкальной школы, в которой работала уже два года, перейти на новую квартиру, выделенную для нее школой.
– Зачем тебе эта квартира? – спросил он. – Или ты все еще надеешься, что Андрей согласится жить в городе?
– Квартира никогда не помешает, – сказала Елена. – Если мне придется уехать, я верну ее школе.
Солодовы понимали, что дочери не совсем удобно жить вместе с ними. Она тяготилась тем, что подросший Димка, живой, не очень послушный мальчишка, то и дело нарушал порядок в доме, сорил, играми своими и криком мешал Платону Ивановичу отдохнуть после утомительной работы на заводе, это нервировало Елену, и, как ни успокаивали ее отец и мать, она невольно чувствовала себя виноватой.
Когда обрадованная Елена принесла ордер на квартиру и показала его родителям, Марфа Васильевна настороженно спросила:
– А ты, Еля, с мужем посоветовалась? Ты подумала о том, как он отнесется к твоему уходу от нас?
– Я послала ему письмо, но ответа до сих пор нет, – сказала Елена. – Не могу же я ждать месяц. Мы с Димкой уже так вам надоели, что мне просто неловко.
По просьбе дочери Платон Иванович взял на заводе грузовой автомобиль, нанял грузчиков. Теплым майским днем Елена с сыном переехала в другой конец города. Квартира была на третьем этаже, небольшая, но уютная, с удобным расположением двух просторных комнат, с большим балконом на солнечную сторону. В связи с переездом пришлось и Димку переводить в другую школу, но это не потребовало больших хлопот.
Недели две Елена приводила квартиру в порядок: тщательно вымыла окна и двери, натерла воском паркетный пол, с помощью друзей по школе расставила мебель. Так же как почти каждой женщине, ей доставляло удовольствие развешивать шторы, поливать цветы на подоконниках. Ослепительная чистота была, пожалуй, манией Елены. В свободное время она могла часами ходить по комнатам с тряпкой в руке и с наслаждением протирать зеркально сверкающий лак пианино, стекла в шкафах, стулья, диван, и все-таки ей казалось, что где-нибудь осталась противная пылинка, которую надо найти и стереть.
Наконец все стало на свои места: кровати, тумбочки, этажерки с книгами и нотами, фотографии Андрея и Димки на письменном столе, флаконы с духами, пудреницы на трельяже. Синеглазую куклу Лилю, которую когда-то давно Марфа Васильевна подарила дочке, Елена водрузила на пианино.
Все было хорошо. Огорчило Елену только письмо Андрея. Оно было коротким и холодным, без обычного ласкового обращения.
«Ты привыкла действовать так, как тебе хочется, – писал Андрей. – И я не могу понять, почему вдруг понадобились мои советы, с которыми ты никогда не считалась. Уже давно я жду тебя и сына в Дятловской, а ты в это время с помощью неизвестных мне покровителей получаешь квартиру и спрашиваешь, как тебе поступить: въезжать в обретенное тобою жилище или отказаться от него. Я давно понял, что любые мои слова, обращенные к тебе, это глас вопиющего в пустыне, поэтому воздержусь от унижающих меня советов. Поступай как хочешь…»
Письмо Андрея Елена прочитала матери. Марфа Васильевна встревожилась, укоризненно покачала головой.
– Я знала, что так будет. Неправильно ты делаешь, Еля. Муж есть муж. Надо было съездить к нему, поговорить как следует, узнать, что он думает. А теперь видишь, как все получается.
Елена положила письмо на тумбочку, задумалась, потом посмотрела на мать и вдруг улыбнулась.
– Ничего, мама, не волнуйся, – сказала она. – Этот упрямец приедет, посмотрит, как здесь хорошо, и сразу шелковым станет…
Как всегда, Елена была уверена, что письмо Андрей написал в порыве гнева. Зная его вспыльчивость, она не сомневалась, что он быстро отойдет, и потому была спокойна. Что касается Дятловской, то Елена считала, что это лишь очередное увлечение мужа, который вбил себе в голову, что они почему-то должны жить у черта на куличках, в невылазной грязи, в бескультурье – и только потому, что он, видите ли, привязан к земле, к своим деревьям и еще там к чему-то. При редких встречах с Андреем она с усмешкой называла его «запоздалым народником», иронизировала над его ватной стеганкой, в которой он не стеснялся появляться в городе, над неуклюжими яловыми сапогами, которые неприятно пахли лошадью и навозом. Елена считала, что человек может работать и приносить пользу людям независимо от того, где он живет. Она при этом не раз ставила в пример своего отца, который много лет работал на разных заводах и при этом жил хоть в небольших, но чистых квартирах, носил чистые, отглаженные сорочки, не чурался галстуков, по воскресеньям ходил с женой и друзьями в театр.
Театр Елена полюбила, будучи еще маленькой девочкой. Ей нравились воскресные дни, когда отцу не надо было идти на завод, и он долго и тщательно брился на кухне, подолгу сидел в ванне, смывая с себя кисловатые запахи металла и машинного масла, с удовольствием фыркал, плескался и выходил розовый, помолодевший, веселый, благоухающий свежим одеколоном. А мать уже стелила на столе белую скатерть, ставила испеченный с вечера пирог, звенела посудой. К завтраку приходили товарищи отца по заводу с женами, такие же нарядные, усаживались за стол, степенно, не торопясь смаковали вкусные, приготовленные матерью блюда, пили вино, говорили друг другу хорошие слова, играли в лото или в карты, потом гуляли, обедали, й, наконец, перед вечером начиналось самое главное, то, чего с таким нетерпением дожидалась маленькая Еля, – сборы в театр.
Красивая, слегка полнеющая мать надевала праздничное платье, поправляла перед зеркалом прическу, пудрилась, потом наряжала ее, Елю, и ей было так приятно ощущать на себе легкое розовое платьице, из-под которого чуть выглядывали белоснежные панталончики с кружевом, бегать по комнатам, поскрипывая новыми башмачками, останавливаться перед материнским зеркалом и любоваться темными своими локонами, над которыми колыхался, как огромный цветок, шелковый бант.
И вот театр. Елины глаза разбегались при виде красиво одетых женщин и мужчин, которые чинно ходили по бесконечному фойе, пили у мраморных стоек буфета искристый лимонад, ели сладкое пирожное с кремом. А от театрального зала можно было с ума сойти! Всюду малиновый бархат, сверкающие позолотой ложи, в которых сидят красивые, как в сказке, дамы с перламутровыми веерами, переливающийся свет невиданно прекрасной люстры, вокруг которой торжественно трубят румяные младенцы с ангельскими крыльями! Как приятно было медленно идти рядом с отцом и матерью по наклонному к сцене, устланному коврами полу и слышать вокруг себя слова восхищенных зрителей: «Какая очаровательная девочка!», «Чудесный ребенок, не правда ли?» – идти и знать, что слова эти относятся к тебе, к твоему платьицу, банту, башмачкам, и радоваться тому, что ты красива, что пройдет немного лет и ты станешь такой же, как обольстительные дамы в ложах, и радоваться этому, и гордиться собой…
А когда в зале наступала полутьма и впереди, словно заря, смутно светились тяжелые складки бархатного занавеса, откуда-то из таинственных глубин, покорная воле стоявшего на возвышении человека в черном фраке, вдруг начинала звучать тихая, волнующая музыка, Еля забывала все на свете: сидящих в темном зале людей, отца, мать, себя. Очарованная музыкой, она была обращена туда, где вот-вот раздвинется малиновый занавес и перед притихшим залом появятся деревья старого парка, поющие девушки, юноши в цилиндрах. Они будут танцевать, веселиться, потом девушка в ночной сорочке, озаренная волшебным светом, станет петь о своей безответной любви. Как волновалась в эти минуты Еля и как плакала, когда один из юношей, такой молодой, с длинными кудрявыми волосами, печально пел о минувших золотых днях, о близкой смерти, а другой юноша, такой же красивый, убил его, своего друга. А музыка, уплывая куда-то ввысь, грустила об утерянном человеческом счастье, которое было так близко, так возможно…
Еле исполнилось десять лет, когда наступил голод и вместе с тысячами горожан, бежавших от голодной смерти в далекие села, хутора и деревни, семья Солодовых оказалась в селе с пугающим названием – Пустополье. Молчаливые, угрюмые люди с изможденными лицами голодали и там, умирали от тифа, а вокруг были только невылазная грязь, тусклые коптилки в нетопленных избах, холод и тоска. В те хмурые зимние ночи, как о светлом видении, вспоминала Еля о сверкающем огнями театре, о божественной музыке, о веселой перекличке автомобилей на людных городских улицах, о блестящих витринах магазинов, за которыми красовались одетые в модные платья восковые манекены. В Пустополье Еля училась в школе, занималась музыкой со старой учительницей, которая пуще глаза берегла свое единственное сокровище, пианино, и довольствовалась тем, что могла кое-когда посидеть у Солодовых за скудным обедом. В школе за Елей мальчишки увивались табунами, и среди них самым настойчивым был острый на язык белобрысый грубиян Андрей Ставров, сын деревенского фельдшера. Еля подружилась тогда с толстой ленивой хохотушкой Любой Бутыриной, с неунывающим Гошкой Комаровым и его похожей на японочку сестрой Клавой, с красавцем Виктором Завьяловым. Но как только миновала пора голода и Солодовы сразу же вернулись в город, обрадованная Еля быстро забыла их всех, а жизнь в захолустном Пустополье показалась ей кошмарным сном…
Могла ли Еля знать в годы своего беззаботного девичества, что судьба сведет ее с тем самым грубоватым Андреем Ставровым, который когда-то в пустопольском лесу для доказательства своей любви к ней разрезал себе руку ржавым ножом, а потом, как дикарь, залепил глубокий разрез сырой землей? Могла ли она подумать, что станет женой этого странного упрямца, что он увезет ее куда-то на край света, в тайгу, убедит ее родить сына, а потом будет настойчиво тащить в похожую на Пустополье глухомань, где он задумал насадить сад и теперь бредит этим садом как одержимый?
Не один раз Елена задавала себе вопрос: что заставило ее связать свою жизнь с Андреем? Любовь? Может быть, если те чувства, которые она испытывала к нему, можно назвать любовью. В школьные годы там, в пустопольской глуши, Еля ничем не выделяла этого резкого мальчишку. Он в ее глазах был таким же смешным увальнем, как и остальные ее поклонники. Отличался, пожалуй, только тем, что мог оскорбить кого угодно, часто был угрюмым и преследовал ее своей любовью больше всех других. Когда жизнь разбросала их в разные стороны, Андрей писал Еле из своей Огнищанки длиннейшие письма, продолжал писать и оттуда, из тайги, куда переехала вся семья Ставровых. Еля аккуратно складывала его письма в большую коробку из-под конфет, иногда читала вслух отцу и матери, от которых ничего не скрывала. Вначале они все трое незлобиво посмеивались над письмами Андрея, но прошел один год, второй, повзрослел в своей дальней тайге Андрей, а почтальон продолжал носить в квартиру Солодовых письма, в которых были те же неизменные слова любви. И тогда при чтении этих писем за вечерним столом исчезли шутки, и Еля, ее отец и мать поняли, что перед ними что-то большое, глубокое, настоящее, то, что дается людям один раз в жизни.
Елю трогали письма Андрея, волновали… Но ненадолго. Она вспоминала о них, когда смотрела на коробку, в которой они хранились, и тотчас же забывала, занятая иными мыслями. Андрей был очень далеко, а здесь, в городе, ее внимание занимали другие люди. Чуть ли не каждый день к Солодовым приходил Юрий Шавырин, сын их давних друзей, услужливый, ласковый человек, уже успевший получить диплом инженера. Он влюбился в Елю, ходил с ней в театр, целыми вечерами сидел в ее комнате, искусно копируя из журналов узоры для вышивки, или пел, негромко подыгрывая себе на гитаре. Разговаривая с Марфой Васильевной, он много говорил о преданности их семье, о своей службе на химическом заводе, а однажды, слегка стесняясь и путаясь, прямо сказал, что был бы счастлив, если бы Еля вышла за него замуж.
В тот вечер Марфа Васильевна рассказала дочери об этом разговоре. Еля, подумав, неопределенно махнула рукой, сказала лениво:
– Юрий славный, но какой-то очень толстый и рыхлый. Он не в моем вкусе. Понимаешь, мама? Ты как-нибудь намекни ему об этом поделикатнее.
Марфа Васильевна вздохнула.
– Я все понимаю, Елка. Но тебе уже подходит время думать о своей жизни. Такая уж наша женская доля, от нее никуда не денешься. Музыка музыкой, дело это хорошее, но не век же ты будешь сидеть в девках. Тебе двадцатый год пошел…
Слова матери заставили Елю задуматься. Она никого не любила и не раз удивлялась тому, что ее подруги, даже школьные, влюбляясь, ночей не спали, худели, тосковали, как-то странно изменялись, целиком отдаваясь чувству любви. Еля не понимала этого, шутила над потерявшими голову девчонками, а сама оставалась спокойной… Шло время, из заброшенного, никому неведомого таежного Кедрова продолжали приходить письма Андрея, в которых он писал, что любит Елю по-прежнему, жить без нее не может, умоляет стать его женой. Потом неожиданно появился он сам, а с ним его отец и веселый товарищ Гоша Махонин. И тогда, в то памятное лето, Еля решила, что от судьбы не уйдешь. Любовь Андрея, длившаяся больше десяти лет, с дней давно минувшего детства, его постоянство, привязанность, его мольбы заставили наконец Елю прийти к мысли, что Андрей будет хорошим мужем… Ни в первый месяц их жизни, который люди почему-то именовали «медовым», ни после, когда родился Димка, Еля не почувствовала того счастья, которое представлялось ей при чтении книг, при слушании оперных арий, когда красивые мужчины и женщины пели об испепеляющей их страсти, а прекрасная музыка словно уносила их куда-то в недоступные выси. Нет, ничего этого Еля не испытала. Она лишь покорно подчинялась горячим, требовательным ласкам Андрея, а потом с удивлением думала: «И это то, что люди называют любовью, самым высоким счастьем, и утверждают, что это – сильнее смерти? Странно. Не правильнее ли будет назвать это стыдной необходимостью, которая не имеет к любви никакого отношения?» Она чувствовала, что Андрей понимает, не может не понять ее состояния, потому что при, всей его любви и нежности он становился раздражительным, угрюмым, а однажды утром, скрывая под кривой усмешкой свое подавленное настроение, подошел к столу, взял в руки куклу Лилю, которую Еля всегда возила с собой как дорогой для нее подарок матери, долго рассматривал немыслимо лазурные глаза куклы и вдруг сказал:
– Знаешь, ты, по-моему, ничем не отличаешься от этой твоей Лили. Ты такая же неживая… Жаль, что нет богини любви, позволившей когда-то древнему художнику оживить мраморную статую, в которую он был влюблен. Художника, кажется, звали Пигмалионом…
Оба они, и Андрей и Еля, поняли тогда, что в их отношениях появилась какая-то незаметная трещинка, совсем малая, вроде бы совсем неопасная. Надеясь, что все со временем образуется, они не придали этому никакого значения. Так же как многие девушки, Еля до замужества думала, что жизнь с человеком, который ее любит, ничем не будет отличаться от того, о чем он, влюбленный, писал в своих письмах, что никакие ссоры не смогут омрачить эту беззаботную жизнь. На деле же все оказалось иначе. Еле запомнились слова Андрея в одном из его писем, что он будет выполнять все ее желания. А что получилось? Оказывается, не только надо было воспитывать сына, жить так, чтобы не залезать в долги, думать о завтраках, обедах, ужинах, стирать и гладить белье, убирать комнаты, ходить на базар, то есть делать все то, что делают тысячи тысяч замужних женщин, но и надо было ежедневно знать настроение мужа, считаться не только с собой, как это было до замужества, но и с другим человеком, своим мужем, соглашаться с ним или спорить, поступать по-своему или прислушиваться к тому, что он говорит.
Исполнял ли Андрей желания Ели, как он это обещал? Нет, далеко не всегда. Правда, с Дальнего Востока, из этой проклятой, пугающей Елю тайги, они по ее настоянию все-таки уехали, хотя он не хотел этого и уезжал скрепя сердце. Она уже радовалась тому, что они будут жить недалеко от отца и матери, в городе, где можно будет ходить в театр, слушать музыку, определить Димку в хорошую школу. Но вместо этого Андрей поселился в какой-то Дятловской, насадил там сад, живет в жалкой хибарке и тянет туда Елю с сыном… И теперь, когда ей удалось получить квартиру, он прислал обидное, оскорбительное письмо и, чего доброго, явится и устроит скандал. Он это может. Как тогда, в Кедрове. Прошло восемь лет, а она до сих пор не забыла эту дикую сцену: возвратился с охоты пьяный, приревновал ее к такому же пьяному учителю, который наболтал ему что-то, дома отвратительно ругался, не стыдясь отца и матери, и, если бы не отец и не Федор, застрелил бы ее, Елю, а она даже в глаза не видела влюбившегося в нее учителя… Это было давно, и они с Андреем много раз ссорились и мирились, но их отношение к ссорам и примирениям было совершенно разным. Еля удивлялась тому, как быстро менялся, отходил Андрей: кричит, беснуется, а смотришь, через пять – десять минут походит по комнате, помолчит и уже обнимает ее и начинает каяться, наговаривать на себя черт знает что. Еля так не могла. После каждой ссоры, в которой они оба в равной мере были виноваты, она неделями не разговаривала с Андреем, ставила ему на стол обед, а сама тотчас же уходила…








