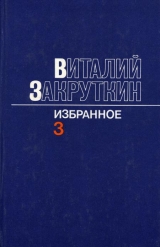
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
На пристани его уже поджидали Ермолаев, Младенов и многолюдная толпа рабочих совхоза. Подошел пароход. Дятловцы кинулись к Андрею, наперебой что-то говорили ему, а он ничего не слышал; мысли его были заняты одним: «Где Наташа?»
Андрей увидел ее, когда уже скрылись в легкой утренней дымке последние дятловские дома и зазеленели деревья дубового урочища. Наташа стояла на песчаной отмели, одинокая, маленькая, жалкая в своей беззащитности. Проводив пароход взглядом, она низко опустила голову и, сутулясь, медленно побрела домой.
2
«Резиденцией» генерала Краснова, куда были вызваны Петр Бармин и Максим Селищев, оказался довольно просторный особняк на окраине Берлина. Он был окружен невысокой оградой с чугунными воротами и такой же калиткой. Вдоль ограды расхаживал часовой в немецкой форме. Предъявив пропуск, Бармин с Максимом вошли во двор, по выложенной плитами дорожке зашагали к дому. На веранде их встретил молодой офицер, коротко бросил:
– Прошу подождать, господа.
Прошло минут десять, и вдруг Максим увидел в дверях есаула Гурия Крайнова, давнего своего сослуживца, с кем он был у белых, делил тяготы эмигрантской жизни в Турции и Болгарии, батрачил в поместье мсье Доманжа во Франции. Там они расстались врагами. После отказа Максима бежать к генералу Франко Крайнов назвал его предателем и грозил расправиться с ним. Сейчас есаул, одетый в мундир капитана гитлеровской армии, загорелый, крепкий, стоял в дверях и, усмехаясь, смотрел на Максима.
– Ну, здорово, полчанин! – весело сказал Крайнов. – Все ж довелось нам с тобой повидаться, а я уж не чаял!
– Мы могли повидаться в Мадриде, – стараясь держать себя в руках, спокойно ответил Максим. – Я ведь тоже, был у Франко.
Крайнов шагнул к нему, раскинув руки.
– Знаю, все знаю, друг. Земля слухами полнится. Рад был, что ты образумился и пошел бить красных. Давай же обнимемся, как доложено казакам-односумам после долгой разлуки.
Они обнялись. Отступив от Крайнова, Максим сказал:
– А князя Петра Бармина ты не узнаешь? В Испании мы воевали вместе с ним.
– Ну как же! – воскликнул Крайнов. – Разве можно забыть виллу «Ирен»? Я вас приветствую, дорогой князь. И прошу, господа, пройти к атаману. Его превосходительство ждет…
В большой, скупо обставленной комнате, куда они вошли, за столом, заваленным бумагами, сидел дряхлеющий Краснов. На диване, небрежно закинув ногу на ногу, полулежал круглолицый Шкуро – в белом шелковом бешмете, в шароварах с генеральскими лампасами и сверкающих лаком сапогах. Его черная черкеска с позолоченными газырями висела вместе с кинжалом и наборным поясом на спинке стула.
– Садитесь, господа офицеры, – осипшим голосом сказал Краснов. – Я пригласил вас, чтобы поблагодарить за ту записку о положении на Дону, которая была приготовлена вами и передана мне. Она, э-ээ, очень обнадеживающая. Кроме того, мне хочется поздравить вас, князь, и вас, господин Селищев. Вчера моим приказом… э-ээ… вам обоим присвоено звание войскового старшины. [10]10
Подполковник в казачьих войсках.
[Закрыть]
– Но, ваше превосходительство, в тысяча девятьсот шестнадцатом году мне был присвоен лишь первый офицерский чин – хорунжего, – сказал Максим.
Шкуро засмеялся:
– А ты не журись, хорунжий! За двадцать пять лет, если бы не красные, ты мог дослужиться до генерала. Я вот тоже до революции есаулом был, а Деникин меня сразу в генералы произвел, потому что ему некуда было деваться!
Вертя в сухих пальцах пенсне, Краснов укоризненно посмотрел на Шкуро и продолжил:
– Судя по тем сведениям, которыми я располагаю, фюрер готовит новое большое наступление против большевиков. Можно не сомневаться, что оно будет успешным. Между тем вверенная мне фюрером казачья войсковая группа, к сожалению, еще не обладает достаточной силой. Слаба…, э-ээ… даже количественно.
– Мне бы мою старую волчью сотню, – потягиваясь, перебил его Шкуро. – Я бы им показал силу… так их пере-так! Вся бы Кубань заполыхала!
– Подождите, генерал, – брезгливо кривя бескровные губы, сказал Краснов и снова обратился к офицерам: – На днях рейхефюрер Гиммлер по просьбе рейхсминистра Розенберга разрешил нам вербовать казаков среди советских военнопленных. В наше распоряжение любезно предоставлена самая подробная карта лагерей, в которых находятся плененные вермахтом красноармейцы. И я решил, господа, направить сорок своих офицеров для вербовки добровольцев в группу казачьих войск.
Шкуро поднялся, прошелся, скрипя сапогами, по вытертому ковру и, посмеиваясь, добавил от себя:
– Вы, новоиспеченные войсковые старшины, при разговорах с пленными не дюже привередничайте насчет казачьего происхождения. Нам один черт, кто у нас окажется под личиной казаков. Нехай они будут хотя бы готтентотами, абы шли с нами и убивали большевиков. Ну, а списочек кубанцев для меня составьте отдельно. Кубанцами я сам займусь, они мои старые знакомые.
Развернув на столе большую карту, Краснов сказал:
– Прошу взглянуть сюда, господа офицеры. Здесь показана вся или почти вся сеть концлагерей, которая нас интересует. В Освенциме, Белжеце, Майданеке, Собиборе, Треблинке и Хелмно, то есть в лагерях, расположенных на бывшей польской территории, советских военнопленных долго не задерживают. Туда направляют в основном комиссаров, этих самых… э-э… политруков и прочих коммунистических функционеров, которых по прибытии… э-ээ… сразу же к праотцам. Следовательно, эти лагеря для нас бесполезны. Другое дело Дахау, Терезиенштадт, Бухенвальд, Берген-Бельзен, Нейенгамме, Равенсбрюк. Впрочем… э-ээ… в Равенсбрюке, кажется, заключены женщины.
Шкуро хмыкнул, цинично ухмыльнулся:
– Ну и что? Бабенки казакам тоже нужны, с ними веселее. Можно было бы и из молодых девок сформировать два-три подвижных батальона для утехи казаков. Или вас, Петр Николаевич, женщины уже не прельщают?
– Перестаньте паясничать, – сердито оборвал его Краснов. – Вы, генерал, не в туземной дивизии и не в вашей волчьей сотне. Знаю, в свое время вы возили с собой гаремы и, видимо, потому так быстро были разгромлены большевиками.
– Не быстрее, чем вы, Петр Николаевич, – огрызнулся Шкуро. – Вам большевики тоже всыпали дай боже!
Максим с нескрываемым удивлением слушал перебранку старых генералов, пользовавшихся когда-то широкой известностью. Бармин презрительно улыбался. Только Крайнов, давно привыкший к подобным сценам, держался как ни в чем не бывало, почтительно дожидаясь продолжения разговора.
Повертев карандаш, Краснов ткнул его острием в кружок на карте, обозначавший город Веймар, и, помедлив минуту, изрек:
– Здесь неподалеку Бухенвальд. Завтра, господа офицеры, вы отправитесь туда для вербовки нужных нам людей. Все трое. В сопровождении официального представителя эсэс, которому… э-ээ… надо будет подчиняться, не слишком, впрочем, подчеркивая это, чтобы не унизить свое достоинство в глазах пленных красноармейцев. Пленные содержатся в Бухенвальде в таких… э-ээ… неподходящих, мягко говоря, условиях, что, я думаю, их вербовка не составит для вас особого труда.
– Им там жрать не дают, они каждый день дохнут как мухи, – добавил Шкуро. – И работать их заставляют так, что дым идет.
– Пленным надо пообещать все блага, – продолжал Краснов. – И прежде всего немедленное освобождение из лагеря, отличное питание, обмундирование, высокое жалованье, а после разгрома большевиков… э-ээ… обширные земельные наделы и восстановление исконных казачьих привилегий. Что касается государственного устройства на Дону, Кубани и Тереке, то… э-ээ… оно будет определено в соответствии с обещанием фюрера предоставить казакам самую широкую автономию…
Максим смотрел на глянцевую лысину Краснова, на его выцветшие, испещренные красными прожилками глаза, на лиловую кожу сухих старческих рук, вслушивался в сиплый, невыразительный голос атамана и думал: «Ничего ты в жизни не хотел понимать и ничего не понял, жалкий живой покойник. Старую песню поешь, народ быдлом считаешь. Но сколько слепых придурков, таких, как я, шли когда-то за тобой, кровь свою проливали, верили в то, что воюют за казачью славу и честь! Какая слава? Какая честь? Сейчас ты сам немецкий холуй, лижешь сапоги Гитлеру. Однако вновь пробуешь скликать несчастных, обреченных на смерть пленных под свое рваное иудино знамя, которое давно стало гитлеровской портянкой. Ухватить бы стул да грохнуть тебя по твоей плешине, чтоб не смердел ты больше, отвратный хорек. А заодно с тобой стукнуть бы и этого кубанского бандюгу».
Почувствовав дрожь в руках, Максим закинул их за спину, сделал шаг назад. Краснов посмотрел на него равнодушно, кусочком светлой замши протер пенсне и закончил, покашливая:
– Полагаю, вам все ясно, господа? Завтра к десяти ноль-ноль попрошу прибыть сюда. Здесь получите соответствующие документы и прямо отсюда отправитесь в Бухенвальд…
Весь вечер Максим с Барминым провели в мрачном молчании. Тревожило их многое: то, что немцы явно готовились к новому наступлению на Восточном фронте, а когда и какими силами оно будет осуществлено, раскрыть пока не удалось; то, что до сих пор не состоялась встреча с единственным человеком, которому они могли верить, – с полковником Хольтцендорфом; то, что в квартире фрау Керстен не появлялся тот, о ком упоминал в Москве Тодор Долов и кому надо было передать первые сведения о штабе Краснова. Тревожило их обоих и то, наконец, что завтра они должны играть гнусную роль вербовщиков, склонять к измене, к самому отвратительному предательству умирающих от голода, замордованных, плененных немцами соотечественников.
– Пускай это возьмет на себя мой дорогой полчанин Гурий Крайнов, – угрюмо обронил Максим, – а мы, Петро, постараемся остаться немыми свидетелями.
– Что ж, попробуем… – согласился Бармин.
К десяти утра, как было приказано Красновым, оба они явились в его канцелярию. Там их поджидал Юлиус Фролих. Он приветливо поздоровался и сообщил:
– Все готово, господа, мы можем ехать. Мой «мерседес» к вашим услугам.
Фролих оказался на редкость говорливым и предупредительным. Уже через час он приказал шоферу остановить автомобиль и угостил своих спутников отличным коньяком и апельсинами, а когда поехали дальше, стал рассказывать о Бухенвальде, посасывая при этом леденец:
– Строительство бухенвальдского концлагеря началось пять лет назад. До войны в нем содержались только немцы из числа противников фюрера, в основном коммунисты и социал-демократы. Живописный, между прочим, уголок – лагерь расположен на склоне горы Эттерсберг, в окружении буковых и дубовых лесов, где когда-то часто бывали Гёте и Шиллер. Некоторые слюнявые интеллигенты стали было протестовать: как, мол, можно строить концлагерь в таком месте, это же оскорбление памяти немецких гениев. Но их быстро образумили, упрятав в этот же лагерь. – Фролих самодовольно заржал, выплюнул леденец и попробовал сострить: – Теперь Бухенвальд можно считать четвертым интернационалом. В лагерных блоках вы встретите и чехов, и югославов, и французов, и голландцев, и бельгийцев. Есть там и англичане, и поляки. Много и ваших русских. Все обязаны работать. А тот, кто работать не желает или работает плохо, немедленно подвергается наказанию.
– Какому? – спросил Бармин.
– Разному, – пожал плечами Фролих. – Одних на несколько дней лишают пищи, других сажают в карцер, а наиболее злостных лодырей и симулянтов подвергают публичной порке… Каждому – свое!..
После еще двух остановок и обильного опробования коньяков оберштурмфюрер Фролих решил, что с приверженцами казачьего атамана Краснова он может быть предельно откровенным, и сполна удовлетворил «любознательность» Бармина:
– Мы не церемонимся, действуем по формуле «уничтожение трудом». Тех, кто упорно отлынивает от работы, комендант лагеря имеет право расстрелять или повесить, а потом сжечь в печах лагерного крематория. Туда же, в эти печи, отправляются все обессилевшие, одряхлевшие, неизлечимо больные… Используются пленные и в интересах науки – рейхсфюрер Гиммлер разрешил лагерным врачам проводить на них различные медицинские опыты: делать им прививки сыпного тифа, ожоги смесью для зажигательных авиабомб, кастрировать облучением, часами выдерживать в ледяной воде, производить подкожные впрыскивания стрихнина, карболовой кислоты, бензина – словом, распоряжаться ими как угодно, лишь бы выжать из каждого максимум пользы для великой Германии.
– Думаю, оберштурмфюрер, что при таком положении заключенных вряд ли нам стоит утруждать себя пропагандистскими речами, – сказал сквозь зубы Бармин. – Достаточно открыть лагерные ворота, и все ваши подопытные кролики побегут не только под знамена Краснова, а и в преисподнюю.
– Вы ошибаетесь, князь, – вмешался молчавший всю дорогу есаул Крайнов, – среди них преобладают фанатики: сами себе горло перегрызут, но против Советов воевать не станут.
– И потом, не думайте, уважаемый герр Бармин, что в наших лагерях царит анархия, – добавил Фролих. – Ничего подобного! У нас все расписано по параграфам, и, если лагерная администрация позволяет себе нарушить утвержденные рейхсфюрером правила, ее немедленно наказывают, как это совсем недавно произошло с комендантом Бухенвальда – заслуженным партайгеноссе Карлом Кохом.
– А что с ним произошло? – спросил Бармин.
– Во всем, пожалуй, виновата его экстравагантная жена, фрау Ильза Кох, – раздумчиво сказал Фролих. – Уж очень вызывающе она вела себя. Упражнялась в стрельбе по живым мишеням и убила немало вполне трудоспособных мужчин и женщин. Очень любила оригинальные сувениры – высматривала заключенных с красивой татуировкой, а потом по ее приказу этих субъектов уничтожали, снимали с трупов кожу и изготовляли либо абажур, либо сумочку, либо футляры для ножей. Я сам видел в лагерном коттедже Кохрв неподражаемый сувенир! Представьте себе настольный светильник из человеческой головы! Да, да! Лампа из человеческой головы! – воскликнул Фролих, не скрывая своего восхищения. – Голову отпрепарировали, высушили, обработали по древнему методу туземцев Океании, насадили на обработанную таким же образом человеческую стопу с пальцами и в мизинец аккуратно вмонтировали кнопку-выключатель! А все это чудо венчает полупрозрачный абажур из татуированной человеческой кожи!
Этого рассказа Фролиха не выдержал даже есаул Крайнов. Приоткрыв боковое стекло «мерседеса», он сплюнул на лоснящийся асфальт.
– Тьфу, гадость какая! Надо же додуматься до такого!
– А что же все-таки произошло с комендантом Кохом? – стараясь сохранить внешнее спокойствие, спросил Бармин.
Фролих махнул рукой:
– Штандартенфюрер Кох – безвольный кретин. Он не только позволял своей благоверной демонстрировать подобные сувениры, но, потакая ее неистощимым прихотям, запустил руку в лагерную кассу, хапнул крупную сумму денег и в конечном счете был предан суду…
Максим до крови прикусил губу. «Сволочи, сволочи! – возмущался он про себя. – Как же терпит таких немецкий народ? Почему молчит? Почему не вцепится в их поганые глотки, не растерзает изуверов, не втопчет в землю? Почему, наконец, ты, господи, терпишь это?.. Или уж в самом деле нет на свете никакого бога?..»
Светило ласковое весеннее солнце, бронированный автомобиль бежал до гладкому шоссе, слева и справа зеленели ухоженные рощицы и луга, на которых паслись сытые пестрые коровы, мелькали аккуратные домики с высокими черепичными крышами, сверкающие промытыми стеклами теплицы, огородные грядки, цветники, ровно подстриженные газоны. Все казалось таким добрым, мирным, спокойным, таким чистым и теплым, что Максим содрогнулся, представив, какую картину предстоит увидеть ему через какой-нибудь час.
Неподалеку от Веймара по желанию Фролиха остановились в последний раз. Теперь уже не только для того, чтобы продолжить опробование набора французских коньяков, а и перекусить на лоне природы. Но едва расположились на обочине шоссе, с запада стала заходить темная с желтоватой бахромой грозовая туча. Такой же неестественно желтый свет разлился вокруг, потянуло холодом. Сорвался ветер и закружил, погнал по дороге пыль. Загромыхали отдаленные раскаты грома. Фролих, быстро собрав разложенные на опрокинутом чемодане сыр, колбасу, салфетки, первым вскочил в автомобиль. За ним, зябко поеживаясь, кинулись и остальные. По кузову автомобиля застучал град. Крупные ледяные шарики запрыгали на мокром асфальте, скатываясь в кювет.
От Веймара до Бухенвальда было не больше десяти километров. К железным воротам лагеря автомобиль еле подполз, буксуя в лужах. Рапортфюрер – дежурный офицер-эсэсовец, одетый в черный непромокаемый плащ, – проверил документы прибывших и показал им, как проехать к вилле нового коменданта лагеря штандартенфюрера Германа Пистера.
Дождь лил как из ведра. Сквозь густую его завесу смутно просматривались ряды деревянных и каменных бараков, вымощенный булыжником аппельплац, высокие сторожевые вышки, массивная кирпичная труба крематория, еще какие-то приземистые, похожие на конюшни, мрачные строения непонятного назначения, двойные линии колючей проволоки, опутывающей всю территорию лагеря. Людей не было видно нигде. Лагерь казался покинутым.
Угрюмый комендант Пистер, выслушав Фролиха, сказал:
– Заключенные еще на работах. Они вернутся в лагерь через час.
И тут же стал жаловаться, как трудно ему самому и как нелегко ответственным за работы арбайтединстфюрерам следить за тысячами «грязных свиней», которые всячески саботируют выполнение любого полезного дела и даже устраивают опасные диверсии.
– Самое же неприятное заключается в том, – раздраженно отметил он, – что в Бухенвальде, как, впрочем, и во всех других концлагерях, действуют подпольные коммунистические организации, в которых, к стыду нашему, состоят и немцы, отбывающие наказание.
– Неужели, господин штандартенфюрер, так уж сложно выследить этих смутьянов и вздернуть всех на виселицу? – спросил Фролих с профессиональной заинтересованностью. Ведь они же за колючей проволокой, бежать им некуда.
– Их сам дьявол не выследит, – зло ответил Пистер. – Они руководствуются принципом: «Все за одного, один за всех». Этот коммунистический принцип твердо усвоили не только русские, а и поляки, и французы, и немцы, и чехи. Короче говоря, он стал господствующим среди заключенных.
Зазвонил телефон. Пистер послушал и распорядился:
– Русских задержать и вывести на аппельплац, остальных запереть в блоках. Сейчас я выйду к воротам. – Бросив телефонную трубку, он снял с вешалки плащ и обратился к прибывшим: – Пойдемте, господа…
Когда вышли из виллы, дождя уже не было. На трехэтажных сторожевых вышках вспыхнули прожекторы. Распахнулись железные ворота. Слева и справа от ворот выстроились вооруженные карабинами эсэсовцы с овчарками на поводках.
Стуча по асфальту тяжелыми деревянными башмаками-колодками, в мокрых, прилипших к телу полосатых штанах и куртках в лагерь хлынули колонны заключенных. Многие из этих согбенных, дрожащих от холода людей едва волочили ноги, спотыкались, боязливо поглядывая на своих палачей в клеенчатых черных плащах. При ярком свете прожекторов резко выделялись разноцветные треугольники и крути, нашитые на робу каждого лагерника.
Говорливый оберштурмфюрер стал вполголоса объяснять своим спутникам:
– Национальность лагерное начальство узнает по литерам, нанесенным несмываемой черной краской на красные шевроны: «Р» – это французы, «Н» – голландцы, «Р» – поляки, «Т» – чехи, «К» – ваши, русские. С красными и желтыми треугольниками, наложенными один на другой и образующими шестиугольную звезду, – евреи, они все кандидаты в крематорий. Зеленый треугольник – свидетельство того, что перед вами уголовный преступник. Небольшой кружок под треугольником обозначает штрафника, а белая окружность на фоне красного круга, похожая на мишень, свидетельствует, что перед вами тип, пытавшийся бежать из лагеря…
Бесконечные потоки несчастных медленно растекались по междурядьям угрюмых блоков. За каждым таким отделившимся ручейком следовали эсэсовцы. Хрипло лаяли, натягивая поводки, натасканные на людей овчарки. С двадцати трех, вышек, окружавших лагерь, хищно поглядывали пулеметы.
На аппельплац были выведены шесть тысяч русских узников. Бледные, изможденные лица. Высохшие, бессильно опущенные руки. А в глазах сверкает ненависть.
Какой-то эсэсовец подошел к Пистеру, сжимая в руке трубку микрофона, за которой тянулся тонкий провод, спросил негромко:
– Кому, господин комендант?
Коменданта опередил Бармин – кивнул Крайнову:
– Есаул, говорите вы.
Крайнов взял из рук эсэсовца микрофон, потоптался, откашлялся и заговорил, неестественно напрягая голос:
– Здравствуйте, земляки-красноармейцы! Мы, посланцы атамана всевеликого Войска Донского его превосходительства генерал-лейтенанта Петра Николаевича Краснова, прибыли в Бухенвальд, чтобы протянуть вам руку братской помощи. Обманутые Советской властью, брошенные в бой своими командирами и комиссарами, вы подняли оружие против освободительницы нашей попранной родины – непобедимой армии великого фюрера Гитлера. Что из этого получилось, вы узнали добре. Скоро войска фюрера окончательно добьют большевиков, ибо никто на свете не в силах противостоять немецкому солдату. Мы с вами можем приблизить этот желанный час. Фюрер Гитлер разрешил атаману Краснову сформировать казачий добровольческий корпус для вызволения России из лап большевиков. От имени атамана всевеликого Войска Донского мы призываем вас всех вступить в это боевое соединение…
Аппельплац был объят тишиной. Шесть тысяч узников молчали.
Крайнов заговорил о немедленном освобождении добровольцев из лагеря, о привилегиях, которые они получат, о харчах, о добротном обмундировании.
– Чтобы служить в казачьем корпусе, не обязательно быть казаком, – продолжал он свои «разъяснения». – И национальность не играет никакой роли. Зато после победы все добровольцы будут причислены к казакам и получат большие земельные наделы…
Аппельплац продолжал безмолвствовать, будто там не было ни одного человека, хотя лучи двадцати трех прожекторов четко высвечивали похожие на белые маски изможденные лица узников, их мокрые полосатые робы и лужи под ногами.
– Что ж вы молчите, земляки? – недовольно загудел искаженный микрофоном басок есаула. – Фюрер Гитлер и атаман Краснов дают вам возможность расстаться с подневольной жизнью, стать свободными людьми и вернуться к своим семьям в обновленную Россию. Чего тут долго думать? Прошу всех, кто готов послужить святому делу, поднять руки!
Ни одна рука не поднялась. Аппельплац молчал. В долгом, тяжелом молчании измученных, умирающих от голода людей таилась такая сила, такая немая угроза, что есаул Крайнов попятился, опустил трубку микрофона. И в это мгновение гробовую тишину плаца вдруг прорезал громкий надтреснутый голос:
– Катись отсюдова, продажная сука! Хочешь купить нас куском хлеба да теплыми штанами, подлая тварь! Не выйдет! Близится час твоей собственной гибели! Сгинешь ты вместе с кровавым выродком Гитлером и паршивым своим атаманом!
Раздались пронзительные свистки. Взахлеб залаяли собаки. Высокий эсэсовец выхватил из рук испуганного есаула микрофон и заорал, широко разинув рот:
– Разойдись по бло-оокам! Ужин никому не выдавать!
Пистер выразительно посмотрел на гостей из Берлина, усмехнулся криво и заключил:
– Эту большевистскую банду не испугает даже смерть…
На обратном пути в Берлин словоохотливый Фролих помалкивал. Мрачно молчал и есаул Крайнов. Бармин сдержанно улыбался, и Максиму хотелось обнять его на радостях – так он был взволнован и восхищен железной волей запертых в лагере советских солдат.
Дома их ждала еще одна радость. В столовой фрау Керстен они увидели на диване молодую светловолосую девушку в модном синем платье. На ее красивых руках сверкали массивные серебряные браслеты, ярко накрашенный рот приветливо улыбался.
Фрау Керстен, отложив вязание, представила ее:
– Моя младшая сестра Гизела Вайсенборн. Художница. Живет в Альт-Ландсберге.
Селищев и Бармин учтиво поклонились.
Несколько минут спустя фрау Керстен отлучилась на кухню. Поднялась с дивана и Гизела Вайсенборн, но из столовой не вышла, а только прошлась из угла в угол и, продолжая улыбаться, проговорила вполголоса:
– Я очень рада нашему знакомству. Между прочим, дядя Тодор из больницы вышел и просил вас не беспокоиться.
Художница из Альт-Ландсберга приехала в Берлин как связная Тодора Цолова.
3
5 апреля 1942 года Адольф Гитлер подписал директиву, в которой были определены задачи и цель летней кампании на Восточном фронте.
Цель формулировалась так: «Окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы».
Задачи выдвигались следующие: «Сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ… Все силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожения противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет…»
Уже в конце мая по большому пустопольскому тракту, вздымая тучи пыли, загромыхали танки с черными крестами, артиллерийские тягачи, автомобили с мотопехотой. Немецкие войска устремились на юг.
До мая немцы почти не заглядывали в глухую, захудалую деревушку Огнищанку. Всего два или три раза были. Похватали телят, свиней, кур и исчезли.
От имени немецкого командования власть в Огнищанке и окрестных хуторах должен был осуществлять староста – Спирька Барлаш. Для поддержания «нового порядка» немцы выдали ему чешский карабин. Но трусливый Спирька и с карабином побаивался выходить из собственной хаты. Пока никого не трогал. Не выдал даже коммуниста Илью Длугача, бывшего председателя Огнищанского сельсовета, хотя отлично знал, что тот хоронится на сеновале. «Черт его знает, чем это все кончится, – рассуждал про себя Барлаш, – может, красные еще очухаются и врежут Гитлеру. Лучше мне держаться до поры до времени подальше от греха, безногий Длугач никуда не денется…»
Однажды Спирька наведался к старикам Ставровым, но ни словом не обмолвился о своей встрече с их младшим сыном Федором. Только переполошил Дмитрия Даниловича и Настасью Мартыновну. Ведь у них еще отлеживался за печью раненый комиссар Михаил Конжуков. Выздоровление комиссара шло медленно, раны заживали плохо.
Ставровы встретили Спирьку на крыльце. Преграждая ему путь в жилую половину дома, Дмитрий Данилович оперся плечом о дверной косяк. Взволнованная Настасья Мартыновна топталась за спиной мужа. Это насторожило Спирьку – он разгадал их маневр. Тем не менее повел себя смиренно – стоял у крыльца и мямлил, сверля старого фельдшера бесцветными своими глазками:
– Так оно вот чего, гражданин или господин Ставров… Не знаю, ей-право, как теперь вас именовать… Пришел я до вас помощи просить.
– Заболел, что ли? – сухо спросил Дмитрий Данилович.
Спирька потоптался на месте, переступая с ноги на ногу, оглянулся, понизил голос до шепота:
– Нервы меня замучили. До невозможности нервным я сделался. Да и как не сделаться нервным, когда такое кругом творится? Красные скрозь отступают, прямо без оглядки бежат. На хуторах дезертиры появились, до баб-солдаток в мужья пристраиваются. По всему видать, конец Советской власти приходит… – Он притворно вздохнул, страдальчески сморщил безбровое одутловатое лицо. – Вот меня старостой поставили, ответственность возложили за то, чтобы новый порядок никто не нарушал. Я обязан про этих беглых красноармейцев немецкому начальству доложить. А меня жалость одолевает, нервы мучают. Так что прошу дать мне какой-нибудь порошок либо другое лекарство от нервов.
– В амбулатории сейчас нет ничего подходящего, – сказал Дмитрий Данилович. – Вы бы, как староста, потребовали от своего начальства снабдить нас медикаментами…
Спирька ушел, но тревога, навеянная его появлением, не покидала Ставровых. Дмитрий Данилович рассказал обо всем раненому комиссару. Тот внимательно выслушал его и тут же сделал вывод:
– Мне надо уходить.
Но куда уходить? И как уходить, если он, Конжуков, даже по комнате еле-еле передвигается с палочкой?
Дмитрий Данилович вспомнил, что в Казенном лесу, в самой что ни на есть глухомани, возле родничка, кем-то давным-давно вырыта и обложена камнем-голышом добротная землянка. Ее случайно обнаружил, будучи еще мальчишкой, Федор Ставров.
Старый фельдшер предложил Конжукову перебраться в эту землянку.
– Туда, Миша, сам черт не доберется, – заверил он комиссара.
– А долго мне еще быть беспомощным? – с тревогой и надеждой спросил Конжуков.
Дмитрий Данилович почесал затылок. Ответил не сразу:
– Недели две-три, не меньше. И то при хорошем питании. Насчет питания можешь не беспокоиться – харчами обеспечим. Об этом позаботится моя Мартыновна. Раза два она сумеет сходить в лес, вроде бы за хворостом.
Ставровы очень привязались к раненому комиссару. Смуглолицый, темноволосый Михаил Конжуков напоминал им одного из сыновей – Романа. И характером был схож с Романом – такой же горячий, скорый на решения. Но в те тревожные дни, когда немецкие войска валом валили по пустопольскому тракту и все чаще сворачивали в Огнищанку, расставание с ним стало неизбежностью. Охваченный страхом за его жизнь, Дмитрий Данилович сам стал поторапливать Конжукова:
– Так что будем делать, Миша? Как ты решил насчет землянки в лесу?
Конжуков не заставил долго ждать ответа.
– Землянка так землянка. Мне бы только поскорее стать на ноги и перейти линию фронта. Долечивайте меня, Данилыч, где вам угодно, лишь бы толк был…
Ночью, соблюдая все меры предосторожности, Дмитрий Данилович обильно смазал оси легкой амбулаторной двуколки – чтоб колеса не скрипели, уложил в нее несколько буханок только что испеченного Настасьей Мартыновной хлеба, картофель, лук, банку соли, фонарь, запряг лошадь и долго стоял у ворот, вслушиваясь в ночные звуки. На тракте было тихо.
– Поехали, Миша, – объявил он, возвратясь в дом. – Ночь темная, авось проскочим незамеченными.
Заплаканная Настасья Мартыновна перекрестила Конжукова, прошептала:
– В добрый час, сынок… Дай тебе бог удачи…
С помощью Дмитрия Даниловича Конжуков сел в двуколку, сбоку положил заряженные пистолеты.
Огнищанка спала. Они выехали за деревню, никого не встретив по пути. Постояли в кустах неподалеку от пустопольского тракта, благополучно пересекли его и углубились в лес.
Повеяло влажной свежестью, и как бы еще более сгустилась тишина ночи. Лишь откуда-то издалека доносился то ли танковый, то ли автомобильный рокот.
– Движутся, сволочи, – угрюмо обронил Конжуков. – И все на юг, все на юг. Не иначе как прорван там фронт, вот они и лезут в дыру. Должно быть, на Кавказ рвутся.
Дмитрий Данилович тяжело вздохнул:








