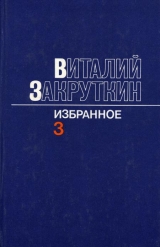
Текст книги "Сотворение мира.Книга третья"
Автор книги: Виталий Закруткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
– Думаю идти работать.
– Куда?
– Мне предложили уроки музыки в школе, – сказала Еля. – Это близко отсюда и для меня очень удобно.
– А до меня не близко и, значит, не очень удобно тебе… – Усмешка покривила губы Андрея.
– Я знала, что при первом же приезде ты заведешь об этом разговор, – сказала Еля. – Но неужели тебе непонятна самая простая логика?
– Самая простая логика такова: если женщина замужем, она должна быть там, где живет ее муж, – не удержался, возвысил голос Андрей. – А у нас с тобой что получается?
– Я не хочу сидеть на твоей шее и превращаться в домашнюю хозяйку. Кто ж виноват в том, что тебя загнали в такую дыру, где нет даже самого захудалого клуба?
По выражению потемневших Елиных глаз Андрей понял, что она злится. И сразу же присмирел, испуганно распахнул глазенки Димка. Андрею стало стыдно за свою несдержанность.
Марфа Васильевна примирительно коснулась руки Андрея, заговорила ласково, как говорят с капризным ребенком:
– Ты зря обижаешься, Андрюша. У тебя там у самого чужой потолок над головой, живешь ты в захудалой хибарке, и ничего у вас в Дятловской нет своего: ни кровати, ни стола, ни стула. Как рассказала нам Еля, в станице даже пекарни нет, каждый печет хлеб дома. Зачем же тащить туда жену прежде времени? Где она будет работать? Кому там нужна ее музыка? Да и с дитем что вы будете делать?
– Я, конечно, в ваши дела не вмешиваюсь, – со свойственной ему деликатностью счел нужным оговориться Платон Иванович, – но и мне кажется, что торопиться тут не следует. Надо полагать, что совхоз построит жилье, пекарню, все, что положено для нормальной жизни, тогда и семью можно забирать. А тем временем Еля пусть поработает здесь, да и ребенок подрастет, окрепнет…
Андрею нравился тесть. Человек простой, незлобивый, Платон Иванович по-своему жалел дочь. Ему не хотелось, чтобы Еля с Димкой уехали в Дятловскую, где, конечно, все не устроено, все надо начинать на пустом месте. Андрей понимал состояние Платона Ивановича, и ему сейчас стало неловко. Не знал он лишь того, что еще до его приезда Платон Иванович, скрывая это от дочери, не без тревоги говорил Марфе Васильевне о том, что при Елином характере ее надо пока удержать от отъезда в Дятловскую, потому что ничего хорошего из этого не получится и что из-за неустроенности деревенской жизни она будет ссориться с мужем.
– Согласен ты со мной, дорогой зять? – спросил Платон Иванович. – Подождем немного или пусть Еля собирается?
– Думаю, что ей надо решить это самой, – сказал Андрей. – Мне надо бежать, иначе груз мой уйдет без меня.
Ему уже не хотелось ни о чем говорить, и он жалел, что начал этот разговор, который не мог привести ни к чему.
Видя, что Андрей поднялся, Еля тоже встала, набросила на себя легкий плащ, сказала Димке:
– Пойдем, сынуля, проводим отца.
Они вышли втроем. Оглядываясь и время от времени дожидаясь их, Димка бежал впереди.
– Чего ты злишься? – спросила Еля.
Она смотрела на темное, обветренное лицо Андрея, на его жесткие, исцарапанные руки и, не признаваясь себе в этом, смутно почувствовала, что делает что-то не то, что она виновата перед этим угрюмым, осунувшимся человеком, ее мужем, который столько лет то застенчиво, то насмешливо и требовательно говорит ей о своей любви и вот волею обстоятельств должен жить в какой-то грязной дыре, в полном одиночестве, далеко от нее и сына. Но, чувствуя странные, незнакомые ей угрызения совести, Еля вместе с тем радовалась тому, что ее сладкая власть над ним продолжается и что все будет так, как она захочет.
– Дурной ты у меня, боже, какой дурной! – улыбаясь, сказала Еля. – Даже Димка и тот спрашивает: куда папа убегает от нас? Почему он не с нами живет?
Андрей остановился как вкопанный, подумал: «Самообладание у моей милой жены потрясающее. Это я, работая в станице, как наморенный конь, оказывается, убегаю от нее и от сына». Он не выдержал, засмеялся.
– Нет, Елка, – сказал он, – ты даже не царевна, как называли тебя когда-то мои братцы. Куда там царевне до тебя! Ты – королева, властительница мира!
Любуясь женой, он посмотрел на Елю так, словно впервые увидел ее статную фигуру, гладкое, румяное лицо, капризно закругленный подбородок, серые, с оттенком весеннего рассвета глаза, чуточку великоватый красивый рот.
– А губы вы, королева, штукатурите по-прежнему, несмотря на просьбы и требования вечного вашего раба? – сказал Андрей.
Еля звонко засмеялась, радуясь тому, что гнев Андрея, как всегда, быстро исчез.
– Перестань паясничать, верный мой раб! Это модно, все так делают, и я не хочу отставать от моды, быть хуже других…
На пристани их встретила всегдашняя суета. Как угорелые метались нагруженные заплечными мешками и корзинами женщины-колхозницы. Пристанские грузчики с предостерегающими толпу окриками катили свои скрипучие тележки и тачки. У бетонного парапета набережной зубоскалили рыбаки-удильщики. Горланили песни загулявшие парни. Стук, грохот, лязг цепей, гудки пароходов и катеров, говор людской толпы и дробный перестук подкованных конских копыт сливались в невнятный, несмолкаемый гул.
Андрей поцеловал Елю, Димку и по крутому трапу сошел на стоявший у причала пароход. Обе пароходные палубы были битком набиты людьми. Раздался третий гудок. Загремели цепи, зашлепали по воде плицы огромных колес. Купола городских церквей, дома, чуть зеленеющие деревья городского бульвара стали медленно уплывать назад. Держа за руку Димку, Еля улыбалась и помахивала белой перчаткой.
К Андрею подошел толстяк в потертом дождевике, одобрительно хлопнул его по плечу и сказал:
– Фартовая у тебя баба… Кр-расотка!
Город уплывал все дальше, и вместе с его улицами, домами, деревьями все дальше уплывали, сливаясь с безликой толпой, Еля и Димка.
6
Политрук кавалерийского эскадрона Федор Ставров, самый младший из братьев Ставровых, приехал в Огнищанку жарким летним днем. Перед отъездом в отпуск он послал домой телеграмму, и потому его ждали. Настасья Мартыновна с ног сбилась, убирая в доме и готовя всякую снедь. Из Пустополья приехали Каля с Гошей. Неожиданно появилась и Тая, причем не одна, а с мужем, Михаилом Дукановым, скромным, добродушным человеком, который сразу всем понравился. Жили они в Молдавии, в небольшом городишко на берегу Днестра, где муж Таи работал инженером, а она врачом.
Федором все Ставровы залюбовались: подтянутый, крепкий, веселый, он отлично выглядел в своей новехонькой военной форме. Все на нем поскрипывало: сшитые на заказ шевровые сапоги, шпоры, ремни портупеи; сверкали алые кубики на синих петлицах гимнастерки и серебристые подковки с двумя скрещенными саблями – эмблема кавалерии.
Встречали его у ворот. Настасья Мартыновна не выдержала, первой кинулась к нему, заплакала. Дмитрий Данилович усмехался в седеющие усы, но тоже подозрительно покашливал. Федор и сам был взволнован. Ведь здесь, в Огнищанке, во дворе, у ворот которого он стоял, в этом приземистом доме, прошло его детство.
После долгих объятий, поцелуев, слез уселись наконец за наспех сколоченный длинный стол под памятным кленом. Пришли соседи, на линейке подъехали Илья Длугач и Демид Плахотин с женами. Оба они без конца обнимали Федора, хлопали его по спине и одобрительно покрикивали:
– Гляди ты, какой вымахал! Ай да Федька!
– Настоящий красный командир, ничего не скажешь!
– И обмундирование на нем дай бог, не то что у нас было в гражданскую!
– А кажись, еще недавно таким свистуном Федюшка тут бегал! Годы идут, ничего не попишешь…
За столом сидели по-крестьянски чинно; от водки, кроме Таи, которая успела сказать Калерии о своей беременности, никто не отказывался, закусывали неторопливо, похваливали соусы и соленья Настасьи Мартыновны, изредка перебрасывались короткими словами, и только когда все было выпито и съедено, мужчины закурили и стали расспрашивать Федора о его службе.
– Расскажи нам, Федя, как там у вас теперь в Красной Армии, – попросил Длугач. – Видать, строгости большие пошли? Это сразу видно по твоей одежде. Она у тебя, брат, вся, как говорится, с иголочки, все пригнано по росту, и шаровары суконные, и гимнастерочка габардиновая. А мы, было время, одеты были кто во что, в старых шинельках Деникину да Врангелю зубы ломали.
Слегка опьяневший Федор усмехнулся, подмигнул Демиду Плахотину:
– Почему кто во что? Я до сих пор помню красные галифе дяди Демида с золотыми лампасами. Наша огнищанская ребятня стадом за этими штанами бегала, генералом дядю Демида считала.
Длугач засмеялся:
– А ты, Федька, как нонешний командир, порасспроси товарища Плахотина, откудова у него те красные галифе взялись и как ему поначалу всыпать за них хотели.
– Чего ж это теперь вспоминать? – смутился Плахотин. – Дело прошлое.
– Нет, ты все же расскажи, – настаивал Длугач.
– Пусть выпьет водки, ему легче будет рассказывать, – сказал Дмитрий Данилович, протягивая Демиду налитый стаканчик.
Демид выпил, крякнул, закусил соленым огурцом.
– Это получилось так… – сказал он и, усмехаясь, помолчал. – В двадцатом году гнали мы польских панов из-под Киева без передыху, по суткам с коней не слезали. А я, как с дому шел, надел суконные дедовы штаны, они у нас в сундуке лежали, дед еще в турецкую войну эти черные парадные штаны по праздникам надевал. И черт их знает: то ли моль их побила, то ли от времени они жидковатыми сделались, а только как стали мы к польской границе приближаться, я поглядел, а в штанах моих зада нема, все чисто седлом попротерло.
Все засмеялись, а Длугач заметил, покручивая прокуренный ус:
– Красиво ты, должно быть, выглядел в этих штанах.
– То-то и оно, – продолжал Демид. – Ну, освободил как-то наш полк большущее украинское село. А рядом с ним – панский замок… Комнат в том замке было сорок, не меньше. Вошел я в одну комнату, вижу: кровать стоит такая, что хоть наперегонки по ней бегай. А над кроватью шатер из красного сукна висит и весь золотыми позументами расшитый. Зло меня взяло, и подумал я: «Какой-то паразит, кровосос под шатрами тут дрыхал, а я должен голым задом людей пужать». Выхватил клинок из ножен и этот шатер-балдахин по самую макушку отхватил. Принес сукно в полковую швальню – оно вроде пожара в руках у меня полыхает – и говорю: «Сшейте мне, братцы, штаны галифе, а из галунов-позументов широкие лампасы пристрочите, чтобы белогвардейская сволочь видела, какой из себя красный конник». Ну, пошили мне хлопцы такие галифе, что закачаешься, и стал я в них красоваться. А тут, как назло, одного разу товарищ Буденный Семен Михайлович смотр полка делал. Подъехал на своем рыжем дончаке к нашему эскадрону, поздравствовался бодро, а глянул на мои штаны, так и насупился, спрашивает у командира полка: «Это что за фельдмаршал у тебя на левом фланге?» Объяснил ему командир, что это, дескать, боец Демид Плахотин, что, мол, дедовские штаны на нем прохудились, так он из панского сукна галифе себе соорудил. Выслушал товарищ Буденный да как гаркнет: «Снять с него эти цирковые штаны, а за самоуправство наказать».
– Ну и как? – давясь хохотом, спросил Длугач. – Отодрали тебя нагайками или помиловали?
– Никак нет, – не без гордости сказал Демид. – Упросил наш командир товарища Буденного, и дали мне разрешение носить мои геройские штаны. Только с того дня товарищ Буденный как увидит меня, так, бывало, и кричит шагов за десять: «Здравия желаю, господин фельдмаршал!»
Приключения председателя колхоза Демида Плахотина рассмешили всех, но Илья Длугач, уважительно называя Федора по отчеству, все же стал настаивать на своем:
– Штаны штанами, а ты, Федор Митрич, расскажи нам, как тебе служится, чего там в Польше творится, после того как пан Пилсудский дуба дал?
– Стоим мы недалеко от границы, в украинском городке, – сказал Федор. – Весной, как положено, в лагерь уходим, учения разные проводим, в маневрах участвуем. С пограничниками у нас добрая дружба. Ну а соседи? Что ж соседи?.. Паны у них и по сей день роскошествуют, бедняки смолоду мрут, а ксендзы им царство небесное обещают.
– Кто ж там зараз верховодит? – спросил Длугач.
– После смерти Пилсудского вот уже два года парадом командует генерал Эдвард Рыдз-Смиглы. Он у них называется генеральным инспектором армии. Оголтелый генерал. В двадцатом году на Украину нападал, так что ты, дядя Демид, вполне мог голову ему снести…
Федор долго и подробно рассказывал о службе, о своих товарищах и командирах. Слушали его внимательно и разошлись поздно, после полуночи. Женщины перемыли посуду, убрали со стола. Ушла спать и Настасья Мартыновна. Но молодые не угомонились.
– Давайте погуляем, сходим к пруду, – предложила Тая.
Всей компанией медленно пошли по примолкшей деревенской улице, сели на склоне холма. Светила полная луна, ее отражение мерцало в тихой воде. Едва слышно шелестела листва старых верб, сонно квакали лягушки. Где-то далеко протяжно, басовитым голосом кричала выпь.
Каля и Тая стали вспоминать о днях детства, рассказывать Гоше и Михаилу об Огнищанке. То и дело слышались слова:
– Помнишь, Тая, как Андрей тебя на лошади катал? Помнишь, как он тебя поцеловал, а ты его дураком назвала?
– А помнишь деда Силыча? Славный был старик…
Как это всегда бывает после долгой разлуки близких людей, они вспоминали давно минувшее, смешное и печальное, и теперь, когда прошли годы, все им казалось милым и дорогим, и в голосе их невольно звучала грусть, потому что они знали, что прошлое никогда не повторится, никогда не вернется, что будет оно, это их прошлое, покрываться туманом забвения, пока не исчезнет совсем, потому что уже некому будет о нем вспоминать…
– Как Андрей живет? – задумчиво склонив голову, спросила Тая и, обращась к мужу, добавила: – Я ведь когда-то была влюблена в него, да, Миша, ты не ревнуй, было это почти в детстве…
– Андрей на Дону живет, в совхозе работает, – сказала Каля. – А Елена с сыном в городе. Не знаю, что она там делает.
– Она мне никогда не нравилась, – призналась Тая. – Когда я ее увидела, – правда, это было давно, – мне показалось, что больше всего на свете она любит себя.
Мягко улыбаясь, Михаил обнял жену.
– Может быть, Тая, тебя тогда ослепляло чувство ревности?
– Нет, Миша, – тихо отозвалась Тая, – а впрочем, не знаю… может быть… дай бог, чтобы я ошиблась. Пусть Андрюша будет счастлив.
Федор молчал, покуривая папиросу. Он искоса посмотрел на Таю и удивился тому, что она, как ему показалось, никак не изменилась: те же большие грустные глаза, те же пушистые, как одуванчик, каштановые волосы, та же тонкая девическая талия. Федор уже знал, что Тая беременна, и мысленно спрашивал себя: какой же матерью будет эта быстроногая, непоседливая девчонка, славная смуглая Тайка, добрая подруга детских лет? Он знал, что Еля не нравилась Тае, и сказал, пряча улыбку:
– А ведь тогда все три брата Ставровых были влюблены в Елку, и я в том числе. Мы издали молились на нее.
– Издали это легче, – сказала Тая, – а вот вблизи, когда она стала женой Андрея, он теперь один расплачивается за общую вашу влюбленность. Не думаю, что ему при этом очень весело.
За Елю решил вступиться восторженный муж Кали, никогда не унывающий Гоша Махонин. Постукивая вербовым хлыстиком по суховатой траве, он заговорил смешливо:
– Милые мои родичи! Что вы напали на Елку? Девка она видная, красивая, с характером. Такая, конечно, не позволит запрягать себя в нагруженную телегу да еще подгонять вот таким хлыстом. Я скажу честно: когда Андрей привез ее на Дальний Восток, мы все ахнули. Вот это, думаем, Андрей отхватил себе жену, ну хоть в театре ее показывай!
Каля молча отобрала у Гоши хлыстик, сломала пополам и отбросила далеко в сторону.
– Ну-ка ты, любитель театра, – надув губы, сказала она, – не пыли! Не видишь, что от травы пыль столбом встает?
– А как Роман? Писал он что-нибудь? – спросил Федор.
– Недавно отец с матерью получили от него большое письмо, – сказала Каля. – Видно, кто-то приехал из Испании в Москву и опустил письмо там, потому что на конверте был московский почтовый штемпель. В письме Роман пишет, что наши добровольцы здорово помогают республиканцам, что Мадрид удержали, но когда ему доведется вернуться домой, он не знает… – Она помолчала, вздохнула и добавила: – Еще он пишет о том, что полюбил красивую девушку, что зовут ее Леся Лелик и что они на фронте все время вместе.
– Если б вы знали, как я ему завидую, – сказал Гоша, – я бы сам на крыльях полетел, чтобы бить фашистскую сволочь.
На холме у пруда они просидели до третьих петухов, и, когда возвращались домой, над Огнищанкой занялась утренняя заря. Место в доме нашлось только Кале и Тае. Мужчинам Настасья Мартыновна постелила у подветренной стены старого амбара, выпросив у бабки Сусачихи чуть ли не целую копну сена. Усталые Гоша с Михаилом уснули сразу. Огнищанка не вызывала у них никаких воспоминаний, они приехали сюда впервые, и ничто не волновало их в этой малой, упрятанной меж двумя холмами деревушке.
Федор долго не мог уснуть. Он лежал, закинув руки за голову, смотрел в бесконечную розовость неба, вдыхал запах сена. Недавно скошенное, увядшее без дождей, под солнцем, сено еще хранило бередящие душу запахи разнотравья, напоминая Федору об огнищанских лугах, о коровах, которых он когда-то пас, о трудной работе в поле.
Всходило солнце. На стене амбара сонно зудели притихшие комары. Внизу, у единственного деревенского колодца, поскрипывал журавель. Далеко на холме протарахтела чья-то ранняя телега. Надрывно мычал соседский теленок. Сзывая коров, захлопал бичом, задудел в рожок вековечный лодырь Капитошка Тютин. Огнищанка просыпалась.
Федор думал о том, как быстро летит время, как постарели отец с матерью, как судьба разбросала в разные стороны их детей. Щемящая боль сжала сердце Федора. Он никому из родных еще не успел сказать, что там, на Украине, у него была любимая девушка Оксана. Они очень любили друг друга. Родители застенчивой голубоглазой Оксаны знали, что их дочь и Федор решили пожениться, стали готовиться к свадьбе, но вдруг весной, совсем недавно, когда Федор верхом на коне подъехал к заветному домику, он увидел во дворе толпу людей. Многие из них плакали. Не понимая, что случилось, он соскочил с коня, вбежал в дом и увидел в горнице гроб, в котором, обложенная цветами, одетая в приготовленное к свадьбе белое подвенечное платье, лежала мертвая Оксана. Умерла она неожиданно, от разрыва сердца…
– О чем задумался, солдат? – услышал Федор голос отца.
Дмитрий Данилович подошел босиком, в ночной сорочке, дымя здоровенной самокруткой.
– Долго спите, друзья, – усмехаясь, сказал он, – пора подниматься. Мать давно завтрак приготовила, и девчата вас ждут…
И потянулись для Федора завтраки, обеды, ужины, долгие дни томительного безделья. По возвращении в Огнищанку старые Ставровы не стали держать ни коров, ни свиней, ни кур. Делать было нечего. Дмитрий Данилович с утра до вечера сидел в амбулатории, Настасья Мартыновна стряпала, стирала, убирала в комнатах. Через несколько дней уехали Каля и Тая с мужьями.
Федор был предоставлен самому себе. Почти никого из его друзей детства не осталось в Огнищанке, разбрелись они кто куда. Неделю Федор с трудом вытерпел, валяясь на сене в прохладном амбаре или гуляя в поле, а потом сказал отцу и матери:
– Поеду я, в полку меня ждут.
– Чего ты, Федюшка, так рано? – всполошилась Настасья Мартыновна. – Побыл бы еще немного. Так мне нудно без вас, места я себе не могу найти и надеюсь только на одно: что вот съедетесь вы все, и будем мы сидеть вечерами, как бывало, и на душе у меня будет спокойно…
– Надейся, мать, – не очень уверенно сказал Федор, – когда-нибудь съедемся…
Ранним августовским утром он попрощался с отцом, с плачущей матерью и уехал в полк, который уже стал для него родной семьей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ1
К юго-востоку от Мюнхена, среди гор и ущелий Баварских Альп, прижатый к высокой скале, стоит одинокий замок. Вооруженные, особо проверенные эсэсовцы днем и ночью охраняют все подходы к замку, и людям кажется, что даже летящая птица не ускользнет от зоркого, настороженного взгляда бдительной стражи. За каждым крутым поворотом извилистой горной дороги, за мрачными обломками скал едва заметны амбразуры пулеметных гнезд, из которых при малейшей опасности на дорогу неотвратимо брызнет перекрестный кинжальный огонь, и эхо тысячекратно повторит грохот длинных очередей.
Дорога заканчивается тупиком, упирается сначала в одну, потом в другую бронзовую дверь. Обе тяжелые двери преграждают вход в тоннель. Здесь, у тоннеля, остаются автомобили даже самых проверенных, самых именитых посетителей замка. Вышколенные офицеры-эсэсовцы тщательно проверят документы гостей, вежливо попросят сдать пистолеты, как бы невзначай коснутся карманов входящих и только после этого поведут посетителей по освещенному тоннелю к лифту.
Обитый сверкающей латунью лифт ходит в прорубленной в скале вертикальной шахте длиной свыше ста метров. Больше никаких подходов к замку нет. Подобно гнезду кондора, он сооружен на площадке среди неприступных скал. Несколько лет специальные отряды инженера Тодта строили среди скалистых гор Баварии дороги, тоннели, лифты и почти неприметный приземистый замок-дворец.
Это угрюмое, неприступное место было выбрано и давно облюбовано Адольфом Гитлером. Совсем близко отсюда проходит граница Австрии. Рядом Швейцария, Италия, куда в случае необходимости можно быстро скрыться и замести за собой все следы. Вспоминая юношеское увлечение архитектурой и свою былую профессию чертежника, Гитлер сам набросал на листе ватмана черновой проект будущего замка, а сотни рабочих Тодта осуществили все, что начертала на бумаге рука мрачного фантазера: крутые горные дороги, подземные коридоры, лифты, вросший в скалы низкий замок с огромными окнами, под средневековье убранными комнатами, дубовой мебелью.
Замок близ Берхтесгадена стал почти постоянной резиденцией Адольфа Гитлера. Здесь, в уединении, денно и нощно охраняемый эсэсовцами, он вынашивал свои планы покорения мира, отсюда руководил рейхом, сюда приглашал самых нужных ему людей. В Берлине Гитлер стал бывать все реже и реже, предпочитая отсиживаться в своем недоступном замке. Причин для этого было несколько: во-первых, фюреру и рейхсканцлеру мешали частые приемы, необходимость встречаться с министрами, послами иностранных государств, генералами. Он же считал, что «избранный народом», «отмеченный божественной печатью» вождь должен быть окружен некоей непроницаемой тайной и, следовательно, верноподданные не могут видеть его слишком часто; во-вторых, в Берхтесгадене никто не мешал ему обдумывать до мелочей грандиозные планы тысячелетнего царства национал-социализма, которые кое-кому из его приближенных могли показаться фантастическими, но здесь, в уединении, он все делал для того, чтобы планы эти сбылись; в-третьих, Берлин с его многолюдством был удобной ареной для организации вражеских покушений на священную особу фюрера, а Гитлер отлично знал, что далеко не все «верноподданные» очарованы его железной хваткой повелителя, и потому боялся каждого встречного, не исключая и своих ближайших соратников; здесь же, в одиноком замке, упрятанном в скалистых Альпах милой его сердцу Баварии, где единственная дорога перекрыта охраной на каждом повороте, где нет ни одного чужого, непроверенного человека, фюрер был спокоен; и, наконец, в-четвертых, среди горных вершин, в пустынных комнатах своей упрятанной от людских взоров резиденции, он мог отдыхать в обществе Евы Браун, красивой немногословной женщины, которая его обожала и к которой рейхсканцлер Гитлер привязался всем сердцем, скрывая, однако, эту свою связь, чтобы никому не дать повода усомниться в аскетизме «избранного богом и народом» вождя нации…
Юрген Раух знал о замке Гитлера в Баварских Альпах, но ни разу не был в нем и очень удивился, когда в один из воскресных дней тесть позвонил ему по телефону и сказал, что сейчас заедет за ним и дочерью, что они приглашены фюрером в его резиденцию и что надо ехать в Берхтесгаден не мешкая.
За последние годы доктор Зигурд фон Курбах сумел утроить свое и без того огромное состояние. С помощью многочисленных агентов он покупал и продавал акции крупных предприятий, участвовал в строительстве секретных танковых и орудийных заводов, не жалел денег на разные, только одному ему известные спекуляции за границей, и его вклады в два самых известных швейцарских банка росли не по дням, а по часам. Один из этих вкладов был предназначен Ингеборг, единственной дочери доктора Курбаха.
К своему молчаливому зятю Юргену Рауху Зигурд фон Курбах относился с легкой насмешливостью, но по-своему любил его за бескорыстие и простоту, которую объяснял влиянием «российской деревенщины». Ни от зятя, ни от дочери доктор Курбах не скрывал своего пристрастия к женщинам, жил на широкую ногу, после смерти жены менял любовниц, щедро одаривал их и прощался с ними, ни о чем не жалея.
…Автомобиль мягко катился по улице. Город остался позади. За стеклами замелькали зеленые поля, аккуратные деревенские домики под островерхими черепичными крышами, стада пестрых коров на огороженных проволокой лугах. Курбах вел свой быстроходный «крайслер» уверенно, не выпуская изо рта сигары, изредка поглядывая в зеркало на сидевших сзади дочь и зятя.
– Знакомство с Гитлером не помешает вам, – сказал он веско, – особенно тебе, Юрген. Советую только не очень распространяться о своем лирическом отношении к России. Правда, фюреру известно о том, что ты вырос в русской деревне, что большевики отобрали у вас поместье и землю. Один из ближайших сподвижников фюрера, Альфред Розенберг, тоже жил и учился в России, но он в отличие от тебя не предается сентиментальным воспоминаниям.
– Каким воспоминаниям? – не без удивления спросил Юрген.
Доктор Курбах вышвырнул за окно огрызок сигары, усмехнулся.
– Разным. О деревенском доме в Огнищанке, о кладбище над прудом, где покоится прах твоих деда и бабки, а самое главное – о русской красавице по имени Ганя, первой твоей любви.
– Откуда вы это взяли? – краснея, пробормотал Юрген.
– Из самых точных источников, – похохатывая, сказал Курбах и в зеркало подмигнул смеющейся Ингеборг. – О твоих лирических воздыханиях нам сообщил со всеми подробностями Конрад Риге, твой дорогой кузен, ныне сражающийся во имя фюрера в Испании.
– Я и не знал, что Конрад такая скотина, – хмуро сказал Юрген.
Курбах словно стер с лица усмешку, стал серьезным.
– Ладно, все это шутки. Однако в присутствии фюрера о России упоминать не следует. Он ненавидит Россию и, я уверен, сам заговорит о своей ненависти. Тебе же советую только слушать.
Ингеборг слегка подтолкнула мужа локтем:
– Отец прав, милый Юрген. При Гитлере надо быть собранным и думать над каждым своим словом. Пока здесь, в автомобиле, нас никто не подслушивает, хочу сказать тебе честно: я не люблю Гитлера. Это твердолобый, примитивный фанатик, который, очевидно, сам поверил в то, что на него снизошло божественное предназначение, о чем каждый день ему твердят льстецы. Но Германии нужны такие фанатики. Ведь за ним идут миллионы немцев…
Юрген заметил, что доктор Курбах посмеивается.
– Разве Ингеборг говорит что-нибудь смешное? – спросил Юрген.
– Нет, она говорит о серьезных вещах, – сказал Курбах. – Действительно, Гитлер не отличается ни гибкостью, ни глубиной ума. Однако в твердости достижения поставленных перед ним целей, в известном артистизме и поразительном умении влиять на толпу ему отказать нельзя. Такие люди нам действительно нужны, и он будет у власти до тех пор, пока выполняет все то, чего от него требуем мы, деловые люди, владеющие капиталом…
Подъем становился все круче и опаснее. Путники замолчали. Доктор Курбах сбавил скорость автомобиля. Слева и справа от неширокой серпантинной дороги уплывали назад мрачные скалы. На поворотах стали все чаще появляться черные фигурки эсэсовцев с автоматами в руках. Они провожали комфортабельный «крайслер» внимательными, цепкими взглядами. Проверка документов и осмотр автомобиля начались возле первого перекрывшего дорогу шлагбаума, потом возле второго, третьего.
Юрген понял, что об их появлении эсэсовские офицеры были предупреждены. Они заглядывали в свои записные книжки, тщательно сверяли лица путников с фотографиями в документах, вежливо осматривали автомобиль и, откозыряв, разрешали следовать дальше.
Вот и последняя площадка перед тоннелем. Здесь все ухожено, вычищено, нигде ни соринки. У дверей тоннеля темнеют прикрытые щитками пулеметные амбразуры.
– Автомобиль останется здесь, – негромко говорит молодой офицер с Железным крестом. – Если, господа, у кого-нибудь есть оружие, прошу сдать, вы его получите при возвращении.
Приняв от Рауха пистолет, офицер, открыв сначала одну, потом вторую дверь, тесно прижимаясь к посетителям, словно невзначай, касается руками карманов, поясов. Уже в освещенном строгими светильниками тоннеле он говорит Ингеборг:
– Извините, фрау Раух, но сумочку вашу придется проверить.
Ингеборг открывает сумку, протягивает офицеру.
– Пожалуйста, здесь только зеркало, расческа и губная помада.
Офицер улыбается краем губ.
– Прошу извинить, но порядок есть порядок…
Сверкающий начищенной латунью просторный лифт уносит всех наверх, в замок.
Юрген Раух впервые увидел Гитлера вскоре после бегства из России. Это было в конце 1921 или в начале 1922 года – сейчас он точно не мог вспомнить, – в тот день, когда кузен Конрад повел его на собрание в пивную «Гофброй», где выступал «барабанщик национальной революции» – так тогда называл себя никому не известный ефрейтор Адольф Гитлер.
С тех пор прошло восемнадцать лет. Уже шестой год фюрер и рейхсканцлер Гитлер властвовал в Германии, теперь его имя знал весь мир. Юрген Раух успел жениться, стал подполковником вермахта. Гитлера он много раз видел на военных парадах, на приемах зарубежных гостей, но разговаривать с фюрером ему довелось только один раз, когда шла расправа с штурмовыми отрядами Рема и Юрген, как офицер Седьмого военного округа, докладывал Гитлеру о том, что прибыл в его распоряжение…
Сейчас фюрер встретил своих гостей у входа в замок. Он был одет в мешковатый френч цвета светлого кофе, черные брюки, сверкающие ботинки. Его темные жесткие волосы были расчесаны косым пробором, чисто выбритое лицо приветливо улыбалось. Рядом с ним стоял рейхсмаршал Герман Геринг в ослепительно голубом, украшенном орденами мундире. Юрген заметил, что по сравнению с толстым, плечистым Герингом фигура Гитлера явно проигрывала, он казался неуклюжим и сутулым. С доктором Курбахом Гитлер поздоровался с подчеркнутой приветливостью. Ингеборг и Юргену протянул руку, словно старым знакомым…








