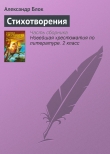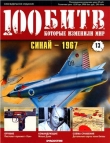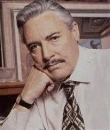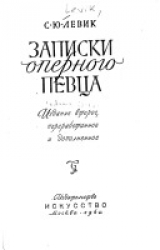
Текст книги "Записки оперного певца"
Автор книги: Сергей Левик
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 49 страниц)
<Стр. 312>
«Жизнь за царя», «Пиковая дама» и т. п. Финская печать относилась к нашим спектаклям чрезвычайно благожелательно.
Накануне 7/20 ноября мы все почему-то засиделись в театре очень поздно. Наутро был назначен «Борис Годунов», в котором мне предстояло появиться в середине спектакля в роли Рангони, и я безмятежно спал у себя в номере.
Около девяти часов утра раздался резкий стук в дверь моей комнаты, а через несколько секунд стали стучать во все соседние двери. Вскочив с постели, я подбежал к двери и услышал хриплый голос Циммермана:
– Скорее вставайте, господа, Лев Николаевич скончался!
Мы все знали о болезни великого писателя, о его отъезде из Ясной Поляны и как будто были готовы к роковому концу. Однако весть нас глубоко поразила.
Минут двадцать спустя мы, несколько солистов, живших в одном пансионе, собрались в гостиной и стали обсуждать вопрос об утреннем спектакле: давать его или не давать. Хор и оркестр были приглашены «на сезон», то есть на две недели, независимо от количества спектаклей. Театр был снят на таких же условиях. Но солисты и «добавочные» получали разовую оплату, и участникам спектакля было предложено уменьшить на одну единицу договорное количество спектаклей, обязательное для антрепренера. Стоит отметить, что не раздалось ни одного голоса протеста, и это помогло небогатому антрепренеру решиться на очень для него все же чувствительный убыток.
К дверям театра был прибит плакат на русском и финском языках, сообщавший о том, что по случаю смерти Л. Н. Толстого утренний спектакль отменяется и стоимость билетов можно до двух часов дня получить из кассы обратно. Впоследствии выяснилось, что далеко не все проданные билеты были возвращены в кассу. Многие понимали, по-видимому, благородный характер поведения труппы и пожелали это отметить. И вышло в конце концов так, что Циммерман понес очень небольшой ущерб.
В этой поездке было примечательно только то, что оркестр всегда приглашался на месте и с одной репетиции почти без ошибок играл каждый день новую оперу.
Если это было понятно в Гельсингфорсе, где во главе
<Стр. 313>
местного симфонического оркестра всегда стояли отличные дирижеры – Шнеефогт и Каянус, то в Або (ныне Турку) мы встретили не профессиональный, а любительский оркестр из двадцати четырех человек. В него входили булочник, врач, два бухгалтера, владелец крупнейшего молочного магазина и т. д. В те годы, когда оркестровая самодеятельность в России была еще в зачаточном состоянии, хорошо «сыгранный» оркестр из любителей, с листа читавший любую оперу, был для нас большой новинкой.
В опере, однако, этот оркестр еще никогда не играл и, читая с листа «Жизнь за царя», запнулся, когда дирижер на речитативах стал «откладывать такты» одним ударом палочки. Музыканты не сразу поняли эту простую механику, но после этой заминки их поправлять почти не приходилось.
В Гельсингфорсе кроме русского театра, в котором мы давали наши спектакли, играла опера на шведском языке. Я побывал на «Евгении Онегине».
Голоса солистов – какие-то «толстые», малоподвижные, хотя и отлично вышколенные, хладнокровие фразировки – меня тронуть не могли. Но в смысле проработки партий и исполнения нюансовых указаний композитора спектакль стоял на немыслимой для наших бродячих трупп высоте. Музыкальная дисциплина и большая культура всего исполнения произвели на меня большое впечатление, и я охотно простил крестьянским девушкам в ларинском саду их высокие каблучки и прибалтийский клетчатый рисунок их юбок.
Вернувшись домой из поездки по Финляндии, я застал несколько телеграмм от совершенно неизвестных мне людей с приглашением на «зимний сезон». Пока я обдумывал, кому из неизвестных мне антрепренеров отдать предпочтение, то есть откуда мне будет легче всего выбраться после краха, я был вызван во вновь образованное концертное бюро И. П. Артемьева, призванное конкурировать с тогдашними монополистами посреднических театрально-концертных операций – местным отделением ВТО и конторой Рассохиной.
Владелец бюро, в недавнем прошлом антрепренер, болезненно толстый человек с добродушным лицом, в золотых очках, сидел на двухместной банкетке, так как ни в каком обычном кресле не помещался. Звали его Иван
<Стр. 314>
Петрович Артьемьев. С трудом и не без кряхтенья, несмотря на молодость, едва приподнявшись мне навстречу, он с торжествующим видом положил передо мной телеграмму на французском языке от директора Лондонского мюзик-холла «Кристалл-палас».
«Читаете?» – спросил он.
Я прочитал дословно следующее:
«Организуйте исполнение оперы «Демон» без хора продолжительностью 38—40 минут два раза в вечер в течение двух месяцев без перерывов. Участие Синодала не обязательно. Для роли Демона пригласите певшего Гельсингфорсе баритона Левика. Начать первого января, телеграфируйте условия, вышлите рекламный материал. Если нужно шить костюмы, шлите эскизы, мерки».
Я просидел весь вечер над клавиром, выкраивая из оперы то, что может заинтересовать публику какого-то театра-ревю. Сколько я ни кроил, на мою долю приходилось двадцать семь – двадцать восемь минут пения на сеанс. Я знал, что «Кристалл-палас» вмещает 4600 зрителей – значит, надо петь все время полным голосом. «Два раза в вечер в течение двух месяцев»—сверлило у меня в мозгу.
Летом 1910 года мне пришлось спеть чуть ли не двадцать спектаклей подряд, но в небольших залах, да и не одного Демона, а Томского, Тонио и тому подобные не очень большой длительности партии. Но после этого я пел Демона и на другой день прочитал о себе в газете, что «артист, видимо, устал». Никакой Лондон и никакие фунты стерлингов компенсировать такую заметку не смогли бы.
Это было первым сигналом. Вскоре после этого в Вильно на двенадцатом спектакле, петом подряд, я вдруг почувствовал такую усталость, такую «ломоту» в горле, что после второго акта «Демона» тайком переоделся и сбежал из театра: пусть допевает кто хочет —мне рано погибать... У меня из головы не выходил тенор Кошиц, который, переутомившись, сорвал голос, стал нищим и перерезал себе горло... Перед глазами встали строчки рецензента «Виленского вестника», который, вообще отзываясь обо мне хорошо, но, подозревая, очевидно, меня в соантрепренерстве, вдруг разразился филиппикой, не лишенной намеков. Ему захотелось узнать «более точную этимологию инфекционных болезней артистов», и он
<Стр. 315>
ребром поставил каверзный вопрос: «Почему, например, не болеет и чувствует себя лучше, чем когда-либо, г. Левик?!! Он собою старается заткнуть все прорехи мужского состава...» Правда, тут же через несколько строк он пишет: «г. Левик был утомлен после Тонио, и сцены не произвели должного впечатления». (Мне приходилось петь в один вечер Тонио и Фигаро или Тонио и Риголетто, причем из второй оперы выпускалась первая картина и опера превращалась в «сцены».)
Казалось бы, если «утомлен», то как можно чувствовать себя хорошо, да еще «лучше, чем когда-либо», но уж бог с ней, с рецензентской логикой... двукратное упоминание о моей усталости, которая уже бросается в глаза, меня надолго отрезвило. Такого финала, какой выпал на долю Кошица, я не хотел, и в Лондон было послано предложение направить меня туда вместе с дублером, дабы мы пели в очередь. Но через день пришел характерный ответ: «Кристалл-палас течение программы исполнителей не меняет». Лопни, так сказать, но пой...
Подвергать себя такому риску я не пожелал и от этого предложения отказался. Тогда директор Концертного бюро предложил мне договор с М. Ф. Шигаевой на «сезон» от рождества 1910 года по великий пост 1911 года.
3
Опытный концертмейстер, интеллигентная и начитанная женщина, свободно говорившая на трех иностранных языках, Мария Федоровна Шигаева знала почти весь ходовой репертуар наизусть и была в состоянии им даже дирижировать, что для женщин в то время было необычно.
Эта симпатичная и уже немолодая женщина питала слабость к антрепренерству, хотя заранее знала, что все ее «дела» неминуемо кончаются крахом.
Строились такие «дела» по более или менее одинаковому образцу.
В любом крупном городе всегда легко было найти несколько певиц-неудачниц, у которых были кое-какие средства и очень большое желание покрасоваться на сцене в первых партиях. Обычно у них для этого не бывало данных; либо голос неавантажный, либо музыкальность
<Стр. 316>
такая, что ни один мало-мальски уважающий себя дирижер их на пушечный выстрел не подпускал. Находилась и молодежь, которая была готова работать даром или за гроши, лишь бы получить практику.
Певицы давали антрепренеру по шестьсот-восемьсот, а то и по тысяче рублей взаймы, но без особых надежд когда-нибудь получить их назад. Юнцы обеспечивали основную актерскую рабочую силу. Отыскивался и кассир, который вносил в «дело» свой «капитал» в виде двух, максимум трех тысяч рублей. Последний за свои деньги бывал спокоен. Прежде всего он, подавая казначейству неполные рапортички, обкрадывал Красный Крест, которому должен был отчислять по пять и десять копеек с билета. Затем кассир брал в залог костюмы, высчитывал 10—15 процентов из ежедневных сборов в покрытие долга и всегда имел возможность задерживать у себя последний сбор, если только чувствовал, что «пахнет гарью».
Причины крахов большинства оперных трупп были видны как на ладони и не нуждались в специальном изучении их экономистами. Труппы съезжались за пять-шесть дней до открытия спектаклей, кое-как сколачивался репертуар первой недели, затем вступал в строй текущий сезон со своими неотложными требованиями, и новинки приходилось печь как блины. Добросовестные рецензенты разоблачали недостатки, и дело со второй или третьей недели начинало трещать. Все это видели и соответственно оценивали, но считалось, что попытки исправить положение мог себе позволить только миллионер С. И. Мамонтов – никому, мол, другому это не по средствам. И все плыли по течению.
Собрав четыре-шесть тысяч рублей, антрепренер «снимал город» и приступал к формированию труппы. Костюмы, ноты, а иногда и какие-то декорации брались напрокат. В последнюю минуту обязательно не хватало денег на выезд, кто-нибудь из подписавших договор артистов, забрав аванс, переходил в другую антрепризу, «дело» повисало в воздухе. Его начинали спасать. «Капиталисты», уже влезшие со своими грошами в «дело», срочно закладывали в ломбард семейные реликвии, и за два-три дня до открытия какая-то труппа все же оказывалась на месте.
Перед выпуском последней афиши полицмейстер требовал залог если не в размере полумесячного оклада
<Стр. 317>
труппы, то по крайней мере стоимости проезда всей труппы до Москвы, в случае прогара почти несомненного. Сверх всего еще нужно было обеспечить уплату авторских отчислений, ибо агенты авторских обществ Драмо-союз и Модпик аккуратно в первом же антракте появлялись за кулисами и до уплаты им гонорара не позволяли поднять занавес ко второму действию. У них в руках была некая всесильная бумага, и при малейшем недоразумении им на помощь приходил постовой городовой или даже сам околоточный надзиратель.
«Дело» Шигаевой было построено по образцу подобных антреприз, и неизбежные для такой халтуры результаты не замедлили сказаться. Раскупив билеты на несколько первых спектаклей, самарская публика разобралась в том, что оркестр состоит не из тридцати шести человек, как было обещано, а из двадцати трех, хор – не из сорока человек, а из двадцати одного. Заранее разрекламированные премьеры не приехали, репертуар менялся.
Такая труппа не могла не «гореть», и «пожар» начался уже с пятого или шестого спектакля.
Шигаева все это предвидела, разумеется, и заблаговременно подготовила гастролеров, которые в те годы – часто вопреки фактам и разуму – почитались панацеей от всех зол.
Гастролеры были средней известности, наспех поставленные для них спектакли производили удручающее впечатление, и сборы продолжали падать.
Спектакли открылись 26 декабря 1910 года, а 16 января 1911 года в моем дневнике записано: «Шигаева лопнула и обобрала труппу, не уплатив даже за полмесяца. Обсуждается организация товарищества».
По телеграфу испросив у отца вспомоществование, чтобы не голодать, я вкупе с другими приступил к организации товарищества.
«Премьеру» с пятисотрублевой маркой, из которой двести рублей считались «гарантированными», было предложено сто пятьдесят, так же как и всем остальным артистам, независимо от ранга, сто – хористам и т. д. Рабочие и местные музыканты остались на твердых окладах.
Мы были молоды и верили в свои силы. Объявив перерыв на пять дней, мы работали круглые сутки и до того доработались, что на генеральной репетиции «Бориса
<Стр. 318>
Годунова» после второй картины от переутомления свалился в обморок дирижер.
Опера была очень твердо выучена в примитивном смысле слова, и было бы вполне достаточно посадить за пульт человека, который умел бы держать в руках дирижерскую палочку. Но... такого человека не было. Нашему отчаянию не было конца...
Однако, как и во многих других случаях будто бы неминуемой гибели, неожиданно пришло спасение. Ко мне подошел суфлер – порядком изголодавшийся юноша, который даже за проезд к месту работы по своей деликатности не успел получить денег, не говоря об авансе или жалованье. Он держал в руках клавир «Бориса Годунова» и, очень смущаясь, потупив глаза, по-стариковски низким, в его возрасте смешным басовитым голосом сказал:
– Если нет выхода, пусть дирекция рискнет дать мне репетицию.
– А вы когда-нибудь держали в руках дирижерскую палочку? Или по крайней мере играли в оркестре? – спросил я его.
– Я играл на флейте... шесть недель... в Витебске… в свадебном оркестре.
«Дирекция» в моем лице от души рассмеялась, но выхода не было. Юноша перелез через барьер, взял палочку, постучал о пюпитр, и оркестр стал играть. Спокойно, уверенно, твердо. Юноша не мог удержаться от счастливой улыбки. Музыканты почувствовали руку вожака и перестали посмеиваться. Трубач попытался сделать дирижеру экзамен и сыграл не в должном ключе. Юноша остановил оркестр и сказал:
– Если только на репетиции, я не возражаю. А на спектакле сочту за свинство!
Музыканты стали серьезными. Юноша вел оркестр так, как будто он никогда ничем другим не занимался. Так на наших глазах родился дирижер. Это был Александр Львович Клипсон, которого впоследствии одинаково хорошо знали петербургский Театр музыкальной драмы, Баку и Харьков, Днепропетровск и оперная студия Ленинградской консерватории, где он безвременно закончил свои дни в конце 1940 года в должности ее художественного руководителя.
Клипсон выручил нас, но поднять сборы собственными силами мы уже не могли. Оркестранты требовали ежедневного
<Стр. 319>
расчета и не давали возможности послать авансы гастролерам, которые были необходимы, но которые с места без денег не трогались. А не играть тоже было нельзя: человек семьдесят не только не имели денег на проезд домой, но не имели и на хлеб в буквальном смысле слова.
Кто-то подсказал, что режиссер Н. Н. Боголюбов в трудную для труппы минуту поставил несколько вечеров «Инсценированных романсов» и они собирали публику. Никто не имел представления, как это делается – инсценировать романсы. Тогда собрали «первачей» и сообща принялись обсуждать весь находившийся у нас в руках романсовый нотный материал: не найдем ли мы в этих романсах сюжетности?
«Баллада» А. Г. Рубинштейна подсказала нам принцип постановки. Одного артиста мы загримировали Антоном Григорьевичем Рубинштейном и посадили его за столик, другому поручили роль Воеводы, третьему – Разбойника. С «Балладой» мы разделались легко и вполне успешно.
При исполнении «Прощальной песни» М. Слонова пожарного у занавеса предупредили, чтобы он опустил занавес, когда исполнитель направится в его сторону. Придуманный отыгрыш на скрипке прошел благополучно. Но исполнитель не успел снять шапку и поставить сундучок, чтобы распроститься с тюремщиком, как пожарник принял его поклон за сигнал и, не дав спеть ни одной фразы, опустил занавес... Это было символом: на этом вечере мы убедились в безнадежности наших затей.
Два полусбора мы сделали, но для третьей программы не хватило ни нотного материала, ни выдумки, ни терпения. 30 января в моем дневнике записано: «Нет ни сборов, ни антрепренеров. Придется лопнуть».
На следующий день мы действительно «лопнули»: сбежали последние опытные музыканты.
Ведущие артисты дали на одной неделе четыре концерта, из коих два, по приглашению губернаторши, с благотворительной целью. Это позволило испросить у губернатора около двадцати пяти бесплатных билетов на проезд наиболее обездоленных членов труппы до Москвы. Я направился туда же по вызову граммофонной фабрики.
В Москве я побывал на актерской бирже. Там одновременно формировались десять или больше трупп типа
<Стр. 320>
шигаевской и три поприличнее. Среди наиболее надежных организаторов числились Александр Яковлевич Альт-шулер (скончавшийся в 1950 году в должности суфлера Московского Большого театра) и Григорий Яковлевич Шейн, представитель младшего поколения русских провинциальных антрепренеров. У деда Григория Яковлевича Шейна начинал (по преданиям) карьеру незабвенный русский бас Осип Афанасьевич Петров.
А. Альтшулер и Г. Шейн перевозили на пост в Воронеж костяк пермско-екатеринбургской труппы и добирали только несколько солистов.
В Воронеж приехала довольно сильная труппа с небольшим, но хорошо налаженным оркестром и хором. Главным дирижером был представитель славной семьи грузинских музыкантов Палиашвили, родной брат композитора, тогда (в порядке русификации) именовавшийся Иваном Петровичем Палиевым. Как дирижер он не отличался тонкостью отделки, но твердо держал в руках ансамбль.
В Воронеже я впервые услышал хорошо известную в провинции певицу Елену Викторовну Девос-Соболеву, впоследствии до конца своих дней состоявшую профессором Ленинградской консерватории и давшую советскому театру немало прекрасных певиц с В. А. Давыдовой во главе.
Е. В. Девос-Соболева (1878—1945), ученица Эверарди, впервые выступила в концерте в Тифлисе в 1895 году вместе с Ф. И. Шаляпиным. Сам человек буйного нрава, Шаляпин, как известно, очень любил в других скромность и задушевность. И у Елены Викторовны долго стоял на столе портрет Шаляпина с надписью «Милому голубочку». Действительно, Елена Викторовна пользовалась исключительным уважением и любовью как среди певцов в годы своей артистической деятельности, так и в годы педагогической деятельности в Ленинградской консерватории, куда она была приглашена чутким ко всякому таланту и благородному характеру А. К. Глазуновым сразу на должность профессора.
Голос у Елены Викторовны был суховатый, чуть-чуть старообразный, колоратура чеканная, но не фейерверочная. Отличительной чертой ее исполнения было большое изящество пения, дикции и всего ее сценического поведения, редкий в то время в провинции высококультурный
<Стр. 321>
общий артистический облик. Ее судьба – еще одно свидетельство того, что при наличии любых достоинств и прекрасного музыкального интеллекта недостаточно блестящий голос не дает артисту (за редчайшими исключениями) продвинуться на большую сцену.
Кроме колоратурного и лирико-колоратурного репертуара, состоявшего из шестидесяти партий, Девос-Соболева очень удачно выступала в партиях драматически-психологического характера, как, например, партия Чио-Чио-Сан.
С Воронежем у меня было связано одно волнующее воспоминание.
Весной 1905 года я приехал туда в служебную командировку. Из поезда я вышел около половины десятого вечера и прямо из вагона направился к видневшейся на привокзальном киоске афише. На ней я прочитал о концерте В. И. Касторского и А. М. Лабинского, который уже шел в это время в местном клубе.
Я, естественно, помчался на извозчике прямо в клуб. Концерт давно начался, зал был битком набит, пройти невозможно. Но я показываю на свой чемодан, сую пятерку, и через минуту мне открывают боковую дверь.
Вхожу я в ту минуту, когда Касторский, откланявшись на аплодисменты, объявляет: «Редеет облаков летучая гряда». Музыка...» Он делает паузу и повышает голос: «Музыка Римского-Корсакова». Раздаются хлопки. Вначале обычные. И вдруг мощный взрыв аплодисментов. Еще и еще. Минута – и аплодирует весь зал. Бурно, яростно, демонстративно, дружно. Слышатся крики: «Ура, браво!» Люди стучат кулаками по спинкам соседних стульев, каблуками по полу, и, наконец, все крики покрывает крик нескольких голосов: «Римский-Корсаков». Несколько человек вскакивают на стулья, и раздается клич: «Встать! Встать!» Все встают. Манифестация принимает стихийный характер, пять минут или больше радостные возгласы ни на секунду не прекращаются.
Стоящий у двери неподалеку от меня пристав спрашивает:
– Кто это такой Римский-Корсаков? – и уже вопит:– Почему такая манифестация?
Какой-то маленький человечек, только что исступленно выкрикивавший фамилию композитора, движением
<Стр. 322>
бровей смахивает с носа пенсне и, вертя им перед самым носом полицейского чина, спокойно говорит:
– Какая же это, батенька, манифестация? Это демонстрация.
– Он сицилист? – дергается пристав, еще не зная, как себя вести.
– Нет, – отвечает маленький человек, – он профессор, который из-за ваших порядков оставил консерваторию.
Из газет я знал об уходе Николая Андреевича из консерватории, но и для меня такое выражение народной симпатии к гениальному композитору было неожиданностью. В те годы народ был рад каждой возможности публично выразить свою ненависть к царскому режиму.
По тем же причинам весь концертный путь талантливой певицы В. А. Куза в лето 1905 года был усеян розами.
Проезжая по Невскому проспекту 9 января 1905 года после расстрела рабочей демонстрации, Куза увидела на углу Большой Морской улицы (ныне улица Герцена) на посту, обычно занимаемом городовым, знакомого гвардейского офицера. Тот подбежал поздороваться, но она не подала ему руки и, «поздравив» с переходом в жандармы, велела извозчику трогать.
Случай попал в газеты, и Куза на следующий день была уволена из Мариинского театра. Она вскоре выехала в концертную поездку, которая превратилась для нее в триумфальное шествие: ее встречали в каждом городе с небывалым энтузиазмом. Я в то лето попал в Ростов и Новочеркасск через несколько дней после ее концертов, и в этих городах только и разговору было, что об устроенных певице колоссальных манифестациях за смелость, с которой она нанесла гвардейскому палачу публичное оскорбление. Несколько месяцев спустя певица отреклась, однако, от своих «революционных настроений» и была возвращена в лоно казенной оперы... Ибо певицей она была замечательной.
4
Еще в Воронеже я получил очень теплую телеграмму от Н. Н. Фигнера, приглашавшего меня «на годовую службу в обновленный Нардом». Он не только сулил
<Стр. 323>
интересный репертуар, но напоминал, что меня в Петербурге ждет невеста. Как назло, я в тот день буквально за два часа до получения телеграммы подписал договор на два года с моими воронежскими антрепренерами на сезоны Пермь – Екатеринбург. Но милейший А. Я. Альтшулер, ознакомившись с телеграммами Фигнера и моей невесты, с улыбкой сказал:
– Фигнеру мы бы вас не уступили, но если вас ждет невеста, то езжайте, женитесь и приезжайте к нам в будущем году. Давайте перепишем контракт.
Проект возвращения в Петербург сулил другие перспективы, и я отказался. Встал вопрос о неустойке, но скоро и Альтшулер и его компаньон Г. Я. Шейн, пошептавшись, объявили, что это шутка, и вернули мне договор.
Мы расстались друзьями, но они взяли с меня слово, что в случае решения работать в провинции я начну с их антрепризы.
И вот я вновь в Петербурге.
О реформах в Народном доме я был наслышан и с нетерпением ждал встречи с обновленной труппой и ее руководителями.
В день моего приезда незадолго до начала спектакля позвонил Н. Н. Фигнер и попросил выручить его: заболел исполнитель партии Рангони в «Борисе Годунове».
– У вас Рангони числится в списке петого репертуара, а урочек мы вам дадим во время первого акта, – сказал Фигнер.
Как только я явился в театр и присел к гримировальному столику, я увидел в зеркале выросшую за моей спиной чуть-чуть сутулящуюся высокую фигуру: черные волосы в завитках, туго подкрученные усики, большая бородавка на правой щеке, снисходительно улыбающиеся сквозь пенсне глазки, фрак с невероятно широкими отворотами и из-за него туго накрахмаленная манишка, дирижерская палочка, заткнутая в карман белой жилетки. Человек положил руки мне на плечи, и я заметил, что большие блестящие манжеты пришпилены к рукавам английскими булавками.
– Здравствуйте, Юрий Сергеевич, – тенорком заговорил неизвестный. – Кажется, так вас по батюшке? Будем знакомы.
<Стр. 324>
– Если разрешите, наоборот: Сергей Юрьевич, – сказал я.– С кем имею честь?
– Дирижер Павлов-Арбенин, Александр Васильевич. Слыхали?
– Рад познакомиться.
– Так вот, Сергей Павлович, я знаю, вы человек музыкальный и хорошо споете. Но, пожалуйста, без меня ни звука. Помните.
И он закрытым ртом протрубил длинную ноту, дирижируя. В конце четырех четвертей он сделал какой-то крендель левой рукой и пропел «Возьмите же меня с собой» на мелодию первых слов Рангони: «Дозволит ли ничтожному рабу». Я не понял его жеста, но не придал этому значения. Я хорошо знал, что играет ноту ре все четыре четверти один альт, и был очень спокоен за свое немудреное вступление. Увы, не тут-то было!
Когда я появился в комнате Марины Мнишек, Павлов-Арбенин грозно посмотрел на меня поверх очков, ухмыльнулся с видом заговорщика, ткнул себя палочкой в грудь, мол, «Возьмите же меня с собой!» и протянул ко мне растопыренные пальцы. Я вспомнил наказ «без меня ни звука» и задумался, который же из пальцев относится к моему вступлению.
Тем временем палочка в воздухе описала параболу и остановилась перпендикулярно к моей груди. Я понял, что пора вступить. Альт давно отыграл свое реи уже уныло тянул ми. Я это отлично слышал, но, сбитый с толку... вступил на тон выше. Павлов-Арбенин укоризненно покачал головой, перекладывая размолвку с больной головы на здоровую, и усилил звучание оркестра. Остальное сошло хорошо.
После Павлова-Арбенина ко мне в уборную зашел невысокий широкобедрый человек. Серый пиджак был застегнут нижней петлей на среднюю пуговицу и топорщился на плечах, налезая на затылок. Не по моде широченные и вряд ли когда-нибудь глаженные брюки бесформенно свисали на коротких ногах, черные штиблеты с резинками были сильно запылены. Человек широко улыбался, кусал ноготь, здоровался со всеми одновременно. Смахнув волосы со лба, он подошел и потряс мне локоть.
– Вот он какой, Сережа Левик! Ну, будем знакомы... Отлично, чудесно загримированы! Еще бы вот эту ямочку углубить, кончик подбородка высветлить... Нет, Жорж, —
<Стр. 325>
сказал он, обращаясь к парикмахеру, – вот здесь пуговку нужно сделать, во-во-во, так-так-так! Ха-ха, ха-ха, а я и не представился, хорошо же мы познакомились! Я– Санин, Александр Акимович... А ну, встань, Сереженька, покажись во всей красе. Митя!—гаркнул он портному. – Фигуру нужно переломить посередине, а ты ему пояс на живот посадил. А ну давай другой, поуже! Вот-вот, этот. А ну! Теперь, Сереженька, пройдись-ка по коридору.– И громкий крик: – Не под Санина ходи, под иезуита. Этаким ужом, пронырой, во-во-во, так-так-так!
Я был огорошен этим каскадом возгласов, этим «Сереженька» и «ты» с первой встречи, сочувственными и несколько раболепными улыбками и поддакиваниями товарищей по уборной.
– Говорят, у тебя хорошая дикция, – продолжал Санин, не давая мне опомниться, – так ты в нее яду подлей, особенно под конец. «Пламенем адским»... Понимаешь, Сереженька, «адским»... это «а» нужно окрасить страхом... Ха-ха-ха! Не страхом своим, нет, иезуит сам ни в бога, ни в черта не верит, нет, не страхом, черт возьми, а запугиванием... Понимаешь? А ну, как ты споешь? Ничего, ничего, но можно ярче, во-во-вот так!
И неожиданно ушел, яростно кусая ногти. Спустился по лестнице и опять, запыхавшись, вернулся.
– Я не сказал о переходах. Доверяю. Понимаешь, без репетиции – что толку? Умеешь соотноситься с партнерами? Так вот: Лучезарская – тактичная Марина, у нее один-два перехода, и все. И ты так. Ходи за ней больше глазами, а не ногами. К следующему разу подрепетируем. Так я пошел, а? Спектакль у нас этапный после циммермановской халтуры, поворотный, его уважать надо. Но с тебя сегодня ничего не возьмешь: без репетиции! А потом выжмем, не правда ли?—И, низко склонив голову, насвистывая убежал.
Партия Рангони, которую я до того спел несколько раз, меня чрезвычайно интересовала как образец редкостно певучей декламации. Во всей опере «Борис Годунов» с ее обилием партий для среднего голоса меня всегда привлекали две партии: Пимена и Рангони.
В партии Пимена в киевской постановке «Бориса Годунова» – постановке, скажу я кстати, очень тщательной, цельной и в общем нисколько не уступавшей петербургским, за исключением, разумеется, звучности оркестра, хора и некоторых
<Стр. 326>
солистов, – я слышал Г. А. Боссе. На редкость спокойное, местами благостно-отрешенное, местами, наоборот, величаво-взволнованное пение велось на таком благородном звуке большого дыхания и наполнения, в то же время остававшемся в пределах пиано и неполного меццо-форте, что я был надолго захвачен цельностью этого вокального образа.
Неужели мне никогда не придется испробовать себя в партии Пимена?—неоднократно задавался я вопросом. Но я понимал, что мой голос с металлическими отливами, которые никогда не хотели уступать свое место скромной матовости, априори не подходил к этой партии.
Тесситуры и интервалика Рангони и Пимена в общем как будто одинаковы. Мы знаем, как Мусоргский стремился приблизить свои вокальные интонации к речевым, но, поскольку ни характер Пимена, ни характер иезуита не наделялись Пушкиным крайним речевым напряжением, постольку и Мусоргский, естественно, не выходил за пределы одной и той же децимы среднего голоса. В то же время в каких-то гениально схваченных подъемах и спусках, хотя бы по лестнице терций, был ярко очерчен характер Рангони. И более ровными, чрезвычайно приближенными интервалами, в которых предельный подъем составляет кварта, запечатлен образ Пимена. К тому же нигде в партии последнего нет в аккомпанементе ритмов, подстегивающих к непроизвольному ускорению темпа.
На первый взгляд партия Рангони не представляет никаких трудностей; она прежде всего небольшая по протяженности, как уже сказано, и в то же время лишена крайних нот как в верхнем регистре, так и в нижнем. Но для кого она написана: для баритона или для баса? В точности ответить нельзя, ибо по центральности своей тесситуры она прилегает и к тому и к другому голосу, представляя, по существу, образец старинного (моцартовского) письма. Я говорю в узком смысле: в тесситурном. С чисто звуковой стороны судить на основании практики тоже трудно: партия недостаточно хорошо выходит и у баритона и у баса, если ее петь единым голосом. Гениально написанные речитативы не нуждаются ни в высоких, ни в низких нотах, ни в особой звуковой мощи, ни в особой звуковой красоте, но каждый период (то двухтактный, то четырехтактный) словесно и музыкально настолько закончен, что требует для себя такого же закругленного (законченного) звукообразования.