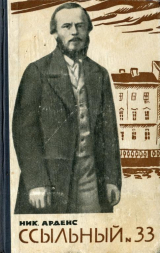
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
В свободные часы Федор Михайлович неоднократно появлялся на даче Александра Егорыча и отдавался всем целительным забавам, на которые Александр Егорыч именно и возлагал какие-то надежды. Мало того – заботливый друг уводил нередко Федора Михайловича в лес, где бывало изобилие мамуры, облепихи и лесной земляники, и потчевал его новейшими столичными анекдотами и всякими достойными внимания рассказами и воспоминаниями из своих судебных встреч и похождений. Федор Михайлович любил выслушивать все такие всамделишные приключения и частенько даже записывал их у себя в особой книжечке, с которой никогда не расставался.
Однако вся добрая затея Александра Егорыча оказалась в высокой степени наивнейшей, и никакие занятные анекдоты и огородные хлопоты не отвлекли и не могли отвлечь растревоженные чувства Федора Михайловича ввиду того, что они, эти чувства, были, по его собственному заверению, зависимы от какой-то «тайной власти», о которой впервые, как ему помнилось, заговорил еще Лермонтов. Что это за «тайная власть», Федор Михайлович не решался пояснять, однако «тайная власть» продолжала быть «тайной властью», и тут Федор Михайлович ничего поделать уж не мог. К тому же самому заключению о губительной роли неизвестной, но коварной власти пришел и любезнейший Александр Егорыч, который все же продолжал развлекать Федора Михайловича наплывом своих воспоминаний, угощая его при этом шепталой и выписанными из Казани конфетами, засахаренными ананасами и ржевской пастилой (следует тут оговориться, что о таких угощениях в Семипалатинске даже и не слыхали и не подозревали…).
Еще один поворот судьбыВ воскресный день Федор Михайлович возвратился как-то из Казакова сада в город и, разумеется, направился прямо к Исаевым. В руках он держал весьма увесистый сверток, который был положен на пол в прихожей комнате. Он постоял перед висевшим на стенке овальным зеркальцем, пригладил свои мокрые волосы (а днем его порядком изнурил нестерпимый зной), вытер потное лицо и шею и прошел в столовую.
Марья Дмитриевна сидела у окна на плетеном стуле, с иголкой в руках.
– Чиню своему Пашеньке брючки. Немилосердно пачкает их и рвет.
– Уж вы-то всегда себе дело найдете, Марья Дмитриевна, – заметил Федор Михайлович. – А с Пашенькой надо бы построже быть, ведь мальчуган неумеренно шалит и капризен стал донельзя.
– Легко ли это? Одной мне с ним не управиться, а отец… Пашка и ухом не ведет. Тут надобно влияние отца, а влияния нет. Все тут у нас наоборот. Александр Иванович, когда трезв, начнет сыну выговаривать, а тот скорчит гримасу – и вон из комнаты, во двор иль на улицу. А когда отец придет, сильно выпивши, сидит, угрюм и неподвижен, что-то напевает про себя и грозит всему миру, – Пашке хоть бы что, ходит на голове. Я прикрикну на него, а в груди у меня так все и задрожит. И нет сил. Вот, Федор Михайлович, наши начала и концы, как вы иногда выражаетесь.
Марья Дмитриевна с искривленной иронической улыбкой встала, отложила починенные брючки в сторону и унесла медный чайник в кухню – согреть своему неизменному гостю ханского чайку (а он приберегался специально для Федора Михайловича).
– Да, Марья Дмитриевна, – с горечью в голосе рассуждал Федор Михайлович, – вот, казалось бы, идти надо человеку к радости, идти и идти, – без радости-то и жить невозможно, а поди ж ты, – от жизни несет такой сыростью, что ты непременно становишься хмур, гневен и страшен. Ну и забавляешься – кто водкой, что несбыточными снами, кто грабежом у честных людей, кто непомерной болтовней и прочими, и прочими страстями и шутовством. И вот за одним поколением шагает такое же другое, и из века в век вот так и изворачивается человечество. Одни погибают, другие идут к погибели. Слабые у людей сердца, Марья Дмитриевна, – слабые, а в сущности, живые и многозначащие люди населяют мир божий, и всем хочется иметь по калачику и всяк до самой смерти есть хочет, – только все перепутано. С совестью перепутаны всякие страсти – и честь и бесчестье, и хмель, и брань, и низкие мыслишки, и поэзия… Потому не знают люди, куда идти, и неясно – как жить? И потому порывов и мечтаний куда больше, чем верных дел. Вот каково у нас! Да что вам говорить, Марья Дмитриевна, ведь вы это самое лучше меня знаете…
– Не спорю с вами, друг мой. Действительно все у нас перепутано в жизни. И как сделать так, чтобы пружина наша стала на место?! Никто еще не сказал этого. Ни книги, ни дела, ни философы, ни поэты, – все обещают дать ответ людям, да пока что никак не ответили, – рассудительно заметила Марья Дмитриевна, вполне согласившись с Федором Михайловичем насчет путаницы.
На столе появились стаканы и во главе их кипящий медный чайник. В сторонке была поставлена бутылка лафита, наполовину опустошенная и, видимо, издавна, с расстановками, опорожнявшаяся.
– А я вам, Марья Дмитриевна, принес от Александра Егорыча свеженьких огурчиков, прямо с грядки, – положены там, в прихожей.
– Без этого вы уж никак не обойдетесь, Федор Михайлович. Впрочем, я так привыкла к вашим заботам, что уж перестала и благодарить. Это все как будто испокон веков у нас с вами так и заведено. Только, голубчик мой, не выходите из меры, пожалуйста, не выходите. Сознаюсь вам – я бессильна отплатить должным порядком за вашу теплоту и внимание.
– О!.. никакой отплаты, Марья Дмитриевна… Решительно никакой. Если уж кому и отплачивать, так это мне вам и только мне. Ведь я пять лет жил без людей, жил подаяниями судьбы и ни перед кем не мог излить свое сердце. А ваше женское участие, ваша доброта – ведь это все стало мне незаменимо. И то, что вы протянули мне руку, то составило для меня целую эпоху… Да, да… именно эпоху. И никак не меньше. – Федор Михайлович почувствовал, что он должен выговорить все, что накипело в сердце, покоренном женской ласковостью и благожелательством. – Я у вас как в родном доме – приласкан и пригрет. Это ли не счастье для меня, заброшенного в далекую землю, измученного каторгой и только вот сейчас начинающего делать то, что составляет всю цель жизни, чему в юности отдано немало сил, за что и люди стали уважать меня и даже изливали свои восторги? Я воскресаю, Марья Дмитриевна, воскресаю духом и телом. Ведь тут у вас и только с вами я стал чувствовать себя человеком. И всей душой предан вам, переродился, можно сказать, у вас, обрел веру и любовь и знаю, чем жить, и сейчас живу только со своими тайными чувствами, берегу их и не стыжусь ежечасно носить их в себе, в самых искреннейших и тончайших стремлениях души. Будьте же, о, будьте, другом мне, не отвергайте моих забот и обещайте дружбу навсегда, навеки…
Марья Дмитриевна недвижимо сидела при этом изъяснении и, бросив долгий мыслящий взгляд на Федора Михайловича, скованная горячностью его речи, не могла произнести ни единого слова. Таким же мыслящим взглядом, полным тоски и какого-то нерешенного, остановившегося внимания, с упорством смотрел на нее и Федор Михайлович, потрясенный наплывом вырвавшихся чувств.
– Доброе у вас сердце, дорогой мой Федор Михайлович! – наконец заговорила Марья Дмитриевна и с жаром взяла своей рукой руку Федора Михайловича. Душа ее раскрылась Федору Михайловичу совершенно. – Да ведь разве можно забыть и отвергнуть такое? Ведь вы-то мне также дороги, голубчик мой! И будьте и вы у моего сердца.
Растроганный Федор Михайлович приник к руке Марьи Дмитриевны и осыпал ее горячими поцелуями.
Дружба была заключена на вечные времена, и новоявленные друзья стали наслаждаться полнейшим доверием друг к другу – по всем делам и расчетам. В долгие осенние и зимние вечера они задумчиво и рассудительно решали общие и даже семейные вопросы, вплоть до того, что и Александра Ивановича взяли в переборку, и Федор Михайлович, сокрушаясь о его поведении, всячески уберегал его от компании городских прозябателей и бутылочников, с которыми тот сбился с дороги и нещадно губил свое здоровье.
– Да сто́ит ли водиться с этим народом?! – уговаривал Федор Михайлович незадачливого друга. – Можно ли сносить их злословие и все мизерные дела? – не уставая и с упреками твердил он. – Воротитесь! – не раз кричал он вдогонку удалявшемуся Александру Ивановичу, зная, что тот направляется к завлекавшим его пьяницам и плутам. – Опомнитесь, дорогой друг, вы ведь отец. У вас достойнейшая жена, – наставлял он. – Не губите их! И душу свою не грязните! Помилосердствуйте! – И Александр Иванович даже в хмельном виде иной раз страшился наставительных слов и беспрекословных уговоров Федора Михайловича и виновато поворачивал домой, покорный его голосу и устыдившись своих слабостей. И ни один лекарь, запрещавший ему ввиду развивавшейся чахотки пить, не имел такого влияния на него, как Федор Михайлович.
Марья Дмитриевна облегченно вздыхала, когда в доме наступала после хмельных сцен минута спокойствия. Александр Иванович смиренно удалялся в спальню на отдых. А через час-другой вставал и, долго и надрывно откашливаясь, расточал свои многословные извинения, а Пашу едва не до слез тискал в своих объятиях, лаская и целуя:
– Сынку мой! Сладенький мой! Не сердись на папу своего, а люби! Люби всех, и маму свою! И нашего друга Федора Михайловича не забывай! Помни всегда добром!
Марья Дмитриевна проникалась минутными надеждами на домашний покой и еще пуще прежнего верила в силы и в благородство Федора Михайловича, мечтая о лучших временах и лучших способах быть счастливой.
И вдруг в самый разгар золотых надежд узнает Федор Михайлович, что Александра Ивановича переводят в какой-то городишко Кузнецк (видимо, захолустнейший угол на всей земной поверхности) и там он получает место.
Эта весть без сожаления ударила прямо по сердцу Федора Михайловича. Он содрогнулся при этом известии и в первые мгновенья даже лишился способности полностью разобраться в жесточайшем ударе.
– Неужто все это вправду? – долго и со страхом допытывался он у Марьи Дмитриевны, также встревоженной новыми обстоятельствами и уже захлопотавшей в своем хозяйстве, которому стало вдруг угрожать немалое разорение.
– Уезжаем, дорогой наш друг, Федор Михайлович. Должны уезжать. Но мы не расстаемся с вами. Уж это никак. Это так, на время, – почти сквозь слезы разъясняла Марья Дмитриевна. – Я всегда, всегда ведь помню вас и всегда с вами, всеми своими беспокойными мыслями. Так-то, мой друг Федор Михайлович, так-то.
– Да как же иначе? – вторил ей Федор Михайлович. – Ведь мы же с вами… Мы же друзья – и навеки. И как же я… тут… один?.. Нет, я не могу так… Тут нужен иной поворот. Тут нужно все решить заново, – требовал он, видя такой гнев судьбы.
Но новые решения были бесполезны и напрасны: какие-то начальственные люди, которым уж больно досаждали роковые слабости Александра Ивановича и его скучнейшие просьбы о прощении, прибегли к деликатнейшему плану избавиться наконец от больного человека. И вот они сейчас избавлялись.
Новые нахлынувшие обстоятельства внесли немалую суматоху в распорядок всей жизни и Исаевых и Федора Михайловича. Прежде всего переезд на новое место – за пятьсот верст – требовал немалых средств, которых, разумеется, у Исаевых не было. Мало того – необходимо было возвращать мелкие долги, которых набралось изрядное число. Марья Дмитриевна была в сильнейшем беспокойстве и безмолвно взывала к великодушным чувствам Федора Михайловича, хорошо зная, что он-то сам денег не имеет и пробавляется на те рубли, которые не слишком часто, но присылает (непременно присылает) любимый брат из Петербурга, – однако она строила верные расчеты на его безмерную заботливость и всегдашнюю открытость и расположенность души. Федор Михайлович и в самом деле, едва узнал только о внезапных нуждах семейства Исаевых, как, забыв о собственных своих горьких делах, бросился к Александру Егорычу за советом и помощью. Ему он уже привык поверять все свои тревоги и досады и, невзирая на все его «баронские» манеры и привычки, считал его своим незаменимым и добрейшим другом. И Александр Егорыч и впрямь расточал свою доброту с полнейшей искренностью и даже самозабвением.
– У меня, Александр Егорыч, прескверный характер, – во многий уже раз повторял Федор Михайлович, – но я стою за друзей, когда доходит до дела.
С неудержимым страданием в голосе он подробнейше рассказал о положении Исаевых, об отчаянии Марьи Дмитриевны, совершенно поверженной надвинувшимися хлопотами и расходами. Ведь необходимо было купить для переезда кибитку или, если не хватит денег на кибитку, то открытую перекладную телегу. Необходимо было запастись провиантом на дорогу, иметь деньги на уплату ямщикам, на всякие непредвиденные расходы и хоть на первые дни пребывания на новом месте и оплату новой квартиры. И на все это не было никаких средств. Федор Михайлович умолял Александра Егорыча одолжить нужную сумму, которую он, разумеется, покроет, так как ждет новых поворотов в своей судьбе и деньги не замедлят прийти вслед за его трудами и талантами. Александр Егорыч, добрейшая душа, раздобыл из своего кошелька просимую сумму, и отчаянию Марьи Дмитриевны, совершенно растревоженной заботами «истинных человеколюбцев» (так она называла Федора Михайловича и Александра Егорыча), наступил конец.
Федор Михайлович отодвинул как бы на второй план все свои собственные чувства, все свое отчаяние при мысли о расставании с Марьей Дмитриевной и отдался первейшему делу помощи ей в ее новых поисках житейских благ.
– Не забывайте нас, Федор Михайлович, с нами пребудьте и нашего Пашеньку всегда помните, – повторяла с дрожью в голосе Марья Дмитриевна, укладывая в корзины и сундуки свои вещи. – Не расстаемся ведь мы с вами навеки? Не правда ли?
– Да что вы, Марья Дмитриевна, дорогая моя! Разве возможно навсегда расстаться? Я буду строить свою судьбу, стройте и вы, стройте, и не жалейте сил, и верьте, – верьте в лучшие дни. Чего глядеть-то! Не «прощайте» скажем друг другу, а «до свидания», и только.
И вот наконец вещи все были собраны и упакованы; были налажены и перекладная телега и линейка, которую Александр Егорыч приготовил для себя, имея, однако, в виду определить в ней место и Федору Михайловичу. А Федор Михайлович признался, что хотел бы проводить Исаевых и проводить далеко за город, этак верст за десять.
Не замедлил приблизиться и день расставанья. Утром, – еще не было и шести часов, – проснулся Федор Михайлович с трепетом в сердце. Он наскоро оделся и вышел на улицу развлечься иртышским воздухом и размыслить о предстоящей разлуке. На лице его было написано уныние, тоска и почти что отчаяние, – молчаливое, безмолвное, но отчаяние. Он пошел вдоль берега, против которого виднелся островок, расположившийся по пути реки, и долго шагал по песчаным дорожкам, то подымаясь на гористые места, то спускаясь к самой воде. Ему казалось, что с отъездом Марьи Дмитриевны обрывается вся его жизнь и наступает бесцельное существование, которое никак не может и не должно длиться. «Что же делать? – раздумывал он про себя. – И делать ли что?» Мысли его ничем не могли утешиться, и надо было только одно – терпение, все одно и то же терпение, которое он уже многие годы как бы воспитывал в себе.
Но вот уже и вечер, и скоро час прощанья. Александр Егорыч приготовил к ужину поджарки и поставил две бутылки шампанского. Экипажи были нагружены, и все отъезжавшие, вместе с Федором Михайловичем, благородно закусили и при этом побрызгали на дорогу, так что у Александра Ивановича несколько переменилось лицо и в глазах стало мутновато. Он с трудом взобрался на телегу, и не успели все выехать за город, как он задремал. Задремал и Паша. Федор Михайлович мало говорил. Мало говорила и Марья Дмитриевна. Они тихо взглядывали друг на друга и как-то порывами заговаривали, что-то вспоминая, что-то обещая и боясь забыть что-то сказать на прощанье друг другу. Но видно было, что оба были полны каких-то надежд на будущее, авось судьба приведет еще встретиться.
Стояла нехолодная ночь. Оба «экипажика» тащились между щетинками лесов, освещенных полной луной. Наконец Александр Егорыч велел остановить лошадей – надо было возвращаться назад. Федор Михайлович прерывистым голосом что-то произнес, так, что никто не мог и расслышать, и жарко обнял Марью Дмитриевну. Она заплакала, не в силах удержать волнение. Федор Михайлович крепко обнял и поцеловал Пашу, а Александр Иванович даже и не проснулся, несмотря на остановку.
Лошади Исаевых двинулись в дальнейший путь. Федор Михайлович стал у линейки Александра Егорыча и боялся оторвать взор от удалявшейся телеги. Он долго, долго стоял и глядел вслед. А Александр Егорыч, умиленно и грустно задумавшись, смотрел на дрожавшие пальцы его поднятой правой руки. Марья Дмитриевна не раз обернулась и как-то нетвердо помахивала рукой. Телега становилась все меньше и меньше, и вот уже стук ее колес перестал доходить до слуха Федора Михайловича. Наконец все скрылось где-то за деревьями, объятыми темнотой и спрятавшими дорогу. Федор Михайлович всхлипнул и, вытирая слезы, сел в линейку. Повернули лошадей назад и поехали прямо против луны. Навстречу брезжил и закрывал глаза лунный свет, неясный и тревожный.
Федор Михайлович достигает свои цели. И цели немалыеДа, чувствовал Федор Михайлович, жизнь – там, где любовь, жизнь только тогда, когда любовь. Пять лет он был как бы вне жизни и сам себя не считал даже вполне человеком. Безмерно много накипело в сердце, нагорело в душе. И только любовь вернула ему жизнь, и он понял, что он «опять человек». Но опять и опять фортуна жестоко потрясала его. В ту ночь, как распрощался он с Марьей Дмитриевной и Александром Ивановичем, он не заснул ни на минуту. Он долго ходил по своей комнате из одного угла в другой и все исчислял свои будущие бедствия, какие неминуемо, по его расчетам, должны были последовать и даже в самые ближайшие времена. По ночам он терял решительно все надежды, которыми упоенно жил днем, и предавался безутешным мыслям и страхам. Шагая по скрипучим доскам пола, он без остановки набивал трубку за трубкой и поминутно зажигал потухавший табак, все что-то вспоминая, что-то в тысячный раз передумывая и не находя никаких решений. Он словно вновь видел, как удалялся тарантас, увозивший Марью Дмитриевну, словно слышал, как утихал его стук, пока совсем не исчез где-то в зарослях леса. И последние слова е е приходили на память и то, как она обернулась и еще и еще робко и устало помахала ему рукой на прощанье. В душе он обнимал и Александра Ивановича и нетерпеливо желал ему всяческой твердости духа и учтивого расположения. До рассвета он не сомкнул глаз, а как только занялась заря, побежал на квартиру Исаевых – оглядеть опустевшие стены, раскрыть окно, у которого стоял плетеный, вконец задряхлевший и навсегда сейчас заброшенный стул – е е стул…
Он прибежал к покинутому дому и у самого его порога вздрогнул: осиротевшая Сурька, выбежав из дверей, бросилась к нему и, виляя хвостом, подскочила на задние лапы и долго всматривалась в него своими обрадованными глазенками, словно недоумевая и жалуясь, почему вдруг сейчас перед ней стоят лишь одни голые стены и куда исчезло все ее единственное богатство, все ее земное счастье. Федор Михайлович долго и умиленно ласкал ее, то беря на руки, то вновь спуская на землю; вместе с нею он вошел в прихожую и бродил по всем комнатам, заглянул и в кухню и в чулан и, остановившись в столовое, долго задумчиво рассматривал запыленный и замусоренный пол. Сурька продолжала подскакивать и повизгивать, – видно, хотела до конца излить Федору Михайловичу свою обиду и горечь, как ей быть и как жить дальше. Наконец Федор Михайлович вышел на улицу и, еще раз взяв на руки собачонку, нежно, с любовью, погладил ее и, опустив наземь, поманил за собою. Сурька весело побежала за ним, но вдруг на первом же углу остановилась, завиляла в нерешительности хвостом и торопливо, высунув язык, задышала. Федор Михайлович настойчиво звал ее за собою, все окликая: «Сурька! Сурька!» Но Сурька упорно стояла на месте, видимо размышляя, как ей поступить. И так она и не пошла дальше. Федор Михайлович, отойдя шагов сто, тоже остановился и крепко задумался, все выжидая, не пойдет ли Сурька за ним. Он простоял так с десяток минут и двинулся дальше только тогда, когда увидел, как Сурька побежала назад, к «своему» дому.
У Федора Михайловича потянулись дни тоски и каких-то неясных предчувствий. Новый приговор свирепой судьбы предъявил ему жесточайшие требования – опять и опять что-то вытерпеть и опять забыться в надеждах и ожиданиях. Поверженный нахлынувшими заботами и новым надрывом, он жаждал только полного уединения, но, однако, оставаясь один, никак не находил себе места и часто бывал рад, когда надо было отправляться в лагери на ученье. Вместе с тем было еще одно чрезвычайно важное и, быть может, самое важнейшее обстоятельство, какое без всякого сожаления угнетало и томило его: это было то самое спешное дело, которое сейчас роковым образом замедлилось и притихло, – это было его сочинительство, его думанье над клочками записей о «мертвом доме», его размышления над картинками жизни в придуманном им селе Степанчикове и над самой вернейшей и занимательной придумкой – Фомой Фомичом Опискиным, которого он считал своим наилучшим изобретением и вполне новым характером во всей литературе. А между тем перо Федора Михайловича никак не повиновалось ему и не держалось в руке. Чуть коснется мыслями людей, покинутых им в каторжной казарме, или вспомнит об обитателях села Степанчикова, как тысячи самых чувствительных и свеженаболевших местечек заноют и затрепещут в его душе, так что все его вымыслы и обольстительные случаи, коими он нетерпеливо стремился заполнить свои новые страницы, так сразу и отступят перед минутами одолевшей безвыходной тоски. В горьком своем одиночестве он считал себя каким-то камнем, презрительно отброшенным за край дороги. А уж в дни, когда в вечерние часы его сваливали припадки, угрюмость его не знала никаких границ. Он сидел неподвижно, едва придя в некоторое спокойствие после мучительных судорог, и его сковывало молчаливое отчаяние, в котором были и невыплаканные слезы, и невысказанные жалобы, и все это он утаивал в себе, пока встреча с Александром Егорычем или какие-либо иные толчки не выводили его из оцепенелого состояния.
Александр Егорыч, добрейшая душа и верный советчик Федора Михайловича, ходил за ним как за ребенком и внимал всем резонам своего нежданного спутника жизни, объяснявшего с дрожью в голосе, что без особого расположения к нему Марьи Дмитриевны он не может спокойно существовать на этом свете, что у него каждое утро кружится голова и сон никак не идет и потому часты стали припадки, вконец его изнурившие. И в самом деле Александр Егорыч, беспрерывно заглядывая в лицо своему достойнейшему другу, подмечал в нем болезненную похудалость и какой-то несходящий сумрак в глазах и на всем лице. Однако Федор Михайлович решительно пренебрегал кружением в голове и всякими телесными недугами, так как считал, что тоскующие мысли о любви – это блеск души, это самое незаменимейшее из всех наслаждений, которого уж ни при каких обстоятельствах лишиться невозможно. «Хоть страдаю, но живу», – уверял он Александра Егорыча, ежедневно напоминая, что Марья Дмитриевна очень одинока, что она слабая женщина, истомленная болезнью и семейным страданием, и что надо о ней думать и всегда заботиться, и кто́, как не он, убитый страстью, все это гложет выполнить с полным совершенством.
Александр Егорыч отнесся к своей миссии утешителя с безупречным знанием сердца Федора Михайловича. Им были предприняты полезнейшие поездки при свежем ветерке за город и даже в отдаленные места, к горным заводам, но более всего Александр Егорыч облюбовал для своей спасительной цели Казаков сад, а вместе с ним и своих новых семипалатинских знакомцев. И Федор Михайлович хоть редко, но не без успеха сокращал дни своей тоски, забываясь в посторонних впечатлениях на час, на два, а то и более, особенно если попадал невзначай на какой-нибудь бал в благородном семействе, где иной раз даже кружился под расточительные звуки Штрауса, выслушивая одновременно, как сыплется благонамеренное остроумие самого наивысшего в Семипалатинске общества. А общество в один голос утверждало, что Федор Михайлович, хоть фигурой своей не слишком воплотил в себе бельведерские черты, тем не менее с завидной легкостью преодолевал всякие рискованные повороты в кадрилях и вальсах. Не забывал Федор Михайлович также и радушные дома своего начальства, особенно гостеприимство Анны Федоровны, которая давно приметила беспокойные глаза Федора Михайловича и с замечательным женским проникновением угадала сердечные хлопоты знатного рядового бывшей «ее» роты. Она не замедлила позвать его к себе на масленицу и устроила блины, рассчитанные на самые прихотливые вкусы. К столу были поданы копчушки в лубочных коробках, привезенная из деревни сметана и заранее припасенная зернистая икра. А ко всему этому на столе был выставлен стройный ряд бутылок с самыми настоящими заграничными этикетками. Блины удались на славу. Изукрашенные поверху огненными жилками, они искусно сберегли в себе удивительно легкий воздух и жарко дышали, обливаясь растопленным ярко-желтым маслом. Федор Михайлович вполне оценил мастерство и расположенность Анны Федоровны, столь тонко умерявшей боль его измученной души.
Анна Федоровна неоднократно сокрушалась – и не только перед мужем, но и перед Белиховым – по поводу невзгод Федора Михайловича и употребляла всяческое воздействие на начальственных лиц, которые наконец прониклись вполне достойным уважением к ссыльному сочинителю. Ссыльного сочинителя произвели в унтер-офицеры, чем вполне отличили его от всей прочей массы солдат дисциплинарного батальона. Тем не менее запасов сладостных и успокоительных грез, располагавших к некоему забвению и покою, хватало у Федора Михайловича ненадолго. Чуть покидали его освежающие впечатления, как он погружался в мучительную задумчивость и в трепетное ожидание писем из Кузнецка. Особенно трепет усиливался перед приходом или привозом очередной почты. С дрожью в сердце он гадал, пришло ли письмо или нет, и всякий раз, когда письмо не приходило или задерживалось, он испытывал приступ полного отчаяния. Марья Дмитриевна, однако, не медлила с письмами и аккуратно запрашивала, здоров ли Федор Михайлович да не случилось ли чего с ним. Письма были длинные и в полной мере откровенные.
«Я расстроена, добрейший наш друг, Федор Михайлович, – писала она, – никак не устроимся и не наладим наше житье-бытье. К тому ж все время больна, кашель душит, в груди хрипота, и головные боли донимают… А Александр Иванович тоже в полном недомогании и по-прежнему не жалеет себя и не жалеет меня, – пьет, и бранит себя, и всякий раз умоляет простить. До чего это разрывает сердце мое! Ну, а как вы, как вы-то себя чувствуете? И как расположились без нас ваши часы? Ради бога напишите и не забывайте своих друзей».
Письма Марьи Дмитриевны проникали в самую сердцевинку души Федора Михайловича. Он мигом отвечал на них и отвечал необычайно пространными излияниями тоски, повторяя, что не знает, куда бежать от горя, что с отъездом своих друзей лишился родного места и теперь некуда ему деваться, в душе полнейшая пустота, а при мысли о Марье Дмитриевне, о ее болезненном состоянии и душевных муках, его охватывает ужаснейший страх. От всего сердца он обнимал и Александра Ивановича и молил его о разборчивости в людях, о выборе благожелательных компаний. И слезно просил писать обо всем наиподробнейшим образом – и о новом городе, и о новых людях, и обо всем, обо всем.
И вдруг в руках у Федора Михайловича оказалось письмо, от которого у него закружилось в голове, которое он сразу даже не мог до конца обнять мыслями и чувствами. Марья Дмитриевна дрожащим почерком (он сразу приметил всю неровность ее строк и какую-то шаткость букв…) писала о том, что Александр Иванович скончался. Федор Михайлович, прочтя столь непредвиденные строчки, вскочил со стула, бросился к окошку, видимо для большего прояснения ума, потом кинулся куда-то идти, но куда, не мог определить и вместо того зашагал по комнате, однако через несколько мгновений остановился и вышел через сени во двор и мелкими шагами заходил по дорожке от дома до сарая и обратно от сарая до дома, силясь привести в порядок зашатавшиеся чувства и понять до конца все случившееся, представить себе и е г о, где-то уже лежащего бездыханным, и е е, потрясенную роковым событием, и маленького Пашу, плачущего на груди у матери, и весь ужас, сковавший все в доме.
Он думал о бедном, несчастном Александре Ивановиче, о его истинном благородстве, о его доброте и заботах, и восклицал: какова судьба! Еще и еще беспокойнее думал он о Марье Дмитриевне, о ее отчаянии, о ее бедственном положении, о немедленной помощи ей. Он старался представить себе, исправен ли в данную пору ее кошелек и как, к а к она сможет с достоинством похоронить Александра Ивановича. И, наконец, он узнал, что о н а пребывает как бы без памяти, а его похоронили добрые люди на свои деньги, так как у нее, кроме долгов в лавку, ничего не оказалось и до такой степени ничего, что ей дали три рубля серебром на денное пропитание.
«Нужда толкнула принять подаяние, и я приняла его, – написала она Федору Михайловичу, – а мальчик мой не перестает плакать и среди ночи вскакивает с постели и бежит к образу, которым отец благословил его за два часа до смерти. Я же лишилась сна и всякого покоя…»
Федор Михайлович на ту пору сам пребывал в страшнейшем безденежье – от брата давно не было никаких денежных передач, – и он снова и снова кинулся к Александру Егорычу, и подробнейше перечислил все страдания Марьи Дмитриевны, которая продает последние вещи и даже принимает подаяния от незнакомых людей, и нужна незамедлительная помощь – «никогда не было нужнее». Александр Егорыч безотлагательно выслал 50 рублей и считал себя счастливейшим в мире человеком, что мог в такие минуты быть хоть чем-нибудь полезным исстрадавшемуся другу. Федор Михайлович повторял, что все эти деньги он непременно возвратит, как только кончатся его сибирские терзания и он снова покажет миру, кто он такой. Но сейчас он считал себя сокрушенным и физически и нравственно и молил о помощи.
А со всеми его хлопотами все сильнее и сильнее брала верх одна рвущая его мысль – увидеть ее, увидеть во что бы то ни стало и немедленно, не теряя ни одного дня и ни одного часа. Но весь этот план, мигом созревший, показался Федору Михайловичу лишь малой долей тех фантастически упорных хлопот, какие безотлагательно были нужны ему для того, чтобы построить свою судьбу и вернуть себе все свои права – права человека и писателя. Эти права решительно не могли совместиться с пребыванием его в Сибири да еще в военно-дисциплинарном батальоне.








