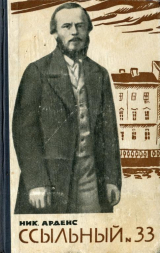
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Уже совсем было светло, когда карета подъехала к большому зданию дымчатого цвета на Фонтанке, у Цепного моста. Шторы в карете были приспущены, так что Федор Михайлович не мог даже различить, куда именно его везли блюстители тишины, и лишь выйдя из кареты, он увидел верхушки деревьев Летнего сада и тогда уж догадался, что он в III отделении. Было по-утреннему свежо, и он слегка вздрагивал. Жандармский унтер извлек пачки бумаг и книг из кареты и лихо втащил их по ступеням на первый этаж, в узенькую дверь налево. Федора Михайловича майор Чудинов пригласил на верхний этаж. По лестнице, устланной малиновой ковровой дорожкой, сбегали вниз и подымались наверх чины тайной полиции в мундирах с красными воротниками. Видно было, что в середине стояла необычайная суета. Федора Михайловича проводили в большую залу с белыми обоями и там и оставили.
В зале он заметил нескольких людей, стоявших и сидевших поодиночке у простенков меж окнами, и среди них жандармов в голубых мундирах.
Слышен был тихий говор. Сперва он даже и не разобрал, кто такие стояли и сидели по соседству с ним, – свет из окон мешал различить их лица. Но через минуту-две он стал узнавать их: бросилась в глаза тучная фигура Баласогло, в самом уголке прижался к трюмо Львов, с ним рядышком Пальм и Момбелли, а в другом конце залы он ясно различил Сергея Федоровича с несколько поникшей головой и встревоженными глазами (тот поводил ими кругом, видимо тоже разглядывая всех) и, кроме того, Головинского, Филиппова, Ахшарумова и кругленького Толля, который через каждые две минуты раскрывал свой рот, растягивая его до возможных пределов, и со звучными вздохами позевывал. Через открытую дверь в следующую комнату он распознал плавно ходившего но свежевычищенному паркету Николая Александровича, как всегда с рассеянным видом и в изящно лежавшем на нем костюме. Николай Александрович медленно осматривал казенные стены, видимо с брезгливостью отворачиваясь от жандармских взглядов, шнырявших по углам.
Лишь только успел Федор Михайлович оглядеться и догадаться, в какую компанию он попал и по какому общему делу, как к нему подбежал Ястржембский и с веселостью заметил:
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – и при этом стукнул пальцем по лбу, так что Федор Михайлович сразу вспомнил: ведь действительно был Юрьев день – 23 апреля.
В белой зале тем временем появился лакей с подносом и стал разносить желающим – кому чай, кому кофей. А так как говор не только не стихал, но заметно усиливался, то жандармский подполковник, проходивший мимо, решительным тоном запретил разговаривать друг с другом. Федор Михайлович сел близко от Ханыкова и тоже принялся за чай.
Так в полном бездействии, в осторожных перешептываниях друг с другом прошел час-другой.
Совершенно неожиданно для Федора Михайловича вдруг из соседней комнаты вышел младший брат его Андрюша. Федор Михайлович даже вздрогнул от полной непредвиденности. Брат Андрей ни разу ни в каких кружках не бывал, ни с кем из его приятелей не водил знакомства и, следовательно, уж никак не мог быть заподозрен в противоправительственных замыслах. Скорее всего Федор Михайлович мог тут встретить старшего брата, Михаила. Меж тем последнего не было среди привезенных за эту ночь в III отделение.
Он вскочил с кресла, чуть не пролив стакан с чаем, и подбежал к Андрюше.
– Брат, ты зачем здесь? – с волнением проговорил он, схватив его за рукав, но жандармы в это время с чрезвычайной поспешностью повернули Андрюшу назад и увлекли обратно в соседнюю комнату. Так тот с разинутым от изумления ртом и скрылся от взоров Федора Михайловича, недоумевающе смотревшего на закрывшуюся дверь. Он был как бы в магнетическом сне. Столь необычное пробуждение, обыск и езда в карете в раннюю пору и в довершение всего впечатления утра в залах III отделения растревожили его не на шутку и повергли даже в некоторое уныние. И хоть в разговоре он вполне владел собой, тем не менее волнение явно мешало ему сосредоточиться. Он подозрительно разглядывал всех присутствующих и особенно внимательно осмотрел пришедшего чиновника, видимо в большом чине, усевшегося за столик, покрытый тяжелой, с бахромой, ярко-красной скатертью, в самом углу белой залы. Чиновник развернул бумаги и стал поочередно всех переписывать и проверять чины и звания каждого.
В это время засуетились в зале голубые господа. С лестницы донесся какой-то разговор, и послышались приближавшиеся шаги. В залу вошел сам граф Орлов и с ним вместе человек десять жандармских полковников и майоров, звеневших шпорами и сверкавших эполетами с золотым и серебряным шитьем. Орлов остановился. Остановились и жандармы. Арестованные стояли кучками вдоль стен комнаты и ждали, что будет дальше. Чиновник со списками в руках подошел к Орлову, заискивающе поглядел ему в глаза и в расползшиеся по щекам седеющие усы и что-то показал, прошептав при этом на ухо.
– Сколько всего арестовано? – спросил Орлов господина в важном чине, так, что все слыхали вдруг отрезанный и оборвавшийся, как при толчке экипажа, вопрос.
– Тридцать четыре, ваше сиятельство, – был расслышан также мгновенный ответ важного чиновника, поймавшего на лету слова начальства.
Орлов еще раз повертел в руках списки и ступил два шага вперед. За ним ступили два шага вперед и жандармы, снова зазвенев и засверкав побрякушками.
– Изволили, господа, незаконными делами заниматься? – строго и наставительно обратился Орлов ко всем арестованным. – Не оправдали доверия и увлеклись дрянными бунтовщическими теориями западных писак?!
Орлов остановился и пристально поглядел на стоявших. В это время раскрылась дверь в вестибюль и в сопровождении жандармов вошел в белую залу в широчайшем плаще и в широкополой шляпе, с взлохмаченной бородой Михаил Васильевич. Жандармы, завидев Орлова, как вкопанные остановились у дверей, а Михаил Васильевич, медленными движениями и с любопытством озираясь вокруг себя, небрежно прошел мимо Орлова к окнам, у коих и расположился, расстегнув свой плащ и принявшись налево и направо раскланиваться кивками головы. Глаза у него возбужденно блестели, а щеки были горячие и красные, будто у младенца из колыбели. Вслед за ним на пороге показался и Дубельт, рысьим взглядом озиравший все происходящее.
Орлов сперва даже не мог понять, кого это привели и относится ли приведенное лицо к делу, и лишь когда Михаил Васильевич стал у окна, догадался, что это, наверно, и есть тот самый дворянин Петрашевский, о котором он уже давно слыхал. По зале пробежал торопливый шепот и некоторое движение, так что строгие слова Орлова, которые должны были прошибить неопровержимой мыслью всех арестованных, были совершенно заглушены и как бы осмеяны появлением Михаила Васильевича.
Орлов гмыхнул и обернулся на жандармов и Дубельта.
– Над вами будет произведено строжайшее расследование всех поступков и намерений, – вдруг продолжал он, обратив голову снова к арестованным. – Суд разберет дело и повергнет свое решение на рассмотрение государя.
При этих словах Михаил Васильевич повертел нетерпеливо своей шляпой и совершенно недвусмысленно улыбнулся, впрочем со свойственной ему всегдашней любезностью и даже доброжелательством.
Излив свои грозные чувства перед столь избранным обществом, Орлов с поспешностью спустился вниз, сопровождаемый адъютантами. Исчез куда-то и Дубельт.
В зале остались только важный чиновник и несколько жандармов. Однако их присутствие не помешало возбужденному обмену мнений по поводу только что произнесенной, весьма суровой речи. Ястржембский залпом выпил чашку кофея, очевидно боясь расхохотаться, причем все-таки хихикнул странными звуками прямо в чашку и поспешил вытереть усы носовым платком.
Михаил Васильевич стоял с задумчивым видом – так, как будто бы рассматривал в палисаднике свеженькие цветочки, улыбаясь и размышляя про себя насчет Орлова: и произошло же на свет божий этакое преудивительное явление природы!
– Подлец! Не правда ли, подлец? – подскочил к нему Баласогло, прошептав на ухо.
Федор Михайлович никак не мог устоять на одном месте и расхаживал из угла в угол. В глазах у него было написано презрение к судьбе.
До самого позднего вечера никто не знал, к каким решениям прибегнут высшие власти в отношении арестованных – отведут ли всех на одиннадцатую версту или уж прямо в Сибирь. Лишь часов в девять прибежал низенький жандармский подполковник и объявил важному чиновнику о том, что скоро мосты наведут и поэтому пусть тот не беспокоится насчет перевозки арестованных в Петропавловскую крепость. Действительно часов в одиннадцать явился в свой приемный кабинет сам Дубельт и приказал поодиночке вызывать к себе арестованных.
Первым был вызван Николай Александрович. Он пошел мерной поступью, не торопясь и с молчаливой улыбкой оглядывая присутствующих.
Было довольно мрачно, так как в зале и в следующей большой комнате горело лишь несколько свечей. Но Федор Михайлович запомнил удалявшуюся в кабинет Дубельта фигуру Николая Александровича: высокая, изящно-уверенная, она плавно, как бы на воздушном шаре, отчалила в серовато-желтое пространство и скрылась в широких дверях, охраняемых дежурным жандармским унтер-офицером.
Более она уже не показывалась. Как ни ждал Федор Михайлович, когда же появится Николай Александрович вновь, уже после допроса, так и не дождался: Николай Александрович уже более не появился. Его увели из кабинета другим ходом и отправили, видимо, прямо в Петропавловскую крепость. Точно так же поступлено было и с прочими: всякий отправлявшийся на кратковременный допрос к Дубельту более в приемные залы не возвращался.
Ожидавшие допроса томились в углах. То заговаривали друг с другом, пока какой-либо чиновник не прерывал незаконной беседы, то лениво сидели у столов и позевывали. Михаил Васильевич для эстетического препровождения времени пересказал любопытнейшие истории из жизни великого философа Аристотеля, которого, оказывается, все кругом обманывали (в том числе и он сам себя) и каждый ничтожнейший эллин старался хоть чем-нибудь досадить ему.
В конце концов всем чрезвычайно захотелось спать, особенно после проведенной бессонной ночи. Михаил Васильевич умолк, и не прошло и получаса, как и он сам беспощадно захрапел, сидя в кресле у трюмо, так что когда дошло дело до него и надобно было и ему шествовать в загадочный кабинет Леонтия Васильевича, то потребовались довольно сильные внушения, чтобы привести его в приличествующее событиям состояние. Он пробудился с какими-то странными возгласами. Губы у него вздрагивали, и свернутая в сторону борода выражала совершеннейшее недоумение перед происходящим.
– Господин Петрашевский, – старался уговорить его щегольски одетый жандармский унтер, нагибаясь корпусом прямо к бороде Михаила Васильевича, – пожалуйте-с… Пожалуйте-с…
Но пробудившийся Михаил Васильевич продолжал стоять на своем:
– Да ты, милый мой, лучше похлопотал бы насчет ужина для уважаемых гостей… Самоварчик томпаковый принес бы, пастилу бы захватил или варенья киевского к ханскому чаю… А?!
– Пожалуйте, велят к их превосходительству… – не унимался жандарм.
– Велят! Велят! – передразнил Михаил Васильевич с чрезвычайной тоской в сонном голосе. – Да что значит «велят»? Ровно ничего не значит… Так и запомни, драгунская твоя совесть…
– Приказано-с – и все тут! – почти вскричал унтер, и щеки его даже вздулись от нетерпения.
Михаил Васильевич поднялся со стула и, разгладив пятерней бороду так, что она уж приняла подобающий ей от природы вид, не менее громко пробасил:
– Ну-ну, пугать будешь в огороде, а меня нечего! – с этими словами двинулся к кабинету Дубельта, тяжеловесно ступая по паркету. – Ты думаешь, если у тебя тут позументы нашиты, так уж и владычествовать имеешь право? – бросил он на ходу, пересмеиваясь со стоявшим тут Толлем. – А знаешь ли ты, что сказал де ля Крус? Он сказал: «Истина диктует, а я пишу». Так вот ты и запомни, казенная душа, – истина мне диктует, а я делаю. Истина, но не ты!
Жандарм, не слушая и не отвечая, торопился к двери, но Михаил Васильевич вдруг еще на мгновенье остановился и нежно, совершенно по-детски, улыбнулся и заметил:
– Вы видали, господа, в вестибюле сего здания статую Венеры Калипиги? Как она в тунике, гордая и сильная, выходит из волн… прямехонько в приемные залы III отделения. – Михаил Васильевич при этом залился смехом, и с ним вместе захохотали и все находившиеся в зале и еще не призванные к Дубельту. – Эдакое осмеяние, можно сказать, неаполитанского искусства!
Меж тем жандарм уже открыл дверь в кабинет Дубельта.
– Приятных сновидений, господа! Приятных сновидений! – провозгласил Михаил Васильевич и с тем исчез за широкой дверью приемной Леонтия Васильевича.
– Господин Достоевский! – прокричал жандарм утробным голосом, выискивая среди арестованных незнакомую ему фигуру следующего по очереди вызываемого.
Федор Михайлович слегка вздрогнул и при этом почувствовал, как на мгновенье все примолкли. Он оглядел залу со всех концов, потом оправил свой жилет и тихоньким голосом откликнулся:
– Здесь.
Через минут пять жандарм открыл перед ним двери в кабинет Дубельта.
Под сводами Алексеевского равелинаПодойдя к самому столу, за которым сидел Дубельт, Федор Михайлович посмотрел на него воспаленным взглядом. Лицо Федора Михайловича было бледно-землистое, и чрезвычайная усталость сразу заметна была в глазах.
Дубельт как будто даже приподнялся на своем кресле, желая, видимо, рассмотреть поближе сочинителя Достоевского.
Федор Михайлович с не меньшим любопытством заметил худоватое лицо генерала, того стража законов и порядков, о котором вся столица говорила с трепетом. Лицо было освещено тремя свечами, лучившимися под шелковым темно-малиновым абажуром.
Широкие усы, расползшиеся по обеим щекам и слившиеся с бакенбардами, поблескивали заграничными помадами, а веки показались Федору Михайловичу опустившимися и припухшими, видимо уже от старости. Глаза же направили тотчас острый и колющий взгляд на вновь пришедшего, будто приготовились подразнить, осмеять и даже совершенно уничтожить.
– Достоевский? – начал Дубельт с расстановочками. – Прошу! – он указал на кресло. – В числе прочих, вам хорошо известных, лиц вы арестованы, как соучастник преступных намерений, направленных против могущества и спокойствия Российского государства. Следствие обнаружит во всей полноте степень вашего участия в сих намерениях, теперь же мы вынуждены препроводить вас для заключения в крепость. Поручик, – обратился он к стоявшему в углу офицеру, – арестованного Достоевского п р е п р о в о д и т ь!
Дубельт, очевидно, торопился и потому был весьма краток; в течение ночи необходимо было всех арестованных перевезти в крепость. На лице его явственно выступала поспешная и беспокойная сухость.
Федор Михайлович выслушал столь значительные фразы Дубельта и даже уже ступил шаг к поручику, намереваясь уходить, как вдруг Дубельт, как бы вспомнив что-то недосказанное, поднялся с места.
– Сожалею, что и вы, Достоевский, среди этих п р о ч и х… Сожалею… А могли бы послужить достойным образом отечественному просвещению… – Дубельт при этом изогнулся перед Федором Михайловичем с удивительной осанкой, как бы спрашивая всей своею натурой, отчего это и в самом деле сочинитель Достоевский так уж недостойно повел свое литераторское дело.
Федор Михайлович вспыхнул и только выговорил:
– Служил и служу… как могу и нахожу нужным…
– Нужным-с? – переспросил с удивлением Дубельт. – Для кого ж это «нужно»? Впрочем, я еще буду иметь возможность услышать от вас объяснения насчет ваших «нужных» поступков… Извольте следовать с поручиком.
Федор Михайлович быстро прошел мимо Дубельта, не посмотрев в его сторону, и в сопровождении поручика вышел в переднюю, где надел шинель. Поручик указал ему выход во двор и попросил следовать за собой. Во дворе ожидала карета, в которую и сели поручик и еще один жандармский унтер-офицер вместе с Федором Михайловичем.
Езда продолжалась довольно долго. Шторы в карете были и на этот раз спущены, и потому Федору Михайловичу трудно было разобрать, куда именно сейчас его везут, хоть он и был предупрежден насчет крепости. Но все же он почувствовал, как проехали наводной мост, как повернули куда-то налево, потом взяли правей, потом, видимо, проехали под каким-то сводом (стук от колес вдруг стал коротким и звонким), потом снова покатили по мостовой и снова проехали под несколькими сводами, пока не остановились уж на мягкой, немощеной дороге.
Когда Федор Михайлович вышел из кареты и огляделся вокруг себя, то заметил, что уже начало светать. За шпилем Петропавловского собора яснели блики нового утра.
Поручик и унтер-офицер привели его в маленькую и низенькую комнатку комендантского флигеля. В комнатке с необычайно толстыми подоконниками и серыми стенами стоял стол, несколько скамеек и висел хмурый портрет Николая I, с длинным носом и красными щеками, на которых лихо вскидывались закручины коротких усов.
Под самым портретом сидел на скамейке широкий и мясистый генерал с розовой лысиной – это был комендант Санкт-Петербургской крепости генерал Набоков. Ему-то и поручено было принять под свое наблюдение всех арестованных и заключить в казематах Алексеевского равелина впредь до рассмотрения всего дела. Глаза генерала вскинулись и остановились на вошедших.
– Достоевский? – быстро спросил он.
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – отрезал жандармский поручик.
– Отведите в седьмой нумер, – приказал он и тут же добавил стоявшему рядом полковнику: – Надо скорей отделать временные казематы. Распорядитесь о немедленном приготовлении.
Лысина после этого снова опустилась и засверкала над свечой, и генерал углубился в следующие бумаги.
Федора Михайловича повели через открытый маленький дворик к противоположному крылечку, ввели в темный коридор и остановились перед дверью с ярлыком «7». Подошел караульный с тяжелой связкой длинных ключей, звеневших, как кандалы, и отпер замок. Отняли засов и открыли дверь. Федор Михайлович вошел в довольно длинную, хоть и узкую, комнату, за ним вошел и караульный и поставил на уступе оконной амбразуры горящую плошку (было еще по-утреннему сумеречно). Потом караульный вышел в коридор и с шумом и скрипом закрыл дверь. Щелкнул замок, и стонуще заскрипел засов. Федор Михайлович очутился один.
Сперва он совершенно не знал, как поворотиться в такой новой и неожиданной обстановке. Он оглядел стены, подошел к койке, стоявшей посередине комнаты, потрогал руками столик возле нее, пощупал тюфяк и подушку и хотел было сесть. Потом раздумал и подошел к окну. Окно было необычайно высоко – под самым потолком, под сводом, так что достать до него руками было невозможно. Когда совершенно рассвело, он вгляделся в это окно. Из него были видны какая-то крыша и деревцо, колыхавшееся худенькими стебельками. Окно было почти квадратное и небольшое. Свет из него падал на середину каземата, так что углы почти не освещались. Стены показались Федору Михайловичу серыми и просыревшими. Как будто даже какая-то мутная жидкость тоненькими струйками стекала по ним вниз, так что глазу даже и незаметно было.
Федор Михайлович хотел снять шинель, но вдруг почувствовал холод и еще туже запахнулся. Он отошел от окна и прошелся взад и вперед, как бы раздумывая: что же делать, сесть или лечь и лежать, и до каких пор лежать? Он еще и еще раз подошел к окну, стал, чуть отступя от стены, так, чтобы видеть из него как можно больше, и задумался. Он вспомнил о том, что он здесь не один, что, несомненно, они тоже тут, рядом с ним, – и Михаил Васильевич, и Николай Александрович, и Сергей Федорович, и все, все уж наверняка здесь, и так же, как и он, расхаживают по казематам, и, быть может, так же не знают, куда себя девать и к чему обратиться.
И это его несколько успокоило.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
А идею решено защитить до концаТак наступило для Федора Михайловича совершенно и н о е и, быть может, никогда не воображавшееся им с самых ранних лет время. Он вспомнил, что некогда часто читал о преступниках и их жизни в тюрьмах, но никак не мог даже и предположить, что и он сам когда-нибудь попадет в положение «преступника», которого посадят в отдельную камеру и запрут на замок и даже неизвестно, на сколько.
И вот теперь он сам в одиночном заключении. Он заперт, за ним следит глаз караульного, и каждое движение его отдано под контроль.
Первые дни он не мог даже разобраться в своем новом, удивительном положении, то есть не мог поверить тому, что это именно о н сидит тут запертым и рядом с ним так же заперты человек тридцать или еще более и всем им предстоит допрос, а далее суд и уж наверно ссылка в Сибирь. Но немного спустя он попривык к этому новому положению и стал вычислять и обдумывать с в о й вопрос, и целый новый мир ощущений, предчувствий, намерений и объяснений спустился в его душу. Главное, к чему приходил он в своих размышлениях, была загадка: нечаянно ли все это произошло или тут настоящая и математически рассчитанная цель? Разрешение ли это всего вопроса или только просто-напросто кто-то наступил на горло в самый тревожный и высокий момент мысли, не дав прийти к ясному выводу?
В каземате стояла беспробудная тишина. Только бой башенных часов где-то неподалеку да лязганье засова за дверьми иногда вспугивали удивительное спокойствие мертвых стен. Федор Михайлович старался представить себе, что окружает его за этим окном с решеткой. Он знал, что он – в Петропавловской крепости и что тут рядом течет Нева, а у берега ее идут крепостные стены и валы, и среди них укрепились бастионы с пушками… Но все это были одни только отвлеченные мысли и не более. Коренные вопросы, самая-то суть надвинувшегося дела, причем дела, ради которого отдано было уже немало тончайших умственных исчислений, вот что тревожило Федора Михайловича в самых эксцентрических подробностях.
Он был о д и н. От самого рассвета до поздней ночи (да и во всю ночь) он был предан самому себе и все смотрел в себя, то воображая себя обреченным на гибель и приходя в исступление от расходившихся мыслей, то чувствуя себя как бы вдруг спасенным после бури.
Он вообще чрезвычайно мало спал, а тут, в томлении и муках одиночества, почти и не забывался сном. Все думалось и думалось… Клочки живой и издерганной действительности запрыгают вдруг перед глазами и понесутся вихрем куда-то вперед, лет этак за пятьдесят или даже и того более – в неизвестную глушь ожидаемых времен… А то вдруг провалятся в прошлые годы и всколыхнут забытые дела и забытых людей. И уж тут разойдутся на просторе… Примерещится детство и золотые сны юности, вспомнятся три комнатки деревенского дома с низенькими потолками, всплывут все замеченные в памяти слова отцовские и материнские, все запахи, которыми пропитались родные шкафы и ящички, когда кругом все было безмятежно и бесхлопотно.
Федор Михайлович ходил из угла в угол по своему молчаливому обиталищу. Сперва из одного угла в противоположный, потом менял направление и ходил из того угла в другой противоположный угол, иногда даже считая число шагов, сделанных в одном направлении и в другом, – так, для препровождения времени, когда шпигующие мысли уж слишком напирали и он начинал бояться их. Голова горела от всевозможных планов и намерений.
– Что ждет меня впереди? – закрадывался поминутно настойчивый вопрос, и тут аналитика бросала его в пот. – Тюрьма, ссылка, одиночество, нищета, бесприютное пребывание среди чужих и неведомых людей, вдали от братьев и друзей – и надолго ли? И где именно? В каких заброшенных людьми местах, в холоде и голоде? И как это все я перенесу?
– Скорей бы! Скорей узнать все, во всех, во всех подробностях, – думал и решал он, ускоряя шаги по кирпичному полу. Ему ужасно вдруг хотелось перепрыгнуть в теплую и светлую комнату и сесть у кипящего кофейника или самоварчика и насладиться уж всласть. Чрезвычайно любил он этот самоварчик с полудня и до самой ночи. Вместо того ему приносили похлебку с мелко нарезанной говядиной и кашу с оловянной кружкой квасу. Горячего чая не полагалось. А тут к тому же было холодно, с полу дуло, и он не снимал шинели своей в течение круглых суток, так в ней и спал.
– Когда же будет допрос? – высчитывал и разгадывал он, пробуждаясь после короткого сна, и сидя на койке, и меряя шаги, и глядя в окно. – Когда же? Никто ничего не говорит. По коридору каждый день перед полуднем обход начальства, караульный сторожит каждую твою минуту и каждый твой вздох. Но никто ничего не говорит, и тихо, тихо, ужасно тихо все кругом.
Федор Михайлович часто смотрит вверх в окно. Там, по небу, вдруг проплывет через все окно маленькое облачко. Как душа живая, выглянет, заиграет, улыбнется и скроется… И деревцо затрепещет вдруг худенькими листочками, маленькая березка такая, как раз верхушкой своей пришлась к окну. Федор Михайлович замечал, как вдруг мокрое тельце ее наклонялось к земле и выгибалось всеми стебелечками, словно стремилось в безумии от погони и взывало о помощи. Он догадывался, что это ветер выскакивал вдруг из ворот и налетал своим порывом на беззащитное создание. Потом вдруг дождь зашумит по стеклам и оконному железу, и станет серо в каземате, словно кто пеплом засыплет его.
Но все это – и облачко, и ветер, и дождь – все это было чрезвычайно нужно тут для отвлечения мыслей, для разнообразия и даже эстетики. Запахнет гарью или понесет сыростью, как из погреба, – и то чрезвычайно любопытно становится: догадываешься, как я почему это случается и что предпринято для устранения.
Вскоре наступили белые ночи, и луна, чуть вечер, стала заливать светом все окно, так что от решетки простиралась по кирпичному полу бледно-бирюзовая тень. Лежа на койке на твердом матраце, Федор Михайлович всякий раз долго разглядывал и размеривал эту тень, искривленную выбитыми кирпичами.
Решетка же словно сковывала рассудок Федора Михайловича. Он с усилием считал, сколько в ной квадратиков, и каждый раз выходило разное число: то сорок восемь, то пятьдесят два, то еще как-нибудь иначе. Но когда он от счета доходил в размышлениях до самой середины всего ее смысла, то тут все цифры бывали уж до конца спутаны и математика совершенно превращалась в хаос. Ибо что такое была решетка, как не признак некоего конца и тупика? Через нее не выпрыгнешь, и ее не преодолеешь, так по крайней мере разумеется. А расчет Федора Михайловича был весь направлен на преодоление, на бесконечность, на то, чтобы целиком знак переменить, минус на плюс, и тем самым посягнуть на неприкосновенные миры во имя всего бедствующего человечества. Ведь и страдальческая карьера была вся как есть рассчитана ради этого математического эффекта.
Федор Михайлович с ненавистью высчитывал квадратики. И мысли, словно с цепи сорвавшиеся, терзающие и фантастические, неслись прочь от этих точных углов, от размеренного квадратного окна, неподвижно-прямых стен и точнехонько пригнанной, наглухо запертой двери.
Ему хотелось все разрушить одним приговором возмущенного рассудка и доказать самому себе, что все права и цели его оправданы и никакой в и н ы, как думают и н ы е, у него нет и быть никак не может, и ему нечего оправдываться и не в чем раскаиваться.
Когда луна выплывала из-за облаков, Федор Михайлович схватывался с кровати и направлял взгляд прямо в окно, к свету. Лицо его, бледно-худое, и впалые щеки, и мутно-сухие глаза выдавали неутаимую тоску и вместе с тем ясную решимость. Он решил защитить свою идею, свое право оценивать жизнь и людей и бороться за них до конца.








